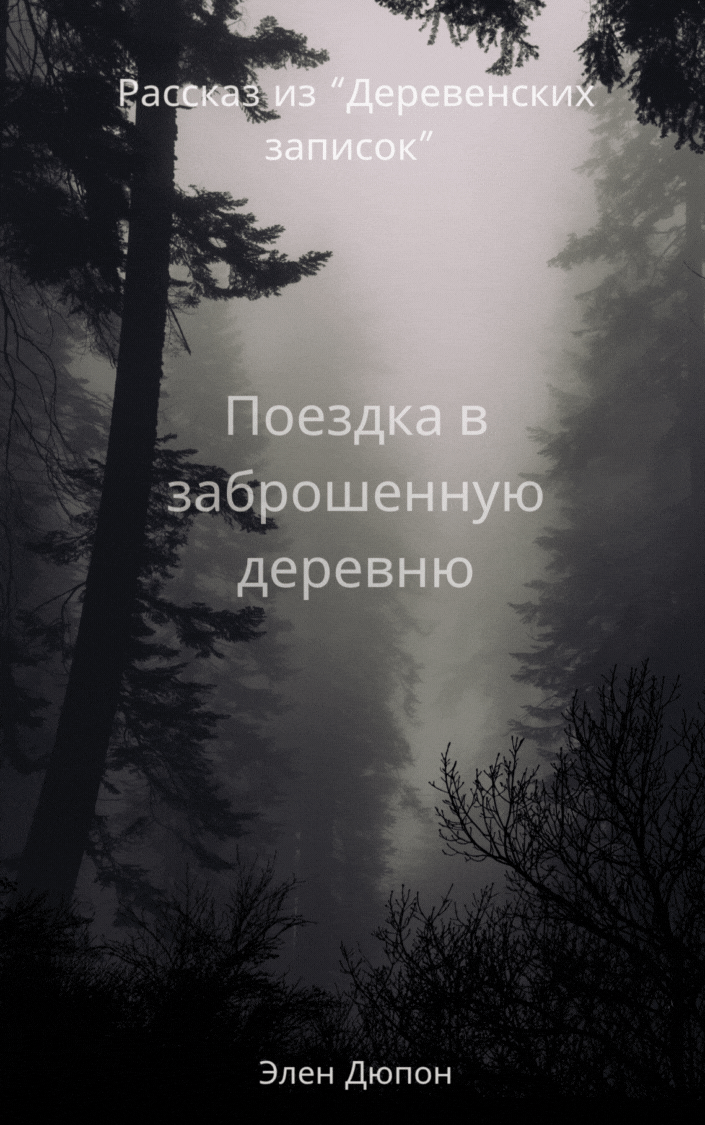Поездка в заброшенную деревню
Ежедневные заботы и уход за хозяйством в деревне — рутина. Сходить особо некуда, развлечений почти никаких. Клуб в деревне, конечно, есть, но работает в основном номинально — на праздники что-то устраивают, и на том спасибо.
Каждый развлекается как может: кто на рыбалку ездит, кто на охоту, кто «горькую» пьёт... А мы с мужем ни пить не любим, ни зверушек обижать не умеем. Вот и придумали себе развлечение — поездки по местным окрестностям. Объездили всю округу, все соседние деревни, да и до близлежащих городов добрались. Смотрели и заброшенные церкви, и большой храм, который начали восстанавливать, и старый полуразрушенный вокзал, и пруды, и реки, и даже бывший пионерский лагерь, что теперь стал джунглями из сосен.
Вот и в очередной раз сидим, планируем: куда бы махнуть? Я — как всегда — открыла карту на «Викимапии». Кто не знает: это международный бесплатный проект, географическая онлайн-энциклопедия. Там можно найти и отметить практически любой географический объект, а пользователи добавляют к картам описания, фото и местные легенды с душой — как сарафанное радио, только в цифре.
Много интересного я там подчерпнула — в том числе от местных жителей. Потому, что если спросить у соседей: «А что у вас тут посмотреть можно?» — в ответ только пожимают плечами: «Да нечего у нас нет». А вот на «Викимапии» я вычитала про одно местечко всего в 15 километрах от нас — заброшенная деревенька Тёткино. Люди оттуда уехали более 50 лет назад. Вот туда я и проложила маршрут.
Сергей, мой муж, за любой кипиш. Два сапога пара. Дети остались дома — сказали твёрдо: «Мы в ваших “экспедициях” не участвуем!» Ну и ладно. Мы поехали вдвоём.
Хорошо, когда машина внедорожник — можно не бояться пробуксовки на каждом кочке и уверенно штурмовать местность, где последний раз ездил трактор времён Брежнева. Была ранняя осень — та, что ещё ласковая, не кусается ветром, а только слегка щекочет прохладой и тихо нашёптывает: "Ну что, прощайся с летом, доставай тёплые носки".
Просёлочные дороги ещё не раскисли до состояния «всё пропало», по ним можно было ехать почти с комфортом — если не считать неожиданно появляющихся колдобин и наглых кочек, которые, видимо, решили, что их время пришло.
Мы пробирались к заброшенной деревне Тёткино: поля уже давно обмолочены, не скошенное сено золотилось при каждом луче солнца, как старая парча. Где-то на горизонте мелькали остатки стогов — неровные, перекошенные, словно забытые кем-то наспех. Над ними покачивались птицы — вороны, грачи, а может, и местные деревенские духи, решившие присмотреться, кто это тут по их землям разъезжает.
Луга тянулись до самого неба — ржаво-черные, щедро усыпанные опавшими листьями и последними упрямыми цветами, будто осень поиграла в лоскутное одеяло. Вдоль старой дороги, если это вообще можно было назвать дорогой, поднимался лес. Он был весь в золоте, меди и бронзе. Берёзы стояли как дамы на балу — стройные, нарядные, каждая в своём узорчатом платье. Осины дрожали от малейшего ветерка, нашёптывая свои тревожные лесные новости. А дубы — старые, массивные — смотрели на всё происходящее с тем самым взглядом, каким смотрят бабушки, когда ты идёшь без шапки.
Воздух был прозрачный, звонкий, пахло чем-то влажным, древесным и немного дымом — кто-то уже жёг сухостой. Машина шуршала по опавшим листьям, и казалось, что мы едем сквозь картину — живую, дышащую, нарисованную самой природой без всякой корректировки фильтров.
И только навигатор упорно пытался нас увести куда-то в сторону, доказывая, что "так быстрее". Но, как известно, быстрее — не значит красивее. Мы ехали медленно. И правильно делали.
Дорога или вернее, что осталось от нее вывела нас на расчищенную от деревьев местность всю заросшую непролазным дерном и разнотравьем и почти ничто не указывало на то, что здесь ког да то жили люди и тут, я увидела его - столб электрический.
- Смотри, Сергей, тут точно раньше был населенный пункт. - сказала я, указывая на покосившийся столб
И вдалеке виднелся ещё один, и ещё один — словно следы какого-то ушедшего в лес великана, который однажды решил принести сюда свет и цивилизацию, но так и не закончил начатое. Мы остановились. Машина мягко заглохла, а вокруг стало так тихо, что даже двигатель будто не решался нарушать покой.
— Тут точно кто-то жил, — повторила я шёпотом, говорить громко казалось неуместным. Место словно дремало, прикрыв глаза.
Мы сидели в машине в полной тишине. Молчали. Говорить ничего не хотелось, как будто мы приехали навестить данным давно почившего предка и не знали, что сказать.
- Сережа, а что ты знаешь об этой деревне Тёткино?
- Знаю, что тут жил отец моего двоюродного дяди Вовы. Дед Тихон, что все разъехались с деревни по городам и областным центрам а потом и последних стариков увезли, а теперь тут все развалилось за 50 лет.…да и растащили всё, что плохо и хорошо лежало.
Я слушала, глядя в машинное стекло. За окном плыли тонкие клочья тумана, цепляясь за сухие ветки кустов. Листья висели жёлтыми фантиками, как напоминание о недавнем празднике лета. Трава полегла, пожухла, прижалась к земле — будто и она хотела спрятаться от забвения.
— Получается, Тёткино теперь — просто точка на старой карте? — спросила я, не отводя взгляда от покосившегося столба, словно он и вправду всё ещё держал на себе прошлое.
Сергей кивнул.
— Да. Тут ведь ещё в семидесятых школу закрыли. Потом клуб. Магазин держался дольше — изба на пригорке, помнишь, мимо проезжали? Вот, вроде бы он и был. А потом всё. Один дед остался, он всех собак держал, — хмыкнул, — говорил, что к нему волки не сунутся.
— И что с ним стало?
— Увезли. В город. Не выдержал, говорят. Всё же, когда один — даже собаки не спасают.
Мы снова замолчали. Тишина снаружи будто прорастала внутрь машины. Только глухо тикали часы на панели, и капли дождя начинали медленно биться о стекло.
Я подумала, как странно — места умирают, а воспоминания живут. Кто-то помнит, как здесь пахла выпечка из печки. Кто-то — как бегал в сапогах по лужам после грозы. А кто-то, как дед Тихон стриг овец на том самом пригорке. И всё это исчезает, если не рассказать. Не записать. Не сохранить.
— А ведь могли бы выжить, — сказала я. — Если бы был интернет, дорога, школа. Местные продукты… Можно было бы открыть экоферму. Принимать туристов.
Сергей усмехнулся.
— Ну, так ты и приехала. Может, ещё и возродим.
— Или хотя бы напишем, чтобы не забыли.
Мы переглянулись и в этот момент словно заключили негласный договор — быть свидетелями. Рассказывать. Помнить.
Я потянулась к дверце машины.
— Пойдём. Посмотрим, что осталось. Может, кто-то и нас потом вспомнит.
Дорога казался упругой, как матрас, заросший мхом, и ступать по нему было приятно и страшновато — вдруг там колодец? Или подземный погреб?
Мы шли вдоль этих старых столбов, как по тропе памяти. Под ногами хрустела трава, увядшая, но ещё пахнущая летом. Где-то справа мелькнул камень с ровными краями — бывший фундамент? А чуть дальше обнаружился ржавый остов плуга, наполовину вросший в землю. Ещё один знак, что здесь жили. Работали. Надеялись.
И тут — щелчок. Вспышка. Нет, не фотоаппарат. Просто ветка хрустнула, и нам на встречу выскочил заяц. Огромный, белый, как будто слишком рано начал линять. Мы оба вздрогнули.
-Тьфу ты напугал косой! – заголосила я, и голос мой утонул в этой глуши погрузился как в пучину.
— Он, наверное, старого почтальона испугался, — хмыкнул Сергей, — который тут газеты развозил по расписанию ещё при царе Горохе.
Мы оба засмеялись, и напряжение немного спало. Лес, поля, тишина — всё это вдруг стало не таким уж и пугающим. Наоборот, место словно начинало нас принимать, впуская в свои заросшие, забытые миром улочки. Где-то здесь были дома. Где-то смеялись дети. Где-то варили борщ и ругались за то, кто не закрыл калитку. И даже если остались только столбы — память всё ещё жива.
— Надо будет вернуться сюда весной. Когда всё зазеленеет. Представляешь, какая тут красота?
— Представляю, — ответила я. И вдруг поймала себя на том, что говорю уже как местная. Как будто и не было той, прежней жизни — городской, шумной, с пробками, расписаниями и вечной спешкой.
— Давай посмотрим, может, какой металл найдём — всё сгодится, сдадим, денежка будет, — сказал Сергей, оживлённо потерев руки. В нём явно проснулась хозяйственная жилка.
— Хорошо, — согласилась я, — заодно побродим чуть-чуть. Мне хоть и жутко тут, но интересно очень.
И мы продолжили наше «исследование». Сергей уходил вглубь — сворачивал с заброшенной дороги, заглядывал в перекошенные крыльца и полуразвалившиеся сенцы. А я — нет. Я трусиха знатная. Сойти с дороги, пусть даже заросшей и еле угадываемой, — выше моих сил. Сердце колотилось, как у воробья, а воображение рисовало табун кабанчиков, медведя, старуху в чёрном или хотя бы бабайку.
Серёга тем временем методично складывал у машины добычу: три ржавых ведра, несколько цепей, старый тяжёлый утюг, две чугунные сковородки, тазы и чайник. Ещё было что-то бесформенное, но определённо металлическое — «в хозяйстве пригодится».
Я вертелась на месте, как флюгер на осеннем ветру, глазами выискивая возможные угрозы. И тут заметила полузасыпанный вход в подвал.
— Серёжа, а пошли глянем, что там! — предложила я, но сама, конечно, не пошла. С моим героизмом — только до первой паутинки.
Сергей спустился, а я в это время вдруг заметила в траве что-то странное. Похоже на клумбу, или каменное колесо, или даже остатки колодца. Камень был гладкий, с характерной выемкой, наполовину вросший в землю.
— Слушай, а это похоже на гранит! — сказала я мужу, когда он вернулся.
Очень я заинтересовалась находкой. Долго вокруг неё кружила, снимала на камеру, как настоящий деревенский археолог. Ну а как же — контент для YouTube-канала! Мало ли, может кто в комментариях подскажет, что это за чудо.
Позже, уже дома, внимательно разглядев фотографии и поискав в интернете, я поняла: это жернов. Настоящий. Каменный. Старый. От мельницы. Только одна половинка, конечно, но всё равно — мурашки по коже. Представляешь, сколько рук его крутило? Сколько поколений перемалывало здесь пшеницу и рожь, варило кашу, пекло хлеб...
И вот стою я посреди заброшенной деревни… Тихо. Только ветер шуршит в сухой траве, и ветка где-то скрипит, как расшатанная ставня.
Я закрываю глаза — и как будто вижу: вот тут был дом. Светленький, с резным крыльцом. У крыльца куры клюют просыпанное зерно, во дворе возятся дети — босые, в сарафанах, с деревянными машинками и куклами, сделанными из тряпок. Из-за дома выходит бабушка с ведром, машет рукой: "Обедать пора!" Старик сидит на ступеньке, точит косу, а рядом мурлычет кошка. Жизнь — простая, настоящая, шумная и тёплая.
А теперь... ничего. Всё растворилось — как пар в морозное утро. Дома сгнили, крыши обвалились, дорожки заросли лопухами, и даже птицы по-другому здесь поют. Ветер носит обрывки прошлого, будто спрашивает: "А помнит ли кто? А кому это всё было нужно?"
Комок подступает к горлу. Как будто пришла в гости, а тут уже никого нет. Ни встреч, ни голоса, ни запаха печёного хлеба. Только пустота и память.
Всё было, всё прошло. Но я помню. Пусть хоть кто-то да запомнит.
И уехали мы из Тёткино на закате. За нами тянулась пыльная полоса от колёс, как ниточка памяти. А в багажнике, среди ржавого хлама, звякал чайник. Пусть даже без крышки, но звенел — как будто прощался со своей деревней.
Свидетельство о публикации №225071000005
Алексей Мельников Калуга 10.07.2025 07:51 • Заявить о нарушении