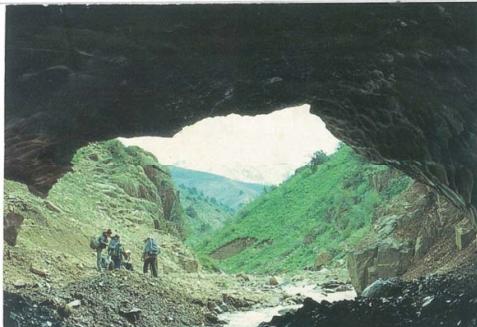Тропы
МАРК ШПОЛЯНСКИЙ
ТРОПЫ
Повесть
Израиль
2008
2
Редактор Семён Габай
Обложка Алёны Ягудаевой
Марк Шполянский. ТРОПЫ. Документальная повесть.
Количество страниц 230.
Издательство «Звёздный ковчег»
Израиль, Нетания, 2008
© Марк Шполянский. Все права
принадлежат автору
© Издательство «Звёздный
ковчег»
ИЗРАИЛЬ
2008
3
ОТ АВТОРА
Я сижу у моря, у большого синего, Средиземного…
Так и не стало оно мне родным. Всё время вспоминаю
горы – малые, большие, крутые.
Закрываю глаза и лечу над тропами Тянь-Шаня,
Памира, Кавказа … где мы только не были.
Вот обо всём этом я и хочу рассказать
Вам…
Вам…
Им…
Читая эту книгу, вы побываете вместе со мной и
моими друзьями-туристами во многих горных районах
некогда самой большой страны на свете – Советского
Союза, который, как говорится, «канул в Лету», но
память-то никуда не девалась. Так что давайте вместе
пройдёмся по туристским тропам Тянь-Шаня, Памира,
Кавказа и даже Камчатки.
Описания путешествий следуют не в хронологичес-
ком порядке, а по районам, где мы с ребятами бывали в
разные годы и разных условиях.
Главное – как говорил великий странник Николай
Пржевальский:
«А ещё жизнь прекрасна потому, что можно
путешествовать»…
4
5
Глава 1
Секция «ЗОДЧИЙ»
6
Юго-Западный Тянь-Шань
7
Дорогие друзья!
Я начинаю рассказ о былых походах с воспоминаний
о нашей замечательной когда-то секции горного туризма
«Зодчий» при Союзе архитекторов Узбекистана. Теперь,
по прошествии многих лет, отчётливо видно, что вот тот
порыв молодости, который казался нам занятием спортом
и просто физкультурой, на самом деле была наша жизнь.
С чего же всё началось, откуда всё пошло, кто был
первым, кто был зачинателем? Французы говорят: «Шер-
ше ля фам». И вот этой «фам» была Наташа.
Знал я Наташу в общем-то давно, через нашего обще-
го приятеля, известного в своё время альпиниста, горного
туриста, так сказать, первого поколения. Звали его
Геннадий Лаврентьев, он был интересный, неординарный
человек, поэт, бард, диссидент, любитель женщин – ах,
как он пел у костра!
Горный туризм в то время только, как говорится,
вставал на ноги, появился городской клуб, создавались
туристские секции, и всё это вылилось в мощное
туристское движение.
Мысль о создании своей секции при Союзе
архитекторов впервые промелькнула именно у Наташи.
Мы с ней были как бы одного цеха, т. е. оба архитекторы,
но работали в разных проектных институтах. По работе
мы не сталкивались, а вот в горах довольно часто на
маршрутах «ПВД» («поход выходного дня»). И вот как-то
в один прекрасный вечер у туристского костра она и
выдала идею о создании секции при родном «Союзе», где
нас согреют, обласкают, то есть дадут помещение, помо-
гут в приобретении снаряжения и т.д., в общем, будут
всячески нам содействовать.
А мы, конечно, изо всех сил обязуемся прославлять
родную организацию спортивными успехами и
достижениями, участвовать и побеждать в туристских
8
соревнованиях и походах, в общем, гордо нести знамя
Союза архитекторов по долинам и по взгорьям.
Ну, это всё так, для «понта», а на самом деле хотелось
собрать людей, любящих природу, путешествия,
туристские костры и песни, а заодно жаркие диспуты о
бытии и сознании. В общем, тех, для которых туризм
– смысл их жизни.
К тому времени я как бы закончил свою спортивную
карьеру в горном туризме, выполнил и перевыполнил
всяческие нормативы, имел высокий разряд «КМС»,
звание инструктора и другие достижения, так что
захотелось стать простым любителем природы, и,
учитывая мой опыт, делать всё на профессиональном
уровне, что даёт в первую очередь безопасность в
путешествиях и радость покорения дикой природы.
И вот, вдохновлённый и одухотворённый идеей
создания туристской секции, я представил наш план на
заседание Правления Союза архитекторов, где он получил
добро и всяческие дружеские пожелания. Оставалось
самое главное – подобрать коллектив. В подвале Дома
архитекторов была масса всяческих помещений, и нам
выделили довольно большую комнату, мы её быстренько
обустроили, известили о наборе, и к нам потянулся народ.
В основном это были работники проектных
организаций, лица умственного труда, которым остро
необходимо иногда двигаться, и они в большинстве своём
и составляли туристскую общественность города.
Расположение в центре города, своё помещение, ну и
вывеска: «Секция «Зодчий» при Союзе архитекторов»
действовали привлекательно, но отбор был тщательным и
бескомпромиссным. Мы практически не брали тех, кому
до 30, за исключением, конечно, девушек, которые
должны были украшать наши сборы. Когда тебе за 30, то
ты уже умудрён, рассудителен, имеешь туристический
9
опыт, а главное – туризм – это твой образ жизни, и тогда
нам всем вместе хорошо и комфортно.
Наконец-то после всех организационных работ мы
занялись подготовкой к весеннему 10-дневному походу в
нашем родном районе Юго-Западного Тянь-Шаня. Мы –
это ведущая тройка секции: я – руководитель,
ответственный за техническую подготовку Александр
Борисович и, естественно, завхоз Виталий Михайлович,
который сразу же получил кликуху «доцент». А он
действительно, как мы потом узнали, был доцентом на
кафедре в ирригационном институте.
Процесс разработки маршрута нам всегда нравился
больше всего, это, пожалуй, самая творческая часть
туристского похода.
К сожалению, в то время настоящего картографичес-
кого материала не было, он, как и многое другое, был
секретным. Все пользовались так называемыми «крока-
ми», т. е. от руки примерно в масштабе 1:100 рисовались
схемы или втихаря копировался рельеф настоящих карт
туристами, которые работали на топографических
предприятиях.
Причём им приходилось намеренно стилизовать и
маленько искажать изображение в целях т. н. личной
безопасности.
Так продолжалось вплоть до «перестройки», и где-то с
1985 года, когда всё хозяйство перевели на хозрасчёт,
наконец-то появились в продаже настоящие карты с
нанесением горизонтального рельефа, подробными
обозначениями рек, ручьёв, троп и т. д.
Но тогда все постоянно путались, редкие походы
проходили без ошибок: то не на тот перевал взобрались,
то вообще невозможно было сориентироваться – «и где
мы?».
Но, с другой стороны, это пахло романтикой, мы
10
чувствовали себя этакими Колумбами.
Учитывая все эти обстоятельства, хотелось, чтобы
первый поход нашей секции прошёл без сучка и
задоринки, а посему выбрали наиболее знакомый нам
район. У меня была большая личная картографическая
подборка, которую я начал собирать ещё в бытность моих
спортивных путешествий; но и в библиотеке клуба
туристов по этому району, как основному в нашем
регионе, было полно материалов.
Естественно, мы никогда не повторяли чьи-то походы,
всегда вносили свои коррективы. В каждом путешествии
должна была быть своя изюминка. Что-то новое,
неизведанное, далёкое, туманное. Вот и этот поход был
запланирован так, что часть его проходила по
знаменитому Алямскому кольцу, но только первая часть,
а затем по не хоженному никем из нас хребту Саргардон.
Но вот, наконец-то настал долгожданный день, мы с
утра собираемся в Доме архитектора, последние
приготовления, окончательная раскладка груза, и в 14
часов на стареньком «Пазике» выезжаем до слияния реки
Чаткал с рекой Ак-Булак. Это километров сто от
Ташкента. Дальше дорога идёт вдоль реки Ак-Булак до
кордона Чаткальского заповедника. Это точка, куда мы
должны выйти в конце похода, а сейчас наш путь по
набитой тропе вдоль реки Чаткал – к легендарному
перевалу Алям.
Мы сидим у костра, гоняем чай, рассказываем всякие
байки, а завтра с утра - радиальный выход на перевал
Алям. Пойдут только 5 человек, остальные займутся
добычей золота.
Я не оговорился – действительно река Чаткал издавна
славилась у золотодобытчиков, даже на нашей стоянке
мы обнаружили два сита для промывания песка, так, что
если, не дай Бог, что-нибудь намоем, то, видимо, наш
11
поход так и закончится «золотой лихорадкой».
Слава Богу, пронесло, кроме золотистого на цвет
пирита ничего не нашли.
Ура! – поход продолжается. Перевал Алям, пожалуй,
самый посещаемый ташкентскими туристами, а
знаменитое Алямское кольцо знали во всём бывшем
Союзе. Для многих это любимый весенний маршрут,
прохождение которого занимало 5 – 7 дней. Обычно
ехали автобусом до посёлка Брич-Мулла и шли вверх по
реке Кок-Су.
Живописные поляны, реликтовые берёзовые рощи, а
что стоила так называемая «щель»! Это место, где две
скалы, расположенные на разных берегах, настолько
близко подходят друг к другу, что вода пробивается
сквозь них действительно как из щели, образуя затем
довольно большую «ванночку», где так приятно
поплавать.
Вообще это высший кайф – разморённым, потным,
усталым плюхнуться в холодную воду этакой ванночки.
Через два дня подходили к перевалу Алям, где в
начале мая был ещё местами снег, но на южной стороне
уже вовсю цветут тюльпаны.
Далее группы спускались на реку Чаткал и вниз к
мосту до её слияния с рекой Ак-Булак, а там уже
описанная ранее дорога к остановке автобуса, идущего из
посёлка Брич-Мулла в Ташкент. Кстати, по ней мы и
будем возвращаться в конце нашего похода.
Итак, наши разведчики вернулись с перевала Алям,
где как бы провели визуальное изучение противополож-
ного хребта. По нему нам впервые предстоит пройти к
перевалам Нижний Зинах и Ароб, и далее к основному
перевалу Саргардон. Но всё это там, на левом берегу, и
нам предстоит сейчас переправа через реку Чаткал, а в
этом месте ширина её достигает почти тридцать метров.
12
Конечно, единственным способом это сделать можно
только на подвесной люльке метеорологов, которая, слава
Богу, ещё в состоянии передвигаться по натянутому
металлическому тросу. Научные работы здесь, видимо,
уже давно не ведутся, но местные охотники и пастухи
этой люлькой пользуются, так что мы, не опасаясь,
перебрались на тот берег.
Хотя переправа на этой долбанной люльке и
безопасна, но физически мы измотались, ведь она
самоходом катила только до середины, а дальше
приходилось вручную подтягиваться до опоры на другом
берегу.
Только часам к 4-м мы закончили это десантирование
и, совершенно обессиленные, плюхнулись на свежую
зелёненькую травку и так без обеда прокемарили до
первых звёзд, кроме дежурных, так что ужин у нас был.
С левого берега сразу же начинается крутой подъём на
гребень по довольно уже высокой траве, и далее траверс
под вершину Ак-Булак. В это время на ней довольно
глубокий снег, видимо, он там всё лето, так как вершина
довольно высокая, аж за 3000 метров, почти как Большой
Чимган.
Плавно набирая высоту, поднимаемся почти к
вершине, а затем траверсом проходим эти два перевала,
один за другим. Они рядом, через небольшое ущелье, и в
зачёт идут как одна «единичка».
Но это летом, а весной это, пожалуй, тянет на
«двойку», так как приходится идти в связках, со
страховкой, бить ледорубом ступени, в общем, применять
технику.
Ну вот наконец-то мы опять на зелёном плоском
гребне, здесь хорошая поляна, рядом журчит ручей, - что
может быть лучше для ночёвки. Там костёр, ужин,
отдых. Как хорошо после целого дня «пахоты»
13
расслабиться на лоне прекрасной природы.
И вот наш бессменный впоследствии завхоз,
Виталий Михайлович, демонстрирует старый
альпинистский приём поглощения пищи. Варится суп
(с вермишелью, мясом и т.д.) - сначала выпивается
юшка, затем принимаемся за густое, таким образом
остаётся впечатление, что ужин состоит из двух блюд.
Ну и, конечно, сладкий горячий чай. Короче, питание как
в лучших домах…
Весь следующий день мы проходили наиболее
трудный участок нашего маршрута – это перевал
Саргардон. На подступах к нему снега мало, но часто
попадаются участки со скалами, прохождение которых
требует определённую технику страховок (нижняя,
верхняя), а также постоянного внимания на случай
камнепадов.
Ну, тут, конечно, настало время блеснуть своим
опытом нашему технарю Александру Борисовичу. Он
показывает, рассказывает, требует, угрожает, но это всё
по делу для успешного прохождения.
Мы на перевале, небольшой закусон – и вниз, в
прекрасную долину реки Саргардон, впадающей в более
крупную реку Ак-Булак, которая, в свою очередь,
вливается уже в реку Чаткал.
Вот здесь, на слиянии рек Саргардон и Ак-Булак,
расположен кордон одного из самых крупных в Средней
Азии Чаткальского заповедника.
Нас уже поджидают, навстречу выходят сам хозяин-
лесник и с ним ещё несколько молодых людей. Это
рабочие леспромхоза, они ведут заготовку дров и
несколько летних месяцев живут здесь в деревянной избе.
Поначалу идёт, так сказать, официальный приём,
проверка документов, «откуда и куда», а затем
приглашают поужинать в их компании. Для наших
14
дежурных это лафа, да и палатку не надо ставить - лесник
предлагает целый деревянный барак.
Ужинаем как порядочные люди, за столом: шурпа,
лепёшки, катык (кислое молоко), а с нашей стороны –
консервы и бутылка спирта. Этот «пузырь» мы несём весь
поход как медицинское средство, ну а в конце его по
старой туристской традиции выпивают.
После ужина мы ещё долго сидим, но уже у костра,
идёт неторопливый длинный разговор о том о сём, обо
всём и ни о чём. А вокруг ночь, сквозь шёпот листвы
поблескивает лунный свет снежных вершин,
потрескивает костёр, стреляя искрами, и тишина. Пора
спать.
Встаём поздно, расслабились до предела, надеялись на
леспромхозовскую машину, но нас не взяли, она
полностью загрузилась дровами.
Лесник посоветовал идти вниз по дороге, где через 5 –
6 километров находится рудник, там машин много, так
что подберут. Нам, собственно, надо до большого моста
через реку Чаткал, где остановка автобуса из Брич-Муллы
в Ташкент. Но, увы и ах, пришлось все 20 километров
топать по дороге самим. Ну да ладно, торопиться некуда,
мы и так прошли маршрут на день раньше.
Вот и закончился наш первый весенний, большой и
массовый поход новоиспечённой секции горного туризма
«Зодчий». Сколько же их ещё будет? Уже можно было
говорить с уверенностью, что они будут всегда – большие
и малые, с большим и не очень количеством участников,
но они будут.
Мы вернулись в Ташкент, и через неделю встретились
на разборе «полётов» (так говорят авиаторы). Это действо
всем нравилось, тут была полнейшая демократия.
Каждый участник мог высказать своё мнение, что ему
понравилось в походе, а что – нет, можно поносить
15
руководство и даже обижать завхоза.
В отличие от самого похода, где в целях безопасности
нужно голое подчинение, здесь можно было отвести
душу.
Всё кончилось, конечно, товарищеским ужином, но
какой спускался пар!
16
Участники первого похода секции «Зодчий, 1978 г. (слева
направо): Александр Иванян, Марк Шполянский, Валентин
Зиновьев, Александр Кобец, Владимир Артемьев, Бахтияр
Баймухамедов, Виталий Сидельников, Галина Емельянова,
Ольга Патрушева, Ольга Русова, Наталья Кондыбко, Людмила
Фурсова, а также вне фото: Александр Трофимов, Александр
Алиев, Юрий Деглин
Сборы
в наш
первый поход
17
Вдаль глядящий
Привал
18
19
Глава 2
КАВКАЗ
20
21
Кавказ подо мною. Один в вышине…
А. С. Пушкин
Моя туристская биография начиналась именно с
Кавказа, где я впервые побывал на всесоюзном сборе
туристов в 1968 году. До этого я когда-то занимался
альпинизмом, был в альплагере «Дугоба», выполнил там
3-й разряд по альпинизму, потом длительное время –
армия, учёба в институте – я практически в горах не
бывал, разве что в вылазках на выходные. Но вмешался
Его Величество случай.
В июле 1968 года я защитил институтский диплом,
так сказать, закончил своё образование, а до работы в
проектном институте, куда меня распределили,
оставалось ещё 2 месяца отпуска, и стал вопрос: куда
податься?
И тут мне звонит Анатолий Могилевцев, с которым я
был знаком ещё в альплагере, где он тогда работал
инструктором, а сейчас его приглашают в ДСО
«Трудовые резервы» для создания отдела горного
туризма. А посему ему нужен человек, который сможет
организовать спортивную секцию «горняков» и
проводить различные мероприятия, как то: соревнования,
слёты, походы и т.д.
В то время по всей стране начали культивировать
туризм как спорт. Вот для руководителей будущих
спортивных секций и был организован Всесоюзный
семинар с проведением похода дней так на двадцать.
Сбор был намечен в августе на Кавказе при турбазе
«Красная поляна», это 50 км от Адлера, в красивейшем
горном месте.
И вот Толик предлагает мне съездить на этот сбор,
получить необходимые знания и в дальнейшем набрать
команду для занятий в секции горного туризма ДСО. На
22
эти сборы приехали со всей необъятной страны, а
командовать парадом, то бишь инструктором сборов, был
назначен известный на Кавказе бывший альпинист, а
ныне тренер Андрей Иванович. Ему было за сорок с
гаком, но выглядел он намного моложе.
Меня, как тоже бывшего альпиниста, он приблизил к
своей особе, и стал я его ближайшим помощником.
Особенно ему нравилось, как я готовил, уже будучи в
походе, украинский борщ. Делалось это просто: я
разводил готовый пакет с борщом и заправлял его
большой порцией перца, пряностями и всякой ерундой, а
он, оказывается, был любителем острой пищи и почему-
то ему казалось, что это вот моё какое-то особенное
мастерство.
Андрей Иванович всегда ставил меня в пример: «Вот
смотрите, как этот узбек готовит». А ещё здорово меня
выручало в походе то, что я взял с собой из дома
маленький этюдник с масляными красками и,
естественно, пинэн – масляный растворитель, которым
разводят краску. Вот этот пинэн и помогал мне в плане
разведения костра в любую погоду.
Я предварительно смачивал дрова этой жидкостью, и
они разгорались мгновенно. Долгое время ребята никак
не могли понять, как это у меня так лихо получается.
Ну вот, кончились наши теоретические занятия, и мы
готовы выступить в поход. Предварительно нас разбили
по 3 человека на одну палатку, выдали снаряжение,
рюкзаки, спальные мешки, верёвки и продукты. Всё было
новое, но очень тяжёлое, не в пример нынешнему. Тогда
одна палатка весила 5 кг в сухом виде, а продукты в
основном – это металлические банки (тушёнка, рыба,
сгущёнка и даже сливочное масло). В нашу «святую
троицу» входили: я, Вадик Немцов из Ростова-на-Дону и
Валера Терентьев – он постарше нас и был «важной
23
птицей», как мы узнали уже после похода. Оказывается,
он занимал пост первого секретаря горкома партии
большого индустриального города в Ростовской области
– ну, совсем как нарком Крыленко, покоривший в 30-х
годах семитысячник на Памире.
Вот такие люди были в наших рядах, но мы этого не
знали, и для нас он был просто хороший парень.
А вот что нам было известно, так это нитка маршрута,
представляющая из себя покорение многочисленных
перевалов разной категории сложности, посещение
района озера Кардывач с его достопримечательностью (об
этом позже), нарзанные источники и почти двадцать дней
в пути. Начинали и оканчивали мы этот поход на турбазе
Красная поляна, одной из самых больших и хорошо
благоустроенных.
Провожать нас вышли все – и туристы, и так
называемые «плановые», и персонал турбазы. Под звуки
бравурного марша мы покидаем тёплое гнёздышко –
вперёд к заоблачным высотам прекрасных гор Кавказа.
Мы идём сначала по дороге, которая ведёт на кордон
Псоух, а затем начинается медленный подъём вдоль реки
Мзымта к перевалу Ацетукский, до которого 2 дня ходу.
Здесь много нарзанных источников, но есть один так
называемый «царский нарзан», качество которого
совершенно потрясающее. В нём нет никаких примесей,
особенно сероводорода, а вот то, что нарзан газирован по
природе, я не знал. Набираю полную кружку, произношу
шутливый тост, и хочу выпить залпом, но тут я чуть не
задохнулся от неожиданности: холодный и круто
газированный нарзан создаёт впечатление 90-
процентного спирта, после которого нужно тут же
закусить.
Вообще на Кавказе много целебных источников, есть
даже целая Долина нарзанов, и местные джигиты
24
приезжают туда, ставят палатку, жарят барана, рядом из
турбазы к ним приходят девицы – вот так они и
отдыхают: нарзан, баран, бабы.
Но вернёмся к нашим «баранам». Мы спускаемся с
перевала на водораздел и разбиваем лагерь на ночёвку.
Семь палаток – целый городок, костёр, и бесконечные
байки о походах, о разных случаях и, конечно, туристская
песня.
Прошло много лет, и я уже не могу рассказать
полностью в подробностях об этом походе, остановлюсь
на ярких, «эпохальных» событиях. Одной из таких вех
был радиальный выход на озеро Кардывач,
расположенное выше озера Рица, под западными
склонами хребта Кутетеку. По площади оно меньше озера
Рица, но не менее красивое, а главное – здесь нет шумных
кампаний отдыхающих граждан.
Сюда даже организованные туристские группы
приходят редко, но на наше счастье ещё издалека мы
услышали песню, которой инструкторша развлекала свою
команду, а была она мощного телосложения и грубым
мужским голосом пела старую «каннибальскую» песню
«Хочу я крови, хочу я мясо, во мне играет кровь папуаса».
От неожиданности мы остановились – идти туда или
нет, а вдруг сожрёт? Но всё обошлось, и мы с ними даже
вместе пообедали. Но главной достопримечательностью
этого озера был доцент одного московского института,
который вот уже несколько лет буквально жил на озере,
оборудовав своё жилище, так сказать, сподручным
материалом. Палатка – это спальня, три сосны, обтянутые
полиэтиленом – это кабинет, стол, стулья – из сучьев, в
общем – Робинзон Крузо.
А писал он там, в тиши и глуши, докторскую
диссертацию в области физики и ещё чего-то. Помогала
ему в этом миловидная девушка – студентка института,
25
где наш «Эйнштейн» преподавал. Называл он её, конечно,
женой, а на каверзный вопрос нашего инструктора о том,
что в прошлом году вроде была другая жена, он
философски ответил, что всё в мире относительно.
Периодически «доцент» пополнял свои запасы в
посёлке Авадхара, куда ходил через довольно трудный
перевал, так что честь ему и хвала.
С каждым днём мы поднимались всё выше и выше, а
пройдя несколько перевалов, вышли в центральную точку
нашего похода – это перевал Анчхо, который
представляет собой наиболее сложный участок, особенно
на спуске. Крутой фирновый склон преодолеваем
методом «маятника», где один конец верёвки жёстко
закрепляется, а второй крепится за карабин на личной
«грудной обвязке» участника, затем он отходит в сторону
и как часовой маятник спускается на всю длину верёвки,
зарубается на склоне ледорубом, застраховывается за
него ребшнуром (вспомогательная небольшая верёвка
тонкого диаметра), который имеет каждый участник. Всё
это нужно для преодоления самого крутого участка, а
затем мы, глиссируя, как на лыжах, спускаемся до начала
морены.
Процесс такого спуска долгий, и пока все вышли на
морену, нужно было становиться на ночёвку. Разровняли
площадку под палатки, наскоро поужинали – и спать.
Ещё два простеньких перевала - и мы выходим на
прямую спуска – к турбазе. И вот тут, как говорится, на
ровном месте под «откос» летит наш Валера:
оступившись об какую-то корягу, он кубарем катится
вниз и слёту вклинивается между двумя соснами.
Конечно, перелом, но он улыбается: «голова-то цела».
За 20 км до турбазы мы несём его на носилках.
Встречают нас все, и под торжественный марш мы
через украшенную арку и толпу визжащих девушек с
26
цветами входим на центральную площадку, где нас
угощают традиционным компотом.
Ещё три дня мы околачиваемся на турбазе – надо
было сдать снаряжение, получить справки об окончании
семинара, собственно, для чего мы и съехались, немного
отъесться и привести себя в порядок.
И тут неожиданно директор турбазы предложил мне
остаться недели на две для того, чтобы сделать им стенд,
отражающий работу турбазы, - с рисунками,
фотографиями, графиками. Попросили именно меня, так
как знали, что я рисую, и у меня есть всё необходимое –
краски, кисти. Я с удовольствием согласился и принялся
за эту халтуру с условием, что предоставят бесплатно
проживание и питание.
Мне поставили койку в огромной шатровой палатке,
где уже жили человек 10 «лабухов» из Москвы – это
молодые ребята, которые играли бесплатно на танцах для
отдыхающих, а после этого ещё часов до 3-х – 4-х у себя в
этой палатке, куда приходила местная молодёжь.
В общем, нетрудно себе представить, какой это был
гвалт, так что через пару дней я решил вернуться в
павильон, где мы жили до похода. Ночью после всех
увеселительных мероприятий я пошёл в этот павильон,
где было несколько огромных комнат человек на 15 – 20
каждая, и вот наощупь, так как свет не горел, а зажигать
его было неудобно, я интуитивно двигаюсь к своей койке.
Неожиданно раздаётся женский голосок: «Света, это
ты?»
Вот, блин, наверное, кто-то привёл бабу, а это
довольно часто случается на турбазах, и я шёпотом
отвечаю: «Нет». Дохожу до бывшей своей койки, шарю
рукой по одеялу, а там лежит тело, я ещё раз ощупываю
его, а тело молчит, и тут я соображаю, что тело-то
женское, и шёпотом спрашиваю: «Разве это женская
27
палата?». И тут тело кричит на всю комнату: «А тебе,
козёл, что надо?»
Пулей вылетаю наружу и уныло подаюсь восвояси к
родным лабухам.
Наконец-то закончилось моё пребывание на турбазе.
Надоело отдыхать – пора уезжать, и я вместе с группой
плановых туристов на открытом специальном автобусе
еду в Адлер, а это почти 50 км вниз по горной дороге с её
бесконечными виражами.
Первые 10 км все поют, потом молчат, затем просто
всех тошнит – может, машина специально открытая. В
общем, в этом «нехорошем» автобусе я наконец-то
добираюсь до города – и сразу же в аэропорт. Тут
проблема: билет у меня есть, а вот место и дату нужно
зарегистрировать. Но как? – там такая толпа, что к кассе
не подступиться.
Два дня я безрезультатно пытаюсь оформить вылет, и
вот, как говорится, «хорошая мысля приходит опосля» - у
меня же десять этюдов, это же такой презент! И я бегу в
управление аэропорта, выбираю отдел, где больше всего
женщин – это, конечно, бухгалтерия, делаю вид
несчастного художника, умоляю помочь улететь, а взамен
предлагаю в дар мои два шедевра.
И – о, небо! – меня через служебный ход ведут к
самолёту, летящему с интуристами в Дели через
Ташкент. Сопровождающая, видимо, старшая по «буху»,
кричит летуну: «Володя, возьми парня, он переводчик». Я
тихо её спрашиваю: «С какого на какой?» Она смеётся:
«Какая разница, сиди и надувай щёки».
Вот так закончилось моё первое посещение Кавказа –
первое, но не последнее.
Прошло несколько лет, уже успешно работает секция
при ДСО «Трудовые резервы», и мы планируем
28
совершить летний поход на Центральном Кавказе, по
маршруту 4-й категории сложности. За основу взято
путешествие 5-й категории, которое в своё время прошла
группа ташкентских туристов под руководством Захара
Титиевского, моего давнего знакомого по клубу туристов,
и даже в общем-то родственника, так как одно время он
был женат на моей младшей сестре. Сейчас он живёт в
Чикаго, но мы иногда созваниваемся.
Для меня этот маршрут был серьёзным испытанием,
так как одно дело идти участником, как в первый раз, - и
совсем другой «коленкор» самому руководить походом.
Как говорил великий вождь всех времён и народов:
«Кадры решают всё» - так и у нас первой проблемой
было собрать людей, имеющих право на такое сложное
путешествие.
Большие умники в Москве каждый год усложняли
правила туристских мероприятий, повышали требования
к категориям сложности походов и перевалов, что и
затрудняло поиск людей, удовлетворяющих эти
требования. Таким образом, наша команда представляла
из себя сборный вариант из членов секции и ребят,
знакомых мне по городскому клубу.
Нас было 9 человек, но незадолго до выезда один из
участников не смог идти с самого начала, и мы
договорились, что он подключится к нам у альплагеря
«Шхельда» в Боксанском ущелье.
Вначале предстоял перелёт из Ташкента до
Минеральных вод, затем автобусом в город Нальчик, и
оттуда местным «Пазиком» до посёлка Безенги, откуда и
начиналась пешеходная часть маршрута: альплагерь
«Безенги», перевалы Безенги (2 Б), Башиль (2 А),
Грановского (2 Б) и Донгуз-Орун (1 Б) к дороге вдоль
реки Ингури, ведущей в город Зугдиди и далее – Сухуми,
Адлер, Ташкент.
29
Вот так красиво мы должны были пролететь, пройти,
проехать вдоль Главного Кавказского хребта, перевалить
его, окунуться в тёплые воды Чёрного моря, а загорать в
Ташкенте.
Мы сидим под большими кустами в городском парке
Нальчика, здесь наш бивуак на 3 дня до выезда на
маршрут, а подсказали нам это место в городском клубе –
оно как 5-звёздочный отель с видом на Главный
Кавказский хребет, но бесплатное для многих
прибывающих сюда туристских групп.
Рядом пивной бар оригинальной конструкции в виде
большой бочки со столиками тоже из бочонков, где почти
всё это время пропадали наши ребята.
Вообще мне кажется, что именно в этих местах Остап
Бендер продавал билеты на посещение «провала», а на
вырученные деньги будут якобы проводиться работы по
расширению горных троп. Нас так и подмывало
проделать то же самое. Но, увы, клиент уже не тот, что
был вчера, зато по ночам периодически раздавалось
грозное рыкание голодного льва из местного зоопарка,
расположенного в этой же парковой зоне.
Наконец-то закончились официальные дела по
оформлению наших документов, постановка на учёт и
получение контрольного срока. Пора в путь. Старенький
«Пазик» с лихим шофёром, еле вписываясь в повороты,
несёт нас к посёлку Безенги.
По дороге мы уже несколько раз прощались с жизнью,
но, слава Богу, всё обошлось, видимо, благодаря нашим
молитвам перед местной «стеной плача» - огромной
скалой, по которой течёт вода. Кто бы мог тогда
подумать, что пройдёт время, и я буду стоять у настоящей
Стены плача в Иерусалиме.
30
Мы приехали в посёлок, отсюда до альплагеря –
километров 10, и хотя есть грунтовая дорога, но идти
придётся пешком, так как кроме лагерной машины туда
ничего не едет.
В конце концов хватит кататься, пора и на своих
двоих под зелёным другом туриста - рюкзаком. Идём
вдоль небольшой, но очень бурной речки Безенги, где
перед альплагерем мост, у которого стоит столб с
указателем: «Налево – альплагерь, направо – туристам».
Так и написано – «туристам», чтобы не ошибались, так
как альплагерь очень серьёзный, здесь готовят
альпинистов высокого спортивного разряда, и всякое
«чмо» в виде нас их раздражает.
Но мы всё-таки сворачиваем налево, в альплагерь, у
нас письмо для старшего инструктора от незабвенной
Нины Степановны Шабановой, когда-то работавшей
здесь инструктором.
На территории лагеря несколько павильонов и
двухэтажный коттедж, людей не видно, как оказалось, вся
смена – на восхождении. Дежурный, видимо, где-то
кемарил, и мы беспрепятственно проходим прямиком к
коттеджу, где, нам кажется, и находится старший. Однако
никого нет, зато на втором этаже – биллиардный стол и
все причиндалы – кий, шары. Рюкзаки в стороны, и
начинается азартная игра, за которой нас и застукал
обалдевший от такой наглости дежурный.
- Как вы сюда попали, кто разрешил? – орёт он,
брызжа слюной и размахивая руками.
Не отрываясь от игры, сообщаем, что у нас «депеша»
к «старшому». Это как-то сразу меняет дело, Бог знает
что он подумал, но быстренько убежал, и через несколько
минут прибыл сам «старшой». Он читает послание, и
лицо его расплывается в улыбке и в каком-то блаженстве,
31
видимо, вспыхнувшее яркое воспоминание грело его
душу и тело.
Нас угощали чаем, компотом, предлагали остаться
переночевать, но тут мы были непреклонны и, согласно
указанию на столбе, ушли из лагеря.
Ночью было холодно – чувствовалось дыхание
огромного ледника, по которому нам придётся
подниматься к перевалу Безенги.
Поначалу ледник как ледник, но чем выше, тем круче
склон, стоят огромные «сераки» - это такие ледяные
сталагмиты. Пробираться между ними трудно и довольно
опасно, что совершенно замедляет наше движение. За
целый день мы прошли всего 700 метров, и только к 4-м
часам вышли на скальный предвершинный участок.
Сидим на наскальной полке и подкрепляемся на
скорую руку, даже чай подогреть некогда, до темноты
надо успеть ещё спуститься с перевала на морену.
Спуск довольно лёгкий, и вот мы уже на морене, где
есть площадки для палаток - спасибо туристам,
прошедшим перевал. Ужинаем «Завтраком туриста» - это
такие популярные консервы в эпоху развитого
социализма, когда исчезла тушёнка, а из рыбы осталась
только «килька в томате», ну, конечно, горячий сладкий
чай, как говорят на Востоке: «Чай не пьёшь – откуда силы
берёшь?».
С утра – спуск на зелёнку. Нам предстоит обогнуть
ущелье и снова набирать высоту под перевал Башиль.
На нашей схеме перевал был указан в самом крайнем
углу, так сказать, цирка после резкого поворота вправо.
Я говорю «схеме», потому как настоящих карт у
советских туристов не было, особенно в масштабе –
«километровка» - это 1 см равняется 1 км. Ну что вы, это
было страшным секретом – такие карты были только у
иностранцев, а мы пользовались схемами, кроками, то
32
есть, можно сказать, самодеятельным картографическим
материалом, сделанным от руки, на глазок, а посему было
трудно ориентироваться на местности. Спасало
туристское чутьё.
Вот и в этот раз, обогнув ущелье, мы стали: куда
идти? Тут главное – не торопиться, посидеть, подумать,
посоветоваться с коллективом. Перевал, который нам
казался самым подходящим на схеме, оказался совсем не
тот, и только благодаря нашей выдержке мы не
попёрлись на него.
А случилось так, что пока мы думали, гадали и
ставили чаёк, с перевала спустился бравый альпинист, он
делал разведку для восхождения своей команды и удачно
помог нам сориентироваться. Наш перевал был правее, а
этот намного труднее по категории сложности.
Мораль - как в том старом анекдоте, когда старая
бандерша советует молодой путане «не суетиться». Мы
быстренько собрались и рванули на наш перевал, подъём
на который технически не сложный.
Последние несколько сот метров идут по узкому
каменистому клуару, и мы буквально лезем друг на друге,
иначе возможен камнепад.
На перевале идёт снежок, дует ветер, а спуститься
надо по фирновому склону, и сверху он кажется довольно
крутым, так что до морены решаем идти в связках по
двое.
Когда мы уже почти закончили связываться, то
увидели, что снизу с морены на этот фирновый склон
поднимается какой-то человек с палкой в руках.
Вот это номер! Оказывается, это местный старик –
сван, который частенько хаживает здесь из своего посёлка
на турбазу, расположенную невдалеке.
Там, на турбазе, он закупает хлеб и другие продукты,
а туристам продаёт шерстяные свитера, рукавицы, шарфы
33
и знаменитые шапочки – сванки. Мы чуть не сгорели от
стыда, представляете картину: на склоне встречаются
группа идиотов в связках и старик с посохом.
Ну, раз так, применяется известный чимганский
приём: садимся на собственные рюкзаки и с гиком
несёмся к морене.
Часам к семи мы уже в чудном месте: журчит
кристально чистый ручей, вокруг берёзки, зелёная травка.
Лучшего места для стоянки не найти, но ночуем здесь
только я и Эдик, остальные смылись на турбазу. Танцы,
шманцы, обжиманцы, пиво, вино – всё это манит нашу
молодёжь, и ничем их не удержать, да и не надо, пусть
снимают стрессы, завтра всё равно днёвка.
Они вернулись утром как «огурчики», жёлтые и
сморщенные, но до обеда очухались и снова готовы к
туристическим подвигам.
Перевал Грановского – вот наше предстоящее
испытание, но это завтра, а сегодня – днёвка.
Целый следующий день мы потратили на подступы к
перевалу и к вечеру вышли на морену, где и стали
разбивать наш лагерь. В лучах заката видим
приближающуюся к нам группу туристов и, как
оказалось, тоже идущих на перевал Грановского. Они
располагаются невдалеке, и после ужина мы все у общего
костра.
Ребята оказались из Питера – тогдашнего Ленинграда,
они тоже делали «четвёрку», так что нам было о чём
поговорить. Конечно, в первую очередь – как штурмовать
перевал. По нашей версии, сначала подъём идёт по
скальному контрофорсу, и затем где-то посредине пути
нужно выходить влево, на предвершинный Фирн и зигза-
гом выходить на перевал. У них тоже сначала всё так же,
а вот там, где у нас выход налево, у них – наоборот,
направо, и между скальными выходами – подъём на
34
перевал.
По какой же версии идти, где лучше и безопасней? –
вот в чём вопрос. И мы их убедили, что наш вариант
лучше, но пути Господни неисповедимы. На следующий
день они ушли часа на два раньше нас и прошли перевал
по нашему варианту, а мы – по ихнему. Получилось это,
так сказать, спонтанно, по ходу дела, а вообще на
местности всё оказалось не так, как на схеме. Но самое
интересное, что мы уже спустились, отдыхаем, играем в
карты, и только через два часа с перевала запылили наши
друзья.
Как это получилось, я так до сих пор не могу
определить – ведь они же ушли раньше. Видимо, их
девчата подкачали. Мы дико извинялись, что ввели их в
заблуждение, и все смеялись над этаким парадоксом.
Дальше наши пути разошлись, нам – вниз, в Боксанское
ущелье, а им – вверх, на следующий перевал.
Перед нами – воспетое в песнях Боксанское ущелье с
знаменитыми вершинами Шхельда и Шхара, несколько
альплагерей, где-то там поджидает нас любимец женщин,
блондин с голубыми глазами Игорь Суханов. И
действительно, пройдя несколько часов вниз, мы
заметили на кустах этакий опознавательный знак,
указывающий на поляну, где, утопая в цветах, стояла
палатка, и мы услышали доносившийся оттуда девичий
хохоток.
Ну, так мы и знали: опять он развёл гарем, и стройные
альпинисточки ублажали нашего героя.
- Вставай, падла, хватит валяться, пора в поход! – вот
так мы его приветствовали, и, естественно, девочки тут
же смылись.
Впереди – Приэльбрусье, Терскол, знаменитый
горнолыжный центр. Здесь огромная турбаза
Минобороны, канатка, лыжные трассы и многочисленные
35
команды туристов и альпинистов, в общем, этакая Мекка
для правоверных любителей гор.
Это перекрёсток многих туристских маршрутов,
восхождения на Эльбрус, Чегет и другие вершины, в
конце - знаменитое кафе «Ай», перевал Донгуз-Орун и
выход к Чёрному морю, куда и держим свой путь.
Вблизи турбазы, вдоль реки Терскол, бесконечные
палаточные городки, но единственным условием для
пребывания в этом райском месте является
категорический запрет на разведение костров, дабы не
повредить экологии, а посему только примус – наш очаг.
Мы сидим у примуса, подбиваем, так сказать, бабки
нашего похода, впереди последний первал Донгуз-Орун и
выход на автодорогу, по которой можно доехать до
городка Зугдиди и далее в Сухуми.
Бедный Изя лежит в палатке, никак не оклимается –
перепился местным нарзаном, явно несвежим, как он
думает, а на самом деле в нём большой процент
сероводорода, так что пить надо меньше!
Два дня отдыха восстановили наши силы, и мы готовы
к покорению последнего Рубикона – то бишь перевала
Донгуз-Орун, аж 1-й категории сложности, на который
поднимаются даже велотуристы. Но сначала чаепитие в
кафе «Ай», куда можно подняться по кресельной канатке,
но за деньги, а так как их в обрез, то на своих двоих, это
где-то полтора километра вверх по крутому склону.
Зимой там спускаются лихие лыжники.
Здесь прекрасный обзор на двугорбую вершину
Эльбруса, знаменитый пик Чегет, где несколько лет назад
грузинские альпинисты во главе с легендарным Мишей
Хиргиани показывали демонстративное ночное
восхождение под лучами прожекторов.
36
Под перевалом, прямо на фирне стоят две старые
немецкие пушки, из которых вёлся обстрел защищавших
его советских солдат, и немец не прошёл. А вот следы
снарядов до сих пор видны на скалах. На самом перевале
множество табличек с именами защитников, а в
последнее время и бывших врагов. Это свой вклад внесли
туристы из Германии. Спускаемся по хорошо набитой
тропе в посёлок Накра. Здесь идёт дорога из Сванетии до
Сухуми через городок Зугдиди вдоль бурной реки
Ингури.
Конечно, никакого рейсового транспорта нет, а
пользуются попутными грузовиками, перевозящими
плановых туристов из турбазы Зугдиди до посёлка Бечо и
обратно.
Зато есть небольшая столовая или лучше сказать
харчевня, где сегодня в меню – жареный поросёнок, суп
харчо и «сухач».
Мы сидим на обочине дороги, ждём-с, и вот наконец-
то со стороны Бечо гудят несколько машин, набитых
туристами, но нас тоже берут эти безразмерные кузова,
конечно, никак не оборудованные для провоза людей.
Ещё когда мы в начале похода ехали в посёлок
Безенчи, нам показали класс местного передвижения, но
тут было ещё круче.
Там, где дорога была пошире, шофера старались
обогнать друг друга, и всё это делалось на дороге,
которая петляла по ущелью, где обрыв от совершенно не
защищённого края до бурной реки был где-то метров под
150.
И вот представьте себе картину: два грузовика,
стараясь обогнать друг друга, поровнялись и стеной
движутся вперёд, а навстречу мчится мотоциклист, но как
ему, бедному, проехать? И он добровольно выбирает
кювет.
37
А ещё есть технические остановки, где наши водители
не только облегчаются, но и обильно загружаются каким-
нибудь «Цинандали». И так, обливаясь холодным потом,
сцепившись друг с другом, часа в два ночи мы наконец-то
подъезжаем к турбазе.
Пускают только плановых туристов, а мы и ещё
несколько самодеятельных групп остаёмся, так сказать, за
бортом. Куда податься? Где приткнуться на ночь? И тут,
как всегда, спасают москвичи, представители столицы
нашей тогда родины.
Нахальство, наглость, самоуверенность этой
столичной молодёжи прошибает любой запор, и на стук
триконей об металлические ворота сбегается весь
инструкторский персонал турбазы.
За 2 минуты наши посланцы первопрестольной
вправляют им мозги, и нас всех не только впускают на
территорию турбазы, но и приглашают отужинать. На
следующий день мы уже рейсовым автобусом приезжаем
в Сухуми и останавливаемся тоже на турбазе, без всяких
эксцессов, где для самодеятельных групп предусмотрено
расположение на специальной площадке, плюс можно
купить талоны на питание в их столовой. Вот это
благодать! Вот это настоящее грузинское хлебосолье!
Дня три мы кантовались там, ходили на море,
загорали, предавались всяческим блаженствам. Поход
наш закончен, я прощаюсь с ребятами и уезжаю в Сочи
дней на 10, к маме, которая там отдыхает, а все остальные
должны ехать в Адлер и там оформлять билеты на
самолёт.
Когда через месяц мы собрались в Ташкенте на разбор
похода, оказалось, что приключения наших ребят тогда не
закончились, и в связи с тем, что билеты им оформили с
вылетом аж через 5 дней, надо было где-то перебиться.
38
Последние деньги они пропили сразу по прибытии в
Адлер. Из продуктов остались какие-то крохи. Что
делать? Они подались на пляж, поставили палатки и
промышляли рыбной ловлей, а также мучительным
поиском земляков, чтобы одолжить пару рублей, и тут же
их пропить.
Нет, они не были какими-то алкашами, просто
восстанавливался водно-алкогольный баланс в их
организме, замученном нарзаном. Пройдёт несколько лет,
и мы вновь посетим эти дивные места, но уже по другому
маршруту, и с другими участниками.
Пришла пора закончить эту повесть о наших походах
на Кавказ. Этакое «хождение по мукам», и это последнее
большое путешествие мы провели под знамёнами
доблестной секции «Зодчий» в июле 1986 года. В секции
не ставились какие-то спортивные задачи, важно было
показать ребятам новый для них район, всю красоту
воистину райских мест уникального природного
заповедника. Ну а так как спортивные планы не ставились
во главе угла, то в наших стройных рядах появились
женщины с их капризами, но зато питание стало более
домашним.
А теперь о самом маршруте, который проходил по
отрогам Главного Кавказского хребта от посёлка
Карачаевское до Приэльбрусья, а затем через перевал
Донгуз-Оруг в Сухуми. Как видите, заключительная часть
похода проходила уже по знакомым мне местам.
До посёлка Карачаевское мы добирались два дня:
сначала от Минвод автобусом до Теберды, оттуда – рукой
подать подать до знаменитого Домбая.
Была мысль сделать радиальный выезд туда, но, к
сожалению, именно в этот день автобус был отменён по
39
каким-то неизвестным нам причинам, так что едем сразу
в Карачаевское.
Это небольшой посёлок, но на автостанции много
народа, в основном группы туристов, ожидающих
транспорт, который развезёт их по разным ущельям, где и
начинается пешеходная часть многочисленных
маршрутов.
И вот, пока мы довольно долго ожидали свой «Пазик»,
к нам прибился новый участник, некий Арнольд из
Кишинёва. Он преподаватель, кажется, математики одной
из школ. Отпуск у них большой, он уже успел пройти
какой-то маршрут, но впереди ещё почти месяц отпуска,
и вот он нас уламывал взять его на наш маршрут. Ему
было лет под 40, здоров как бык, без вредных привычек.
Опыт у него есть, да и снаряжение в порядке, даже
собственная одноместная палатка, тайну которой мы
узнали потом, на маршруте.
В общем, посоветовавшись, мы решили его взять,
хотя, конечно, в этом была доля риска, но мы в него
поверили, да и девицы наши были не против.
Наконец-то подъехал наш «Пазик», и через 2 часа
езды по рытвинам и колдобинам местной автострады мы
прибыли в посёлочек, откуда начинается маршрут. Нам
предстоит пройти 6 перевалов и почти 120 км пути, выти
к подножью Эльбруса – Терсколу и завершить свой поход
на пляжах Сухуми. Путешествие технически не сложное,
перевалы единичные, кроме последнего – Боец, с
которого выход на ледники Эльбруса. Так что – гуляй,
Вася! Дыши свежим воздухом, наслаждайся видами
горного пейзажа, вкушай аромат туризма!
Конечно, самый лучший аромат в походе – это запах
дыма костра вперемешку с приготовлением ужина. Наш
завхоз - Виталий Михайлович, старый волк с большим
40
опытом распределения пищи. Где-то недодаст, недольёт,
не досыплет, а потом раздаёт ДБ – и все счастливы.
Любой поход, каким бы он ни был лёгким, это всё-
таки испытание на выносливость, ведь всё тащили на
себе, а груз, как говорится, давит на психику. Тяжело
было Валентусу – конечно, давал знать о себе возраст, и
хотя для своих 60 лет он был крепок, но вестибулярный
аппарат работал уже плохо. От этого появилась боязнь
высоты, неуверенность на сложных участках, в общем,
это была его предпоследняя лебединая песня.
После этого похода он с нами был ещё на Алтае, а
потом переквалифицировался в бадминтонщика.
Но самым большим открытием для нас была разгадка
тайны палатки Арнольда. На первой ночёвке мы, как
всегда, разбили свои палатки рядом друг с другом, а он
аж в десяти метрах от нас. Я го спрашиваю: «Что это вы
так удалились, это в общем нежелательно, здесь и дикие
звери шастают, загрызут невзначай».
Он помялся, стал говорить о том, как он чутко спит, а
молодёжь болтает до утра в палатках, так что, когда место
позволяет, он всегда устраивается на расстоянии.
Мы все проснулись от страшного храпа, который
доносился из его палатки. Какие дикие звери? Даже
снежный человек, услышав такое, рванул бы в Гималаи.
Мало того, он ещё всё время сомневался, а правильно ли
мы идём, не сбились ли с пути, и постоянно приставал к
встречным группам, сверяя карты, компаса, азимуты.
Вот такой оказался беспокойный человек, и поделом
нам, надо было ещё в Карачаевске культурно отшить его
под любым предлогом. Ну да ладно, какой-то толк от него
всё же был – он нёс часть наших продуктов, двигался
неплохо, и это прощало все его недостатки, да и Надьке
он нравился.
41
Ну, суть да дело, мы точно по графику подходим к
нашему основному перевалу Боец.
Перед нами красавец двугорбый Эльбрус, от перевала
до вершины перепад всего 1,5 тысячи метров. Так и
хочется бросить всё и рвануть на вершину! Но мы
туристы, нам надо покорять перевалы.
И вот мы на перевале. Здесь открывается грандиозная
панорама на ледниковые поля Эльбруса, испещрённые
трещинами, - вот туда-то нам и надо спускаться.
На самом перевале чувствуется дыхание прошедшей
войны, здесь мы увидели остатки блиндажей, ржавые
каски, патроны, не зря же этот перевал называется
«Боец».
Траверсируя, спускаемся на ледниковые поля, идём в
связках: всё-таки трещины, приходится страховаться. Ну,
слава Богу, всё позади, и часам к четырём мы уже на
дороге, которая ведёт в посёлок Терскол, а далее –
турбаза и огромная поляна, где останавливаются туристы,
альпинисты да и просто отдыхающие.
Как я уже ранее говорил, единственное условие
пребывания на поляне – это запрет на разведение костров.
По плану осталось пройти последний перевал Донгуз-
Орун, и дальше – Сухуми. На этом участке я уже был в
предыдущем вояже по Кавказу, а вот знаменитые
курортные места – Кисловодск, Железноводск и др.
были тоже рядом, ну как не посетить всесоюзные
здравницы.
Я предложил желающим составить мне компанию, а
Виталию Михайловичу возглавить группу для
продолжения похода в Сухуми. Конечно, мы все вместе
поднялись на Донгуз-Орун, и там наши дороги
разошлись: им – вниз в посёлок Накра, а нам – вниз –
опять в Терскол на эту же поляну.
42
Ещё пару дней мы там отдыхали, даже в баню ходили,
но что я себе не могу простить – что из-за лени, а может,
этакого расслабления, отказался подняться по канатке (не
пешком же) на отметку 4200 м по склону Эльбруса. Жаль,
ведь я в этот район больше не попадал, да и не смогу уже,
наверное, хотя на Кавказе я ещё бывал, но не там.
Через пару дней мы уехали на автобусе в Кисловодск,
а ребята наши, благополучно завершив поход, вернулись
в Ташкент.
Не знаю, интересен ли широкой публике наш вояж по
курортной зоне, скорее всего, нет, тем не менее расскажу
о нём – для себя, для своей памяти.
Кисловодск – небольшой, но уютный городок, в
центре которого находится огромное здание
водолечебницы и павильон, так сказать, распития
минеральной воды из специальных кружек с носиками,
как у чайника. Да, это вам не пиво пить с горла.
Мы рассчитывали оставить свои рюкзаки в камере
хранения на вокзале, но по каким-то техническим
причинам она не работала, так что пришлось таскать эти
лягушки весь день на себе.
Был ещё один вопрос – где заночевать, и нам
подсказали, что лучше Комсомольского озера места нет.
Это за городом – тишина, природа и мухи не кусают. Весь
день мы ходили, знакомились с достопримечательнос-
тями города, раскинувшегося на нескольких холмах,
поросших прекрасными соснами, создающими этакую
«ауру» кристально чистого воздуха.
На центральный холм идёт канатная дорога
(фуникулёр), а там, естественно, - ресторан, шашлычные,
пиво, воды. Есть тропа вдоль гребня, по которой можно
дойти до специальной смотровой площадки с видом на
Эльбрус.
43
Подымаясь и спускаясь на фуникулёре, вы как бы
пролетаете на бреющем полёте над огромным парком роз,
где собраны десятки разных сортов этих цветов, ну а
запах – сами понимаете.
На следующий день мы перебираемся в Железноводск
– город Железной горы, которая, как пуп, находится в
центре. У подножия раскинулся этот совсем неприметный
городок, ну, куда ему до Кисловодска, где отдыхали даже
царственные особы. Минеральная вода там не столь
вкусна, но очень, говорят, полезна для язвенников и
трезвенников.
На вершину этого местного Эвереста ведёт широкая
тропа и как бы спирально поднимается вверх, где нет
ларьков, и только обзорная площадка.
Вот прямо на этой тропе мы и поставили свои
палатки, и, измученные жарой, ходьбой а также
минеральной водой, крепко заснули. Разбудил нас шум
отдыхающей в местной здравнице толпы, которая лезет в
гору, задыхаясь от важности этой процедуры, называемой
французским словом «терренкур».
Вид наших палаток вызывает у них бурю восторга:
«Какие молодцы, настоящие туристы, не то что мы,
матрасники».
Приходится рано вставать, собираться, пора покинуть
курорты, но мы ещё вернёмся в эти края через пару лет по
профсоюзным путёвкам, а главное - посетим Домбай, с
которым у меня связана грустная память о Романе
Перском – моём первом инструкторе по альпинизму.
Ещё в далёком 1958 году я после окончания
строительного техникума работал по направлению в
проектном институте, и у нас была организована
альпинистская секция, где инструктором был Роман
Перский, известный в Ташкенте альпинист, мастер
спорта.
44
Тогда ещё не было спортивного туризма, и все
любители гор собирались под эгидой альпинизма. Здесь
были опытные тренеры, свои базы и альплагеря, куда
практически бесплатно направлялись участники
альпинистских секций.
Значок «Альпинист СССР» мы выполняли в Чимгане,
а вот на 3-й разряд нас направили на 20 дней в альплагерь
«Дугоба», где начальником учебной части была
тогдашняя жена Ромы, тоже мастер спорта по альпинизму
Галина Тысячная.
Разряд я выполнил, благодаря чему в армии начал
служить в горно-стрелковом полку, ну об этом можно
написать отдельный роман. А я вернусь в тот год, когда
после участия во всесоюзных сборах на Красной поляне
под знаменем «ДСО «Трудовые резервы» я собрался в
поход на Фанские горы.
В альпинизм я не пошёл, но с Ромой мы всегда
поддерживали хорошие отношения, бывали вместе в
горах на выходные и вообще работали в одном проектном
институте. Ещё за год до нашего похода он тяжело
заболел, то ли вирусным менингитом, то ли была опухоль
в голове, точно не знаю, но всё завершилось удачно. Он
оправился, встрепенулся и даже второй раз женился, ну и,
как и всех, кто любит природу, его потянуло в горы.
Я предлагал ему пойти с нами в поход, всё-таки после
болезни лазить на вершины, да ещё технически сложные,
наверное, трудно. Но, конечно, мы не могли заменить ему
дух альпинизма, друзей, да и красоту Домбая, куда его
пригласили инструктором альплагеря.
Вид этих мест завораживал всех, кто там бывал, а
сколько песен там было сложено, один только
«Домбайский вальс» чего стоит!
Конечно, он уехал туда и, как оказалось, навсегда:
45
там он похоронен на альпинистском кладбище, где на его
могиле стоит кусок гранитной скалы, а на ней ледоруб и
медный барельеф его лица.
Что же случилось, как это всё произошло, точно никто
не знает, но вкратце история такова.
Традиционно в альплагерях, в промежутках между
сменами, инструктора делают самостоятельные
восхождения для повышения своего спортивного уровня.
Вот и на этот раз собралась группа из четырёх
инструкторов, они разбились на две связки: одна – из
двух парней, вторая – Рома и девушка из другого
альплагеря, которой нужна была какая-то «пятёрка» на
горе Эрцог.
Уже на спуске впереди шла связка из ребят, вдруг
сверху посыпались камни, и от неожиданности у одного
из них выпал ледоруб. Тогда Рома отдал ему свой,
видимо, посчитав, что он самый опытный из них и
сможет обойтись без него.
Всё случилось при обходе Жандарма – скального
выступа на гребне, где, по рассказу ребят, наиболее
опасным местом была скальная полочка, местами
обледенелая, и вот по ней нужно было пройти метров сто.
Они, эти ребята, прошли первыми и сели ждать Рому с
напарницей, но прошло довольно много времени, а их не
было, и тогда парни вернулись к Жандарму, прошли до
места, откуда была видна полочка, но там никого не было.
Тогда они спустились в альплагерь и вызвали спасателей.
По заключению спасателей, трагедия случилась из-за
срыва связки с полочки вниз на крутой скальный склон,
где они, видимо, пытались затормозить, но у Ромы
ледоруба не было, ничего не получилось, и на склоне
видны кровавые пятна, а что там осталось от них самих?
Вот такая грустная история, но со временем боль
утраты утихает, и мы помним Рому молодым,
46
атлетически сложенным, красивым парнем, альпинистом-
джентльменом, как мы его называли.
У ташкентских альпинистов была, да и сейчас,
наверное, существует традиция увековечивать память о
своих друзьях, погибших в горах. У подножия Чимгана, в
верховьях речушки Чимганка, лежит огромный
гранитный валун, на котором закреплены памятные
таблички с именами альпинистов, погибших в разных
районах страны.
Весной, когда проводится Чимганская альпиниада,
участники, да и все, кто там находится, собираются у
этого камня, поют песни, делятся воспоминаниями, да и
просто плачут.
На этом я хотел уже поставить жирную точку наших
странствий по Кавказу, ан нет – в памяти промелькнуло
ещё одно посещение, но уже в качестве участника
семинара, всесоюзного сборища по горно-пешеходному
туризму в городе Майкопе.
Направили туда меня и ещё нескольких товарищей от
городского клуба туристов, за активную работу на благо
процветания туризма, а если проще – были выделены
места на семинаре, и послали туда не только туристов, но
и своих близких родственников, в общем, по блату.
Это же было для нас как бы дополнительным
отпуском, мало того, и на работе сохраняли зарплату. Эх,
были времена! Все эти семинары являлись кормушкой
как для слушателей, так и для преподавателей, которых
набирали из бывших известных спортсменов, и если для
нас это были отдых, развлечения, то для них – прямой
«левак», в общем, как говорил «партайгеноссе» Горбачёв,
наступал «консенсус».
Последний раз я видел Кавказские горы в
иллюминатор самолёта, когда летел из Тель-Авива в
Ташкент, но пути Господни неисповедимы, Бог даст, и
47
мы ещё будем любоваться гордыми пиками, ледниками,
лесами этого сказочного кавказского уголка.
Нас провожает с тобой
Гордый красавец Эрцог.
Нас ожидает с тобой
Марево дальних дорог.
Ю. Визбор
48
Учвстники Всесоюзного слёта туристов. «Красная поляна»,
1968 г.
Группа туристов семинара. Перевал Ацетукский. 1968 г.
49
Бравая группа туристов ВДСО «Трудовые резервы»
Туристы секции «Зодчий» и примкнувший (ужасно храпящий)
доцент из Кишинёва (крайний слева). 1986 г.
50
Вперёд и вверх, а там… Эльбрус. 1986 г.
Наш завхоз Виталий
«косит» под муллу.
1986 г.
51
Группа туристов «Зодчий» на площадке кафе «Ай».
Приэльбрусье. 1968
У Валентуса на исходе третья пара. 1986 г.
52
Приэльбрусье. На перевале «Боец». 1986 г. На заднем плане
виден Эльбрус.
53
Глава 3
ПАМИР
54
55
В далёком 1976 году я впервые попал на Памир, или
как его называют – «Крыша мира». В то время я ещё
активно занимался горным туризмом. Как спортсмену
мне для повышения своего т.н. уровня необходимо было
совершать путешествия разной категории сложности. Для
выполнения разряда КМС мне нужна была «пятёрка», а
так как Ташкентский клуб туристов был заинтересован в
спортсменах высокой квалификации, нам помогли
набрать команду из разрядников, имеющих право на
совершение похода этой высшей тогда категории
сложности.
Для прохождения маршрута мы выбрали
малоизученный район Юго-Западного Памира – южную
часть Горно-Бадахшанской области на границе с
Афганистаном. Естественно, были оформлены все
необходимые документы для нахождения в приграничной
области. Нас одели, обули, выдали снаряжение, набор
необходимых продуктов, оплатили авиабилеты туда и
обратно, так что мы полностью ощутили на себе прелести
социализма.
Для прохождения маршрута в высокогорном районе
необходима предварительная акклиматизация, и вот тут-
то мы при планировании допустили роковую ошибку,
которая потом выбила нас из колеи, но об этом позже по
ходу рассказа.
А пока всё начиналось прекрасно, весело и уверенно.
Из Ташкента – в Хорог, через Душанбе, мы долетели
почти за одни сутки, прошли инструктаж в штабе
пограничников на тему: как себя вести и что можно, а что
нельзя в приграничном районе. Особое наше внимание
обратили на то, что категорически не разрешается
разводить костры, фотографировать, пить воду из реки
Пяндж, по которой, собственно, и проходит граница,
вступать в контакт с людьми на противоположной
56
стороне, т. е. не орать им ничего, хотя что там кричать,
когда шум реки и так всё глушит, а уж пить из неё вообще
невозможно – вода вся чёрная от примесей глины и песка,
но для порядка мы кивали головами, расписались в
протоколе и смылись.
Пешеходная часть нашего маршрута начиналась от
посёлка Гарм-Чашма, что в 40 километрах от Хорога,
туда ходит маленький автобус прямо вдоль границы по
довольно хорошей асфальтированной дороге.
Что характерно с нашей (тогда советской) стороны –
хорошие дороги, добротные дома, сады, в общем, богато.
А вот там, на стороне Афгана, идёт только тропа вдоль
реки, а сами посёлочки в глубине – это несколько хибар
из пахсы (глиняные блоки), в окнах вместо стекла
бараньи шкуры, никакого электричества и духа там нет,
нищета непроглядная.
Мы все впервые попали на границу с другим
государством, чувствовали себя как-то приподнято и,
конечно, орали всем, кого видели на той стороне.
Посёлок Гарм-Чашма был известен не только в
Таджикистане, а, как говорится, далеко за его пределами,
и даже за границей, и всё это благодаря термальным
соляным источникам, которые лечат кожные заболевания.
Этот международный курорт оборудован двумя
деревянными бараками, один – процедурный, другой –
жилой, со столовой. Вот такой ненавязчивый сервис в
местном Баден-Бадене. Но самым интересным оказалось
то, что здесь есть и нарзанный источник, на окраине
посёлка, где мы и заночевали, упиваясь минералкой – ну
прямо Кавказ.
По плану, как я уже говорил, мы должны были
сделать пятидневное акклиматизационное кольцо с
прохождением трёх перевалов высотой где-то около пяти
тысяч, а здесь ниже и нет, попутно сделав заброску.
57
К сожалению, наша ошибка заключалась в том, что
вместо классического метода акклиматизации, который
заключается в подъёме, но и сразу спуске с высокой
отметки, мы почему-то решили сделать траверс с
попутным прохождением перевалов и не теряя высоты.
Вот тут-то и собака зарыта, так что вместо
акклиматизации мы получили совершенно обратное, нас
мутило, мы ослабли и в конце этого кольца трём
участникам, в том числе и мне, пришлось сойти с
дистанции. Я боролся до конца, но не помогла даже
днёвка. Так плохо я себя никогда не чувствовал, плюс ко
всему меня, видимо, мучила «горнячка».
Двое других сразу же спустились в посёлок, а я
попытался идти дальше, но, увы, буквально через час
подъёма почувствовал, что не могу идти. Вот желание
есть, а сил – нет. Я спустился в посёлок и покинул этот
край.
Ещё несколько месяцев я не чувствовал вкуса пищи,
но, хоть и получился первый блин комом, я поклялся сам
себе, что всё равно когда-нибудь обязательно буду на
Памире.
А что наши друзья – те, что выжили после этого
рокового кольца? Они, конечно, были намного моложе и
с успехом прошли маршрут, правда, без попытки взять
перевал Лукницкого – этот загадочный перевал, который
был как бы изюминкой похода. Но всё равно они
молодцы!
Прошло несколько лет, я уже ушёл из большого
спорта, мы организовали туристскую секцию «Зодчий»,
ходили в несложные технически походы. Но вот
однажды Александр Борисович предложил мне побывать
вместе на Памире в качестве рабочего топографической
экспедиции. В дальнейшем я ещё раз был там с
топографами, а в заключение водил на Юго-Западный
58
Памир группу нашей секции.
Вот обо всём этом мой дальнейший рассказ.
В то время в Ташкенте были две топографические
экспедиции, которые обслуживали Среднеазиатский
регион. Каждая из них периодически вела работы и на
Памире.
Первый раз в составе топографического отряда я
побывал в районе городка Гарм, там на его окраине была
база, и оттуда несколько бригад вели съёмку в разных
точках Центрального Памира. Я был в отпуску, и
Александр Борисович пристроил меня в свою бригаду в
качестве рабочего, или проще – «шерпа», т.е. носильщика
грузов, в чьи обязанности входило топографическое
оборудование, продукты, палатки, верёвки и т.д.
Обычно для съёмки бригаду (это человек 5-6)
забрасывали вертолётом, но иногда и машиной. Был я там
всего месяц, но какой месяц! – это был театр, цирк,
альпинизм – всё вместе взятое.
Александр Борисович, правда, приехал пораньше, а я
уже добирался самостоятельно. Прилетел из Душанбе в
Гарм и оттуда пешком добрался до базы экспедиции. Они
фрахтовали у местного совхоза четыре домика,
расположенные на берегу небольшой речушки. Место
открытое, днём жарко, но вечером прохладно, так что
спать приходилось в спальных мешках, которые
необходимо было встряхивать, потому что несколько
фаланг, а иногда и скорпионов, в течение дня залазили
туда, поджидая добычу.
Коллектив экспедиции был разбит на несколько
бригад, которые работали на разных точках. Обычно
съёмки велись семь, девять дней, но иногда и меньше, в
зависимости от сложности объекта.
59
Cлавный коллектив экспедиции был весьма
разношёрстным, костяк составляли штатные работники.
Но и немало было сезонников - это не только рабочие, но
и специалисты околотопографических профессий,
геофизики, астрофизики, геодезисты и даже один
астроном из Академии Наук.
И вот этот спаянный, сплочённый и спитый коллектив
выдавал на «гора» съёмки для составления картографиче-
ского материала на благо тогда ещё родного государства.
В свободное от работы время «бухали» по-чёрному,
но исключительно добровольно. Привозили несколько
ящиков зелья, садились в кружок, на такие же ящики из-
под уже выпитого, и, что характерно, без всякого шума
пили день, два и даже три, отлучаясь только на «двор», и
поспать.
Но, конечно, рекордсменами по «принятию на грудь»
были завхоз и его подсобник. Утро у них начиналось с
риторического вопроса «Михалыч, тёплую водку с ранья
из горла будешь?» Ответ был всегда одинаково прост: «С
удовольствием». А так как они постоянно находились на
базе, то, естественно, никогда не «просыхали».
Мало того, эти сволочи в конце моего пребывания
накормили меня собачиной. Вообще я был наслышан о
большом пристрастии топографов к этому «деликатесу».
Собачатину уважали все, начиная от рядового
сотрудника до высокого начальства. Был даже такой
случай, когда пёсика, жившего на территории экспедиции
в Ташкенте, сожрал ни кто иной, как сам главный
инженер предприятия.
Мы все удивлялись, откуда берутся каннибалы, так
ведь всё начинается с малого. Теперь мне стало ясно,
почему местные жители прятали своих собак, ещё издали
заметив наших аглоедов.
Ещё одним увлечением работников этой экспедиции
60
была страсть к книгам, но не потому, что им хотелось
читать, повышать свой интеллект, - они их просто крали
из местной городской библиотеки. Я, ещё не зная этой
«литературной» специфики, всё удивлялся, как много
хороших и даже редких книг было на базе.
Когда я только появился там, первый вопрос ко мне
был: «Записался ли ты в библиотеку?». Мне это
показалось странным, я тогда ещё ничего не знал о
«литературомании» сего коллектива, и тут Александр
Борисович пригласил меня сходить в гармскую
библиотеку: ему нужно обменять книжку, а мне, конечно,
следует записаться туда, дабы не портить имидж
коллектива – этакого «народа книги».
Библиотека представляла из себя старый обветшалый
домик, внутри которого было два отделения: сам
читальный зал (громко сказано) и архивный отдел.
Заведовала всем этим молодая и симпатичная девушка,
которая по своей простоте душевной была рада столь
редким посетителям.
Я стал рассматривать книги в зале, а Саша сразу же
попросился в архив. Был он там долго, но вышёл с
небольшой брошюрой какого-то очередного опуса
Брежнева. Я записался, взял что-то по астрономии, и мы
удалились.
Когда мы отошли на приличное расстояние, мой друг
вытащил из-за пазухи несколько довольно приличных
книг, и нисколько не смущаясь, сказал, что надо бы ещё
что-нибудь экспроприировать. Вообще, мол, наш здоро-
вый коллектив делает доброе дело, так как каждый год
библиотека получает новое пополнение, списывает массу
хороших книг и вообще читателей там нет, так что они
как хищники очищают стадо от слабых – этакие санитары
на ниве культуры.
На самом деле таких «санитаров» за летний сезон
61
набиралось немало – это многочисленные экспедиции
разного профиля, и все маялись любовью к книге.
Ну а теперь от красочного экскурса о быте и нравах,
царящих в наших рядах, перейдём к рассказу
непосредственно о работе. С утра мы уже в местном
аэропорту, там небольшая вертолётная площадка, где нас
уже поджидают.
Смотрю на эту чудо-машину, и не могу понять: вся
задняя часть фюзеляжа открыта, виден только каркас и
натянутая верёвочка, это как бы граница грузового
отсека. И вот этим драндулетом нас должны закинуть аж
на хребет Петра 1 (Центральный Памир) под вершину за
5000 метров.
Вообще-то на такую высоту летают более мощные
машины, но их в наличии нет, а посему конструкция
облегчается, что даёт возможность этой стрекозе
подниматься выше их технических условий. Выбирать не
приходится, мотор ревёт, мы летим, постепенно страх
перед бездной за этой верёвочкой проходит.
Через час садимся на зелёный гребень хребта Петра 1,
отсюда мы должны подняться на наши вершины для
съёмок. Кругом море золотого корня, по-научному –
радиола розовая. Это лекарственный корень с желтоватой
шкуркой, откуда и название – «золотой». Его настаивают
на спирте и принимают для повышения тонуса, бодрости
духа. По значимости он стоит на втором месте после
жень-шеня, однако его нельзя употреблять людям с
повышенным давлением.
В походных условиях мы его заваривали с чаем и
обычно пили утром для большей работоспособности.
С утра каша, чай с корнем – и в путь, но через
полчаса одному из рабочих (с виду парень-здоровяк)
стало не совсем хорошо, и он остался на бивуаке, куда мы
должны вернуться к вечеру.
62
Мы сидим у костра, недалеко от своей палатки, под
южным склоном хребта Петра 1. Целый день мы пахали,
как козочки, вместе с топографами. Они вели съёмку, мы
тащили аппаратуру, в общем, очень устали, и вот
наконец-то отдых.
Товарищ наш потихоньку приходит в себя после
рокового чаепития с радиолой розовой, от которого он
почувствовал себя плохо – поднялось давление. По его
рассказу - когда он малость аклимался, то заметил, что
над ним кружит целая стая грифов, видимо, приняв его за
мертвеца, а как известно, падаль для них – деликатес, и
пришлось ему, бедному, доказывать им, что он ещё
живой.
Съёмка закончена, пора улетать, но вертолета нет и
не было ещё двое суток, рация не работает – сидим,
ждём-с. Но просто так сидеть мы не можем, и началась
заготовка лекарственных трав, то бишь, вот этой самой
радиолы, которой здесь тьма тьмущая. Мы косили её
ледорубами, как заправские крестьяне, и так увлеклись,
что не заметили, когда прилетел вертолёт. Летуны по
мегафону стали нас звать, матюкать, но нельзя же бросить
собранный урожай, а мы напахали за два дня целый стог.
Загружаемся в этот ублюдочный вертолёт, опять эта
верёвочка, а за ней – бездна, и летим на базу.
Единственным достоинством этого драндулета было
то, что через открытую заднюю часть было отлично
фотографировать. А снимать там было что: панорама
хребтов Центрального Памира, высочайшие вершины,
ледники, озёра, реки – всё было, как на ладони. Мы с
Сашей нащёлкали аж по две плёнки слайдов. К
сожалению, воспользоваться этими слайдами нам было
не суждено. Забегая вперёд, расскажу, что же произошло.
Как всегда, слайды отдавались на проявку в
63
фотолабораторию журнала «Фан ва турмуш», где наш
друг Валентус был главным художником. И на этот раз,
когда мы вернулись с Памира, фотоплёнки отдали ему, а
он передал в мастерскую. У меня было 2 плёнки, а у
Саши 5 или 6. Обычно за неделю всё это делалось, и мы
получали очень качественные снимки.
Но вот проходит неделя, другая, а плёнок всё нет и
нет. Мы к Валентусу: «В чём дело?» Он, вытаращив
глаза, мнётся: «Да вот много срочной работы, и пока они
не могут делать «левак».
Прошло ещё некоторое время, и вдруг, как говорится,
в один прекрасный день меня срочно вызывают в так
называемый 1-й отдел, я думаю, все хорошо знают, что
это за организация. Я работал в то время в проектном
институте и, естественно, пользовался топосъёмкой, а это
всё было секретным материалом, правда, не очень
высокого ранга, но тем не менее мы обязаны были
работать с ним согласно инструкциям.
Я, естественно, лихорадочно думаю, что это я мог
натворить, захожу в кабинет начальника отдела, а звали
его «товарищ Пронин», и вся страна знала это имя, так
как ходила масса анекдотов, где в качестве этакого
супермена-особиста фигурировал человек именно с этой
фамилией.
Наш Пронин, естественно, бывший чин в органах,
всегда улыбался и всегда очень загадочно. И вот, этак
улыбаясь, он представляет меня человеку «в штатском» и
оставляет нас наедине.
Этот тип говорит со мной вежливо и туманно о том о
сём, и как мои дела, и как поживают мои родственники,
даже со стороны жены. Я, конечно, волнуюсь: на кой ему
мои родственники, а вдруг кто-то из них – агент мирового
сионизма?
Всё, слава Богу, стало проясняться, когда он заговорил
64
о горах, о моих успехах в области туризма, о том, какая
же всё-таки природа прекрасная, и её, конечно, хочется
запечатлеть на слайды. И вот тут последовал конкретный
вопрос: «На чьей плёнке вперемешку с дивными местами
отснята лихая порнография, и для каких это целей?»
Я, откровенно говоря, был поражён: зачем это Сашке
нужно было снимать порнуху, а естественно, это могло
быть только на его плёнках. Но выдавать товарища не в
моих правилах, и я констатировал, что у меня на плёнках
этого нет, я этим не занимаюсь, а что отснято у кого-то, я
не знаю. И вообще, верните эти две мои плёнки, там
горные виды Памира, для меня это очень ценно, на что
«товарищ» ответил уклончиво и, естественно, мне их не
отдали, ну и чёрт с ними, правда, жалко – так у меня и нет
снимков Центрального Памира.
Меня отпустили, я думаю, что они с самого начала
знали, что я тут не при чём, но действовали согласно
своих правил. Я тут же позвонил Саше, он сказал, что его
пока не вызывали. Больше меня не тревожили, ну а
плёнку, гады, так и не отдали.
Теперь, после этого «криминального» отступления,
возвратимся к нашему рассказу.
Итак, мы летим в Гарм, а там и рукой подать до базы.
Нас встречает завхоз со своим помощником, оба под
«мухой», а и не помнится, чтобы они когда-нибудь
«просыхали». Завхоз приглашает отобедать шикарным
блюдом с крольчатиной, предварительно интересуясь,
едал ли я когда-нибудь этого зверя.
После недельной походной баланды мы
набрасываемся на ароматно пахнущую картошку с
деликатесным мясом нежнейшего кролика с пряностями и
острой приправой, с обилием овощей и перца.
Закончился мой трудовой отпуск, завтра уезжаю, так
что это мой прощальный банкет. И вот только утром мне
65
как бы невзначай сообщают, что жаркоп с собачкой – это
самое изысканное блюдо всех топографов, геологов, а
также элиты этих работников полей и гор – геофизиков.
Но, как говорят, «не дождётесь» - рвотного эффекта у
меня не было, а вся банда именно этого и ждала.
Вот и закончилось моё первое знакомство с Памиром
в качестве рабочего топографической экспедиции. В
дальнейшем я ещё несколько раз бывал в разных районах
этой «Крыши мира».
Прошло несколько лет, я снова засобирался и снова с
топографической экспедицией, но уже на знаменитое
Восточно-Памирское плато. Это грандиозная каменная
пустыня на высоте около 4000 метров. Отсюда
открывается вид на хребет Муста-Катта с его вершинами
высотой за 7000 метров. Но это всё на территории Китая,
а у нас этакие пупыри в 5000 метров без снега и льда.
…Мы на базе топографической экспедиции «ОКЭ» в
Ташкенте, собираем шмотки, продукты, рабочий
инвентарь. Всё это грузим на машину, и с утра - в путь.
Наша бригада из шести человек во главе с бригадиром-
топографом по имени Сергей, за старшего рабочего –
Александр Борисович, ну и просто люди без звания и
регалий. Погружаемся в грузовичок и своим ходом едем
трое суток до места назначения.
Первая большая остановка в городе Ош (Киргизия) –
это небольшой райцентр с восточным базаром и
мусульманской святыней горой Сулейманкой. Здесь
постоянно что-то копают археологи, реставрируют якобы
дворец самого Бабура, внука Тамерлана.
Вот тут, у эпохальных руин, наша первая ночёвка.
С утра мы уже на базаре, что-то прикупаем из
продуктов, и в одном из магазинчиков обнаруживаем
шикарные ковбойские шляпы местного производства. Это
66
именно то, что нам нужно для работы на солнцепёке. И
вот мы, уже ковбои из Техаса, мчимся на нашем
«Боливаре» по знаменитому тракту «Ош – Хорог» к
перевалу в 4600 метров. За ним удивительное горное
озеро Кара-Куль бирюзового цвета и с горько-солёной
водой, как в приличном море или даже в океане, в общем,
– чудо природы.
Здесь мы ночуем в деревянном бараке – гостинице для
шофёров. На следующий день к обеду мы уже достигли
последнего оплота цивилизации данного района – это
городок Мургаб на слиянии рек Ок-су и Мургаб. Как ни
странно, в них полно какой-то довольно крупной белой
рыбы, которую можно ловить хоть руками – видно,
местное население их не употребляет, а мы так ничего –
ели и не померли.
В этом поднебесном городке единственным
представителем «белой расы» является личный состав
пограничников, у коих мы обязаны зарегистрироваться. И
всё бы ничего, но наше крутое поведение, да и сам вид,
шокирующий местную публику, привлёк внимание
органов правопорядка.
Нас «замели» в местное отделение даже не МВД, а
КГБ (это ж надо, где их только нет!), провели беседу,
забрали шляпы, этот ярлык американского империализма,
и со словами «Чтоб духа вашего здесь больше не было!»
прогнали за пределы города.
Вот такая в то время велась борьба за нравственность
советского народа.
К обеду мы уже на месте, т. е. в районе, где на
нескольких участках нужно провести съёмку изменения
отметок данного рельефа.
Не буду надоедать описанием серых рабочих будней,
расскажу только о событиях, которые в какой-то мере
украшали или потрясали нашу трехмесячную житуху на
67
этой «Крыше мира».
Работать нам пришлось вблизи китайской границы, а в
то время отношения с Китаем были изрядно попорчены,
случались нападения на наши погранзаставы, в частности,
и на ближайшую от нас. Но, несмотря ни на что,
разгильдяйству наших пограничников не было предела.
Однажды нам понадобилась деталь для рации, и мы
решили поехать на заставу, надеясь, что нам там помогут.
Но, увы, то, что мы увидели – в каком состоянии этот
«оплот страны» находился, повергло нас в совершенней-
шее уныние.
Подъезжаем к распахнутым воротам. На вышке –
никого, никто нас не останавливает; въезжаем на
территорию – вокруг никого, двигаемся дальше, к бараку,
где, видимо, и должен находиться личный состав заставы,
- и тут наконец-то откуда-то сзади крик: «Эй, что надо?»
Полуголый, с заспанной рожей сержант начинает
качать права – как это мы проехали без разрешения.
- Так никого же у ворот нет, где же твои солдатики?
- Всё равно не положено, с вас три рубля на похмелку.
Какие там детали, всю эту часть можно было вынести,
вывезти, сжечь, продать и т.д. Эх, за державу обидно, -
как говорил герой фильма «Белое солнце пустыни».
Работа в основном с утра до четырёх дня, а затем обед
и отдых, на такой высоте много не поработаешь, но мы
успевали и в свой график укладывались, а посему
оставалось много времени на творчество. У меня был с
собой этюдник, и мы с Сашей писали маслом и акварелью
пейзажи этих удивительных по колориту мест.
Поначалу всё казалось серым, невыразительным, но
через некоторое время очаровываешься этаким
пастельным переливом окружающих нас гор, ущелий,
долин, и как бы апофеозом сияют белоснежные вершины
68
хребта Муста-Катта.
Вот на этой-то ниве искусства мы и познакомились с
геологинями, а если по-простому, то с девицами из
геологической партии, к месту расположения которой мы
временно примкнули, поставив свои палатки в самом
конце лагеря, в аккурат возле огромной шатровой палатки
лучшей половины геологического братства.
Конечно, в городе, как говорится, мы бы и на одну
грядку с ними не сели, а тут они – богини, как-никак
единственные женщины на всё плато. Вели они себя
скромно, я бы сказал, даже несколько пуритански: не
курили, не пили, мужиков не водили.
Оказалось, что одна из этих девиц рисует, и мы были
вхожи во дворец.
Нас приглашали на чай, велись светские беседы о
живописи, музыке, в общем, потихоньку мы стали их
буквально боготворить. Но вдруг все наши чистые
побуждения рухнули.
Однажды в глухую ночь ворвались звуки рокочущего
грузовика, осветившего фарами весь наш городок, и лихо
затормозившего у шатра благородных девиц. И что же мы
слышим? – топот, хохот, визг, причём явно радостный.
Как оказалось, за нашими красавицами приехали
офицеры пограничной части, и как мы потом узнали, не в
первый раз. Вернулись они тоже ночью, суток через двое,
пьяные, помятые, довольные.
Да, наше хрустальное воображение было разбито
столь дешёвым поведением этих шалав. Нам стало
стыдно, и мы ушли из этого лагеря.
…Сидим у палаток, ужинаем. Завтра трудный день,
для меня – вдвойне. Я дежурный, и вся сложность
приготовления обеда на скороварке.
Я видел, как на ней готовят, но оказалось, не учёл
69
тонкостей в этом деле. У нашего «бугра» было ружьё, так
себе, мелкашка, мы постреливали сурков, зайчиков, а
иногда и уларов (это горный индюк). И вот на
завтрашний обед нужно сварить суп с мясом из зайчика.
Поначалу всё было правильно: помыл, порезал,
посолил, положил в сковородку, закрыл плотно крышку и
врубил паяльную лампу, на которую ставится эта
суперкастрюля. Лампа гудит, в посудине бурлит, идёт
пар. И тут-то я опростоволосился. Забыв, что это не
простая кастрюля, и всё действие идёт под сильным
давлением, внутри, я решил открыть крышку,
попробовать на вкус бульон, подсолить и т. д.
И как же мне повезло, что эта вся масса с водой,
картошкой, луком и зайцем пронеслась с огромной
скоростью мимо моей изумлённой рожи. Пришлось всё
это подбирать, промывать, засунуть опять в скороварку и
варить по-новому.
А тут уже время обеда, подъезжают соколики и ещё
издалека орут:
- Обед готов?
- Да нет, ещё варится.
Ну не стану же я им рассказывать, что я натворил.
Ну это что, вот однажды мы были свидетелями, как
барс охотился за козлами. В то утро мы на работу шли
пешком. Впереди Серёга с ружьём, за ним Саша и т.д.
Выходим на высокий гребень, и тут наш «бугор» кричит:
«Ложись!». Что случилось, что там такое? Мы ползком
подбираемся к нему и видим действительно потрясающее
зрелище.
С нашей доминирующей точки виден гребень,
пониже нашего, и там с одной стороны барс, а с другой
пасутся два козла. Ветер дует со стороны козлов, и они не
чувствуют опасности, спокойно жуют какой-то
лишайник.
70
А барс, прильнув к земле, крадётся к вершине гребня,
на какой-то точке он замирает, готовясь к решительному
броску через гребень. В это время Серёга решает
вклиниться и тоже поохотиться, снимает своими вечно
дрожащими (от постоянных возлияний) руками ружьё и
начинает целиться Бог знает в кого.
И вот наступил кульминационный момент. Барс
делает прыжок, козлы разбегаются, и тут же раздаётся
выстрел. Бедный барс, мало того, что мордой об камни,
так ещё этот придурок чуть не поранил его.
Конечно, основным нашим занятием был сбор мумиё.
Его в этих местах видимо-невидимо: во всех скальных
трещинах, пещерках, гротах, в общем, там, где
постоянная тень. Что интересно, находим мы эти места
очень часто по следу от крови раненого зверья. Как
увидим капельки крови, то вперёд, к залежам ценного
сырья.
До сих пор нет единого мнения, что, собственно
говоря, представляет собой мумиё. Одни говорят, что это
помёт горных грызунов, другие связывают с арчой, хотя
какая арча на 4-х тысячах. Короче, толком никто не знает.
В Ташкенте работала специальная клиника
профессора Шакирова, в которой лечили разные болезни,
применяя мумиё в каких-то вариациях. Профессор не
чурался прессы, давал всяческие интервью, писал
научные статейки, брошюрки, и, наверное, корпел над
монументальным талмудом в области применения этого
таинственного бальзама. Вся эта реклама довела
стоимость 1 грамма зелья до десяти рублей, и вот тут-то
государство наложило свою лапу на сбор продукта.
Так что приходилось собирать втихаря, а уж
обрабатывать всё это сырьё, так сказать, в домашних
условиях. За время нашей экспедиции мы набрали
мешков 8 сырья и потом машиной привезли в Ташкент.
71
После обработки одного мешка получалось 400-500
граммов истинного мумиё. Рецептов обработки, видимо,
много, но основой всех является сначала очистка, а затем
выпаривание. Многие альпинисты и туристы постоянно
носят кусок мумиё в совей личной аптечке. Известный
альпинист Анатолий Могилевцев вообще из лекарств
ничего не признавал, кроме мумиё. Он его принимал
вовнутрь, наружно, и даже от похмелья.
То, что мумиё замечательно помогает при переломах и
ранах, я испытал на себе. Однажды мы катались на лыжах
в Янги-Абадском горнолыжном комплексе – это на
склонах хребта, где, собственно, расположен и сам
городок.
Там был бугельный подъёмник, а вот цепляться к
нему надо специальным самодельным крючком, который
смастерил местный умелец (чтоб у него руки отсохли!).
Весил этот крюк, наверное, целый килограмм, но что
самое неприятное – он часто соскальзывал.
И вот таким макаром я получил удар прямо по
переносице – море крови, кость разбита, что делать?
Спасло мумиё: я тут же залепил рану куском мумиё, и
через пять дней всё срослось, не было даже шрама.
В другой раз, открывая консервную банку, я сделал
резкое движение, нож повело, и он буквально почти
отрезал мне сухожилие большого пальца. И снова на
помощь пришло мумиё. Как и в тот раз, я залепил рану
мумиём, перевязал, и через короткое время (где-то
неделя) всё благополучно излечилось, опять-таки, даже
шрама не осталось.
Этот эффект со шрамом меня очень заинтересовал, и я
нашёл в библиотеке небольшую книжку того самого
Шакирова, она называлась «Мумиё как регенератор роста
клеток». Эта книжка в своё время наделала много шума.
Обыватель решил: ах, рост клеток, значит, всех, в том
72
числе и раковых. Мумиё перестали употреблять, ну и
цена снизилась, так что, как говорится, «нет худа без
добра».
Большой головной болью для местного отделения
охраны природы было браконьерство многочисленных
экспедиций, партий и групп. Все они имели ружья и
занимались заготовкой мясной продукции для своих
полевых кухонь. Охоту на козлов, уларов, зайцев и
других парнокопытных вели как люди, так и грозный
барс, а посему в каждом ущелье, балочке валялось много
костей и рогов от архаров и кииков.
Эти рога с черепом при соответствующей обработке
представляли из себя неплохой сувенир, и мы,
естественно, вели небольшую заготовку рогов (без
копыт). Выбирались, конечно, самые крупные
экземпляры, и всё это складывалось открыто между
палатками.
И вот однажды летит «Газон» общества охраны
природы, с визгом тормозит у наших палаток. «Так,
головы есть, где всё остальное?» «Какое остальное?» «Ну
как какое, вот головы есть, значит, должны быть шкуры и
мясо». «Да помилуйте, ведь вот в ущелье полно скелетов
от козлов, так вот мы выбираем, что покрасивее, как
сувенир о нашем пребывании в ваших краях». И ещё
долго мы им объясняли, что для нас главное не мясо, а
эстетический вид, и вообще с точки зрения мирового
искусства сувенир из рогов дикого козла – это почти одно
и то же, что два скрещенных клинка на ковре, а с другой
стороны, как подарок от неверной жены.
Это последнее сравнение их явно смутило, и они от
нас отстали.
Прошла ещё неделя, мы закончили измерения в
данном районе и разъехались в разные стороны. Я –
73
домой, а бригада – в Кулябскую область. Когда-то я
служил в тех краях.
Вот так закончились мои памирские вылазки в составе
топографических экспедиций. Последний раз я был на
Юго-Западном Памире – это в районе Хорога. Там
знаменитые разработки лазурита, вершины – за 6000
метров и другие прелести.
Но всё это было потом, когда мы совершали
путешествие в составе знаменитой секции горного
туризма «Зодчий».
Как говорилось в туристской среде: «Если ты никогда
не был на Памире, то, значит, и гор настоящих не видел».
Действительно, Памир поражает своей громадой,
объёмом, высотой вершин, потом по сравнению с ним
горы в других районах кажутся чересчур изящными.
Мы сидим в своей явочной квартире у Валентуса. На
столе разложены карты, схемы, фотографии, которые с
трудом добывали в разных местах и у разных товарищей.
Весь этот материал нам нужен для планирования
очередного летнего путешествия.
У нас в секции, как правило, было заведено: каждый
год побывать в новом районе. Вот и настало время
побродить на «Крыше мира».
Наиболее доступным для наших ребят был район
Юго-Западного Памира, где я когда-то начинал свою
эпопею, и, если помните, мой первый поход в этом
районе кончился неудачно. Конечно, хотелось ещё раз
посетить эти места. И был разработан несложный
маршрут, изюминкой которого являлось посещение места
разработки лазурита, считавшегося одним из лучших
камней в отделке и бижутерии.
Если вы бывали в Исаакиевском соборе Санкт-
74
Петербурга, то наверняка помните колонны в центре зала.
Так вот, две из них облицованы лазуритом.
Качество лазурита оценивается по насыщенности его
синего цвета и отсутствию вкраплений в основном
мраморе, в котором он и находится, как в капсуле. Хотя
это и не драгоценный камень, но всё же 1 кг лазурита
высшего сорта, т.е. совершенно без вкраплений и тёмно-
синего цвета, стоит на международном рынке аж 700
долларов США.
На всём земном шаре существуют только 4 места
рождения лазурита. Самое известное, где добывается
высококачественный материал, расположено в горах
Гиндукуша (Афганистан), затем – у нас, на Юго-
Западном Памире и в районе озера Байкал, а также в
таком далёком экзотическом Перу.
Как нам потом рассказал главный инженер памирской
разработки, вокруг них полно и драгоценных камней:
турмалин разных цветов, яшма, рубины, гранаты и
другие. Но чтобы их собирать, надо иметь некоторый
опыт и знания геологии.
Вторым запланированным чудом света был обратный
путь домой. Вместо самолёта мы решили вернуться по
знаменитому высокогорному тракту Хорог-Ош.
Протяжённость его около 700 км с ночёвкой на
удивительном озере Кара-Куль. Вот такие два эффектных
места мы должны увидеть на нашем маршруте, ну и три
перевала высотой за 5000 м.
Конечно, не всё получилось, как метко сказал когда-то
бывший премьер России: «Хотели как лучше, а
получилось, как всегда».
Итак, всё уже распланировано, размечено, определён
окончательный состав участников, хотя нет в нём нашего
технаря Саши и штатного завхоза Виталия - по разным
75
причинам они не участвуют – но зато мы имеем аж двух
классных фотографов. Один – это постоянный член
нашей секции Равиль, а второй – Валерий. Я знал его по
клубу туристов, он ходил с разными группами и был как
бы специалист по горному пейзажу.
Весной Валера ходил с нами на верховья реки Угам, в
общем, он как бы соответствовал нормам и правилам,
поэтому мы охотно его взяли и… ошиблись. Но об этом
позже.
А сейчас – путешествие начинается.
20 июля вылетаем из Ташкента в Душанбе, там на
Хорог курсируют маленькие ЯК-40, но вот достать на
него билет – это проблема. Орава местных жителей
сгрудилась у кассы, никакого порядка, никакой
нормальной очереди здесь нет, всё на хапок. Что делать?
Выручает Валентус. Будучи членом Союза
журналистов, а с прессой тогда считались и даже
побаивались, он идёт к начальнику, потрясая своим
удостоверением, и через 20 минут у нас уже билеты.
Вылет завтра утром, и мы коротаем ночь в скверике у
аэропорта, благо наша экипировка позволяет валяться
где попало.
Перелёт в Хорог – не для слабонервных. Самолётик
летит в ущелье, и кажется, что сейчас он трахнется вот об
эту скалу или об этот гранитный утёс, но апофеозом этого
полёта является посадка в аэропорту Хорога. Тут он
закладывает этакий вираж, залетая на территорию
Афгана, и уже оттуда идёт плавно на посадочную полосу,
так что мы несколько минут гостим над сопредельным
государством.
Слава Богу, полёт окончен, выходим на поле и сразу
же попадаем в цепкие объятия пограничников. Нас
тщательно обыскивают, из рюкзаков приходится всё
вынимать, показывать, и это действие происходит прямо
76
на поле, в пыли и песке. Проверка на «вшивость»
закончена, и мы невдалеке от этого задрипанного
аэропорта разбиваем бивуак.
С утра надо идти на регистрацию в штаб погранполка,
где я уже когда-то бывал, там опять начальник прочитает
нам лекцию о правилах хорошего поведения в
приграничном районе. Выезд на маршрут завтра, а
сегодня ещё хотим посмотреть достопримечательности
города, вернее, городка, а ещё вернее – просто одну
улицу, так сказать, местный Бродвей.
И вот тут чуть не закончился весь наш поход. А дело
было так. Зайдя в книжный магазин, Валентус стал
требовать показать ему какие-то произведения
Александра Исаевича. Кто такой Александр Исаевич,
продавщица, эта напуганная девушка, даже и не
догадывалась, а наш «диссидент» наглел, пока мы не
заткнули ему рот и буквально не выпихнули из магазина.
Если учесть, какое тогда было время, да ещё
особенности приграничного района, где все жители
являлись нештатными сотрудниками, или проще говоря,
стукачами, то мы могли иметь большие неприятности.
Мы сидим у палаток, занимаемся самым серьёзным
делом – раскладкой продуктов и снаряжения. Все знают,
как это хлопотно.
Человек, который участвовал хоть в одном походе,
прекрасно понимает: то, что он получит сейчас, т.е. в
начале пути, - это его крест, который придётся нести до
самого конца.
Конечно, при раскладке груза учитывается вес
общественного снаряжения. Но всё-таки, в конечном
счёте, опытный турист знает, что лучше брать продукты,
они по мере похода исчезают, а вот снаряжение, мало
77
того, что оно в то время было изначально тяжёлым, так
ещё и подмокало, становясь более тяжелым.
Вспоминая те времена, представляешь, какое
убожество были наше снаряжение и продукты.
Промышленность выпускала всё в железной таре: рыбные
консервы, тушёнка, сгущёнка. Палатка «Памирка» сухая
весила 4,5 кг, а эти крючья, ледорубы, этот знаменитый
рюкзак Абалакова зелёной лягушкой распластывался у
тебя на спине.
В общем, всё это заставляло туристов искать,
придумывать, шить и кроить самодельные палатки,
рюкзаки, на заводах, втихаря делать титановые крючья,
айсбали, ледорубы и т. д. и т. п. В стране процветало
изобретательство и рационализаторство.
В этом плане вспоминается анекдотический случай,
произошедший в Ташкенте. По решению ЦК партии и
правительства республики во Франции был закуплен
целый домостроительный комбинат – у знаменитой
фирмы Камю. По технологии комбинат выпускал панели,
из которых монтировались целиком многоэтажные дома.
И вот в честь завершения строительства комбината,
постройки первого панельного дома устроили
грандиозный праздник, на который был приглашён и сам
господин Камю, так сказать, хозяин.
Цеха комбината осматривала комиссия из
представителей ЦК, правительства, Минстроя,
профсоюзов и других ответственных товарищей и самого
Камю. Всю эту экскурсию вёл директор завода, с
гордостью показывая и рассказывая о достижениях,
возможных только благодаря чуткому руководству…
сами знаете кого. Правда, несколько раз его речь
прерывали вопросы господина Камю такого типа:
скажите, зачем на этом узле выполнена конструкция,
которой в проекте нет?
78
Ответ был на редкость в горделивом тоне: «Да, у вас
тут была предусмотрена ручная работа, но наши
рационализаторы и изобретатели усовершенствовали этот
узел и сделали этот процесс автоматическим».
Создавалось впечатление, что весь закупленный за
валюту комбинат переконструировали местные умельцы.
Как и положено после осмотра, был банкет, на
котором господин Камю испортил всем аппетит своим
одним вопросом: «Зачем вы купили у меня этот проект?
Он специально предусматривает ручное управление, так
как предназначен для слаборазвитых стран. Если вам
нужен комбинат с автоматическим управлением – такой у
нас тоже есть, вот его-то и надо было покупать, но он
стоит дороже».
Всё стало ясно: как всегда, погнались за дешёвкой.
После такого ностальгического воспоминания
вернёмся к нашему рассказу. Продолжим с того, что мы
закончили оформление всех необходимых документов, и
теперь можно отчаливать.
На попутном грузовике добираемся до базы
Ташкентской топографической экспедиции, что на реке
Шах-Дара, где сейчас работает наш Саша. Радость
встречи, знакомство со славным коллективом, а кое-кого
я помню ещё с того времени, когда сам работал с
топографами.
Нам дают консультацию, как добраться до
лазуритовых разработок, показывают образцы этого
камня. Оказывается, тут рядом, на окраине посёлка, стоит
большая изба под склад лазурита, который доставляется с
разработок вертолётом. Конечно, это дорогое
удовольствие, и вот уже несколько лет строится туда
дорога. Говорят, что осталось до её завершения всего 5
км. Строительство ведётся самым простым способом:
динамитом взрывают скальную породу, и бульдозером
79
разравнивают полотно.
На наших картах-кроках этой дороги, конечно, нет, и
мы радуемся, что те сорок километров до разработок
можно с ветерком прокатиться. Дорога эта начинается
прямо за мостом через реку Шах-Дара, недалеко до
впадения в неё реки Бодом-Дара. Ещё выше по течению в
неё впадает река Ляджувар-Дара (в переводе «лазурит»), а
названа она так потому, что берёт своё начало из-под
ледников огромных шеститысячных пиков (в цирке
которых и ведутся разработки лазурита).
Вот вдоль этой речушки и петляет наша дорога – то
вверх, то вниз, постепенно набирая высоту, а это аж 5000
м. До моста нас подбросили топографы на своём
грузовике, а там уж как хочешь – жди машину или иди
пешком. Мы выбрали второй вариант – не было смысла
сидеть и ждать попутки, Бог знает, будет ли она сегодня
вообще, а так постепенно, не торопясь, пойдём – авось
догонит.
Места тут живописные, журчит ручей, а на горизонте
сверкают льдом и снегом вершины Ишкашимского
хребта. Так мы плелись до самого вечера, конечно, идти
пешком по дороге – это я всегда считал недостойным
образом передвижения, есть дорога – надо ехать! Но в
данном случае выбирать не приходится, так как есть план
маршрута, где этот отрезок мы и должны пройти, а не
проехать, так что всё согласно кривой графика.
Тихо-тихо к вечеру мы поднялись где-то на 3500
метров и прошли в общей сложности почти половину
пути до разработок. Здесь на ровной поляне, у слияния
Ляджувар-Дары с правым (орографически) притоком
(Ростоу-Дара) стоит избушка «на курьих ножках» - это
летовка пастухов. Она пустая, видимо, в этом году здесь
никто барашков не пас, а нам это наруку – нет
надобности ставить палатки.
80
Первая ночь в апартаментах прошла бурно, мы
гонялись за какими-то белыми мышками по всей этой
хибаре, размахивая ледорубами и камнями. Короче,
пришлось всё-таки ставить палатки, а в этом логове
оборудовать кухню.
На этой поляне мы устраиваем как бы временную базу
и делаем радиальный выход к лазуритовым разработкам,
на них дорога идет вдоль реки Ляджувар-Дара, а по её
притоку справа (орограф) реки Ростоу-Дара мы потом
должны идти на перевал Даршай (5000 м).
По времени радиальный выход займёт 2 дня с
ночёвкой на территории самих разработок. Хотелось ещё
успеть сбегать там же на перевал Славутич (5190 м),
глянуть в сторону Гарм-Чашмы, вспомнить мой первый
поход.
Рано утром группа уже в пути. На базе оставляем
двоих дежурных – это супруги Артемьевы, даём им
возможность насладиться жизнью. А мы вперёд, перед
нами сверкает пик Маяковского (6096 м). Резкий поворот
вправо, и о небо – сзади слышим гул мотора: это ползёт
ГАЗ-66 с рабочими, дорожниками, какими-то ящиками.
Нас подбирают, и несколько километров мы едем,
вцепившись в борт машины, а она качается, как лодка в
океане, бросает нас туда-сюда, но лучше ехать – большой
выигрыш во времени. И это потом нам очень
пригодилось.
Дорога кончилась, дальше пешком. Рабочие меняются
бригадами, ящики сгружают. Оказалось, что там – просто
динамит, а мы как придурки-старики из фильма «Белое
солнце пустыни» ехали на них, ничего не подозревая.
Так что же такое комплекс лазуритовых разработок?
Как говорил Виталий Михайлович, это красиво. И
действительно, представьте себе огромную
81
беломраморную скалу высотой в несколько сот метров,
под ней довольно ровная площадка, на которой
расположены несколько деревянных бараков. В одном из
них склад, где производится первоначальная сортировка
камня, в других – жилой комплекс для сменных бригад
рабочих и размещения оборудования.
Технология добычи лазурита проста и чиста как
«слеза нищего». В скале прорублен вертикальный ствол, а
от него – на разной высоте горизонтальные как бы
туннели, в которых взрывают куски мрамора с
находящимся внутри них лазуритом. Затем эту породу
спускают вниз через круглые отверстия, выходящие
наружу. Там закреплены металлические тросы, по
которым на небольших вагонетках всё и опускается.
Потом идёт предварительная сортировка,
складирование, и два раза в неделю прилетает вертолёт
для перевозки материала в нижний склад на реку Шах-
Дара. Взлёт груженого вертолёта – это феноменальное
зрелище. Оказывается, по каким-то аэродинамическим
законам, чтобы подняться вверх, он должен с этой
площадки клюнуть вниз, прямо в ущелье, над которым
она нависает, а затем уже подниматься вверх, в общем,
как в той шутке: для того, чтобы двинуться вперёд, нужно
получить хороший пинок под зад.
По тропе поднимаемся на площадку, нас уже
приметил и встречает, как оказалось, главный инженер
разработок Анатолий Иванович. Поначалу подумали, что
сейчас он нас шуганёт отсюда, но шеф улыбался и
радостно приветствовал нас, видимо, он давно соскучился
по новым людям, и ему уже осточертели рожи рабочего
персонала. Анатолий Иванович оказался добрейшим
человеком и хорошим рассказчиком, показал нам место,
где можно поставить палатку, и пригласил к себе в
служебку.
82
Мы быстренько соорудили свой бивуак и пошли в
гости, где по ходу чаепития и интересного рассказа о
фауне и флоре он показал нам свою коллекцию камней,
собранных в этом районе, где было довольно много
драгоценных: турмалин, яшма, рубин, гранат и т. д. Мы,
конечно, загорелись и ринулись на поиски, но, увы, все
наши мероприятия сорвались из-за начавшейся болезни
Валентуса.
Получилось так, что мы, несколько человек, ушли на
восхождение к перевалу Славутич, а Валера и Валентус,
сославшись на усталость, пошли отдыхать в палатку. Уже
где-то на полпути к перевалу нас догнал Валера с
известием, что Валентусу плохо, тошнит, болит горло и,
видимо, температура.
Учитывая, что всё это происходит на высоте почти
5000 м, надо было немедленно спускаться. Так что
пришлось быстро ретироваться на базу. Там мы 3 дня
пытались восстановить его здоровье: поили чаем с
сгущёнкой, давали лекарство от горла, но процесс, как
говорят, пошёл, и самым кардинальным решением было
спустить его до самого низа, т.е. к реке Шарп-Дара.
Выполнение этой процедуры поручили супругам
Артемьевым.
Спустя два дня Володя вернулся и доложил, что всё в
порядке, Валентуса разместили на базе ташкентских
топографов и сдали из рук в руки Александру
Борисовичу. Володина жена отказалась подниматься
снова к нам, так что Артемьевы тоже выбыли из наших
рядов. Таким образом, ещё не начав основной маршрут,
мы остались вшестером, а самое главное – потеряли
много времени. Мы совершенно выбились из графика, и
пришлось пересмотреть нитку маршрута.
Решили так: сделаем радиальный выход на перевал
Даршай, затем спустимся вниз обратно к дороге на реку
83
Шах-Дара. Но вот тут, как говорят, началась полоса
невезения. Я уже рассказывал, что пользовались мы
доморощенными картами, вернее, кроками (схемы,
нарисованные от руки). Настоящие топографические
карты тогда были только для служебного пользования, а
проще – засекречены, как и многое другое.
В соответствии с нашей схемой перевал Даршай
находится справа (по ходу движения) по речушке Ростоу-
Дара, где-то посредине ущелья. В нашем представлении
это явно подъём по фирну – высота-то 5000 м. И вот мы
прём и прём, справа гребень, сначала зелёный, и только в
конце, где он соединяется с основным хребтом, уже снег,
затем фирн и лёд. Хотя там много как бы перевальных
точек, выбираем ту, которая нам казалась наиболее
соответствующей схеме.
В полдень мы уже на морене, дальше – снег, скальные
участки, фирн, виден предвершинный бергшрунд
(большая поперечная трещина между двумя как бы
пластами льда). Заметно похолодало, пошёл снежок, и
часа через два стало ясно, что на перевал сегодня не
подняться, тем более – не спуститься с него.
Здесь на склонах висячие ледники, а под ними
огромные мульды (ямы), и мы начинаем понимать, что
это совсем не тот перевал, т. е. категория сложности
намного выше, ноги в триконях начинают замерзать,
видимо, мы уже на 5000 метрах, а перевальная точка
ушла дальше.
Ещё недавно казалось, что перевал рядом, сразу же за
боргшрундом, ан нет, он значительно выше, в общем,
игра в прятки. Продолжать идти сегодня, да ещё не на тот
перевал, опасно. Начинаем спуск обратно на морену,
быстро темнеет, надо успеть поставить палатки. И вот в
этот напряжённый момент наш друг Валера, который до
сих пор в основном молчал, затеял полемику: а надо ли
84
спускаться и терять высоту, не проще ли траверснуть и
заночевать в мульде, а с утра взять перевал.
От его предложения мы чуть было не упали, никак не
могли подумать, что такой вроде опытный турист может
на полном серьёзе предложить ночевать в мульде.
Только рано утром, когда со страшным грохотом в
близлежащую мульду сорвалась огромная глыба льда,
наш друг успокоился, но в его психике произошёл какой-
то сдвиг, и выразилось это в том, что он перестал с нами
разговаривать. Да, да, как маленький капризный мальчик,
и так до самого конца нашего похода.
Ситуация сложилась непростая, что же получается,
один участник, больной Валентус, у нас внизу, второй с
нами отказывается говорить вообще, ведёт себя странно,
мало ли что он может ещё выкинуть. Я принял решение
идти вниз без всяких восхождений, что мы и сделали.
Уже позже в Ташкенте до меня дошли слухи, что он
обвинял нас в трусости, в нежелании преодолевать
препятствия, а самое главное – мы сорвали ему
полномасштабную съёмку района, которую он уже
пообещал (читай – продал) в какой-то журнал. Его
волновали только свои меркантильные дела, а что люди
могут погибнуть – это было ему абсолютно до фени.
Мы оказались в дурацком положении: отпустить этого
человека нельзя, да и сам он понимал, что уйти от нас он
не может, так как все в одном списке на разрешение
пребывания в погранзоне, и пока оттуда не выйдем,
обязаны быть вместе. В то же время его присутствие
давит всем на психику. Что делать?
Пришлось терпеть, думали: ну вот в Оше мы уж точно
расстанемся, но ничего подобного, он давил нас до
Ташкента.
Где же всё-таки находился перевал Даршай, мы
узнали, когда спустились на реку Ростоу-Дара, недалеко
85
от слияния с рекой Ляджувар-Дара, там нам встретился
пастух, который и показал на зелёный гребень, ведущий к
перевалу (в начале, а не в середине, как указано на схеме)
ущелья Ростоу-Дара. Нас обмануло то, что из-за крутого
травянистого поначалу гребня не было видно его
основного подъёма, который, как и положено по его
высоте, был покрыт снегом, а дальше фирном и
небольшим ледником.
Всё это хорошо просматривалось с той самой поляны,
где была наша временная база, от которой мы ходили на
лазуритовые разработки.
Возвращаться не было ни времени, ни сил, да и
желания. На обратном пути нам повезло больше. Пройдя
несколько километров, по дороге мы наткнулись на
грузовик, спускающийся из бокового сая, на нём бригада
девушек-колхозниц возвращалась в посёлок, где была
база наших ташкентских топографов. Там наш друг
Валентус, как оказалось, неплохо отдыхал и даже
поправился. Уж очень не хотелось ему следовать за нами,
но надо возвращаться домой, тем более что впереди
увлекательный автопробег по знаменитому высотному
тракту Хорог – Ош.
Мы сидим у палаток на пустыре, недалеко от
автобазы. Завтра с утра пойдём туда договариваться с
шоферами-дальнобойщиками. На свои «Буцефалы»,
гружёные под завязку, они берут в кабину двух
пассажиров по червонцу до Оша. Переезд занимает два
дня с ночёвкой на озере Кара-Куль.
Я уже немного описывал это путешествие, когда
рассказывал про своё посещение восточного Памира в
составе топографической экспедиции. В этом же случае
специфика была в том, как быть с Валерой. Я официально
обратился к нему с предложением отправить его из
Хорога в Душанбе самолётом, но он отказался, видимо,
86
цена не устраивала. Пришлось его брать с собой, а
напарником к нему в кабину мы подсадили Валентуса,
так как он не участвовал в той конфликтной ситуации, и
нам казалось, что вот с ним Валера будет нормально
общаться.
Ан нет, и с Валентусом, как с представителем
злосчастной секции «Зодчий», он общаться не стал и обет
молчания не нарушил. Первый раз по этому тракту я
проехал ещё тогда, когда возвращался с того первого
неудачного для меня похода с группой туристов
ташкентского клуба. Помню, тогда тоже не обошлось без
приключения. Помимо того, что вас тщательно
проверяют пограничники при прилёте в Хорог, на
протяжении всей трассы вдоль китайской границы есть
ещё 5 погранпостов, где также ведётся облегчённый
шмон, то есть в основном проверяются документы, как
то: паспорт, разрешение на нахождение в погранзоне и
другие.
Тогда я возвращался домой на каком-то грузовике, но
не в кабине, а в кузове. Там было ещё несколько человек.
Всё шло чинно, благородно, аккуратно, но вот на
последнем погранпосте, как и положено, у нас солдат
взял документы и отнёс для проверки в караульное
помещение. Через полчаса он снова подходит к нашей
машине и спрашивает: «Кто тут Марк Шполянский?
Следуйте за мной».
Я иду за ним в караулку. Там молодой старлей,
насупив брови, начинает меня форменным образом
допрашивать: кто я, что я и чем занимался в горах.
Лихорадочно думаю, что же такого я натворил. А всё
оказалось проще. В моей справке о разрешении
посещения погранрайона была опечатка в номере
паспорта: вместо одной восьмёрки стояли две. До этого
никто на это не обратил внимания, а вот в конце нашёлся-
87
таки Карацупа (известный пограничник, ещё до войны о
котором писали во всех детских книжках) в образе этого
старлея, и он задыхался от счастья, видимо, впервые
задержал правонарушителя.
«Я должен заключить вас под стражу до выяснения
личности, так положено по уставу». Но он оказался всё-
таки неглупым парнем и сообразил, что, задержав меня,
подставит всех своих разгильдяев, которые меня
пропускали. В общем, всё окончилось мирно, и меня
пропустили. Однако это был урок: проверяй документы,
не отходя от чиновника.
Я всё думаю: а не лучше ли было бы, если бы всё это
случилось сразу же, когда мы прилетели в Хорог? Меня
бы тормознули, выясняли бы, что я за личность, и не
пришлось бы так позорно сходить с маршрута.
Ну да ладно, всё это в прошлом, а сейчас документы у
нас в порядке, и наш караван летит вперёд с остановками
не только у пограничников, но и на замечательных
родоновых источниках. По дороге их несколько, и они
хорошо оборудованы, т.е. стоит изба, где сделан бассейн
с раздевалкой, всё как в лучших домах, только купаться
больше 15 минут не рекомендуется, зато после принятия
процедуры чувствуешь себя как огурчик.
…Мы на берегу озера Кара-Куль рядом с длинным
деревянным бараком – это гостиница для отдыха
шофёров ну и пассажиров вроде нас. Рейсовые автобусы
здесь не ходят, так что тихо и спокойно. Высота этого
места – около 4000 метров, а далее – последний перевал и
спуск в Алайскую долину. Перевал этот – самый высокий
на нашем пути – 4650 метров, но машина легко его
преодолевает.
На нём остановка, мотор должен остыть, а мы
любуемся панорамой Алайского хребта. Зрелище
88
потрясающее: снежные вершины, гранитные скалы,
огромные ледники, где-то там вдали прячется пик Ленина
(не знаю, как теперь он называется) – это вторая по
высоте вершина на Памире.
Впервые там побывали немецкие топографы, ещё в
далёком 1927 году они по контракту делали
картографический материал по Памиру. А вот названия
вершинам давали свои, немецкие: Кайзер Вильгельм,
Святая Мария и тому подобное. Затем после войны эти
одиозные имена были заменены на не менее идиотские:
появились пики Карла Маркса, Фридриха Энгельса,
Вальтера Ульбрихта.
Не знаю, останутся ли эти названия, ведь сегодня
Таджикистан - самостоятельная страна, и я бы на их месте
всё это переименовал на местный лад, тем более, что сами
таджики всегда называли эти вершины по-своему. Кстати,
с вершины пика Карла Маркса в хорошую погоду виден
горный массив Кара-Корум, это как бы продолжение
Гималаев, но уже не в Непале, а в Пакистане.
Хорошо просматривается уникальный цирк трёх
восьмитысячников. Зрелище феноменальное, как
описывает его мой старый знакомый Костя Минайченко -
альпинист, мастер спорта, чемпион СССР по классу
высотного траверса на Центральном Памире (это от пика
Коммунизма до пика Коржаневской со средней высотой
6000 метров).
Если продолжить экскурс в историю восхождений на
Памире, то где-то в тридцатых годах на пик Ленина
сделали восхождение первые советские альпинисты во
главе с наркомом А. Крыленко – он был заядлым
альпинистом и всё своё свободное время, а иногда, как
рассказывают, под видом инспекционных проверок в
республиках делал попутно восхождения. Так что
инспекции были частыми и, конечно, в республиках, где
89
были горы.
В то время альпинизм в Союзе только зарождался, и
даже такие высокопоставленные партийные боссы не
имели настоящего снаряжения. Представляете: группа
Крыленко делает восхождение на семитысячник в
телогрейках.
Благополучно спустившись с поднебесья, мы сидим в
чайхане ошского базара. Что может быть красивее
восточного базара: горы арбузов, дынь, винограда и
других яств, хочется всё слопать сразу же, но торопиться
не надо – понос прошибёт.
На ночь мы расположились, как когда-то, под
священной горой Сулейманка, где до сих пор ищут
остатки былого величавого прошлого эпохи Тамерлана.
В советской истории он характеризовался как узурпатор,
завоеватель, поработитель, но сейчас он национальный
герой, гений, славный военачальник, и в Ташкенте ему
поставлен грандиозный памятник, где он в воинских
доспехах, на коне. Рядом построен музей, посвящённый
его блистательной деятельности.
На месте, где стоит этот памятник, когда-то был сквер
революции с памятником И. Сталину, затем, после
развенчания культа личности, Сталина убрали и
воздвигли композицию с надписями на русском и
узбекском языках о мире, дружбе, в общем, в народе его
называли русско-узбекским словарём.
Когда до руководства дошло, что это просто
посмешище, был установлен новый монумент в виде
факела, а вместо огня – огромная голова Карла Маркса с
развевающимися лохмами, как языки пламени. В народе
это очередное изваяние получило название «светофор». И
вот теперь – скульптурная композиция великого воина.
90
Надолго ли?
Я опять увёл рассказ в сторону, но как не предаться
воспоминаниям, ночуя на великих развалинах
исторического прошлого?
Добираться до Ташкента можно двумя вариантами –
прямым самолётом, или автобусом до Андижана
(Ферганская долина), а затем поездом. Мы выбрали
второй вариант, а наш молчаливый друг утром ушёл,
естественно, не сообщив, куда. Но нам уже всё равно,
поход закончен, и он вправе добираться самостоятельно,
видно, товарищ решил лететь, а нам, естественно,
полегчало.
Ан, нет, через час, пока мы стояли в очереди за
билетами, появился Валера – ну куда ж он без нас! Так
что мы имели счастье быть с ним до конца.
По традиции через неделю собрались на разбор
похода, где витал дух разнузданной демократии. Ругали
меня на чём свет стоит, и поделом: поход технически не
удался, это всегда оставляет какую-то неудовлетворён-
ность, но то впечатление, которое произвёл Памир на
наших ребят, всё-таки переваливало в сторону ярких
ощущений, а это, в общем-то, главное.
И как звучали слова, которые были девизом нашего
клуба: турист, свой край люби и изучай!
Вот на этой мажорной ноте я и заканчиваю свой
рассказ о наших памирских путешествиях.
Мы ещё встретимся с вами на горных тропах, а пока…
пока…
91
Юго-Западный Памир.
Минеральный источник
в посёлке Гарм-Чашма. 1976
Юго-Западный Памир.
Перевал Грановского.
1976 г.
92
Юго-Зап. Памир. На лазуритовых разработках (4800 м).
1979 г.
Юго-Зап. Памир. Ишкашимский хребет (пик Трёхглавый).
93
Глава 4
МАТЧА
94
95
Светлой памяти Геннадия Лаврентьева
посвящается
Матчинский узел – высокогорный район на стыке
крупнейших среднеазиатских хребтов – Туркестанского,
Заравшанского и Памиро-Алайского.
Занявшись спортивным туризмом в ДСО «Трудовые
резервы», мы выполняли, как и положено, нормативы на
повышение своих разрядов, и вот пришла пора сходить в
более сложный поход. Нужен был руководитель,
имеющий право вести группу на такой маршрут, и мы
обратились к известному нам не только по туризму, но и в
личном плане, Геннадию Эминовичу Лаврентьеву.
Как-то я рассказывал о нём, но не грех повториться,
тем более, что личность эта незаурядная, полная талантов,
привлекшая к себе множество поклонников, особенно
бардовской песни, а уж их он исполнял с какой-то
задушевностью и упоением.
В туристском плане Геннадий – один из пионеров
ташкентского горного туризма, выходец из той
знаменитой первой туристской секции «ОДО» (Окружной
дом офицеров), в которой когда-то начинали свои
походы и наши друзья - соратники уже по клубу
«Зодчий».
Но вернёмся к походу, вернее, к его подготовке. Как
известно, всё начинается с поиска схем, отчётов других
групп, уже побывавших в этих местах и, как оказалось, их
было немало, так как это близкий к нам район с
широкими возможностями для туристов различной
подготовки.
Общими усилиями раздобыли не только отличную
схему, но и книжку о восхождениях альпинистов
новосибирского клуба «Вертикаль», можно сказать,
открывателей этого района, покоривших там множество
96
вершин и даже давших им свои названия.
Кстати, насчёт этого существовало правило, что
вершины и перевалы предпочтительно именовать в
соответствии с местными названиями или именами
выдающихся людей, памятных событий, а не так, как при
первопрохождении одна польская группа назвала
вершину «Пик Анджела». Когда отчёт был подан на
утверждение, выяснилось, что это имя девушки, с
которой познакомился один из польских альпинистов,
будучи проездом в Москве.
Геннадий Эминович как бывший альпинист в
нарушение всех туристских правил предпочитал делать
базу и ходить вокруг кольцами. Так и наш маршрут он
распланировал по своей любимой схеме.
Сначала поездом до городка Исфара, оттуда на
автобусе до посёлка Ворух. Там, собственно, и
начинается пешеходная часть маршрута по хорошо
набитой тропе через многочисленные летовки пастухов.
Первая цель – добраться до истоков реки Кшемыш
под морену одноимённого ледника, там разбить базу, и
вот оттуда набегами делать кольца на довольно серьёзные
перевалы, а потом спуститься по той же тропе в посёлок
Ворух и далее до Ташкента. Как пелось в песенке:
«Заправлены в планшеты космические карты…» - в
данном случае топографические схемы, и мы едем
покорять свои перспективы.
Всё шло чинно, благородно, аккуратно, и вот уже
посёлок Ворух, утопающий в зелени урючных плантаций,
а сбор урожая – в полном разгаре.
Урюк здесь выращивают, так сказать, в
промышленном масштабе, для поставки консервным
заводам. Все крыши посёлка завалены спелыми плодами,
которые высушиваются до состояния кураги – это самый
ценный и дорогой продукт, идущий не только на местные
97
базары, а, как говорится, далеко за пределы родного края.
Три дня, пока высокое руководство решало
технические вопросы, мы обжирались сочными плодами,
в результате – понос.
Геннадий Эминович, как истый путешественник,
географ, первопроходец типа Пржевальского, набрал
столько продуктов и даже таз для постирушки, что
пройти первые сорок километров до истоков реки
Кшемыш мы, конечно, были не в состоянии, но и это
было предусмотрено заранее, а посему вёлся набор
каравана из десяти ишаков и двух местных погонщиков.
Да, с такой экипировкой можно было покорять
неизведанные места Памира, Тянь-Шаня, Тибета и даже
Гималаи, правда, там вместо ишаков берут шерпов, что
очень дорого.
«Шагай вперёд, мой караван, огни сверкают сквозь
туман» - и мы двинулись. Впереди облегчённая до
предела группа, а за ней – гружённое продуктами,
снаряжением и нашими рюкзаками стадо резвых
ишачков.
До нашего места идти дня полтора, и в начале все идёт
хорошо, но вот рельеф меняется, тропа всё круче, круче,
и наши мустанги подустали – то идти не хотят, то
брыкаются, а один чуть не звезданулся в обрыв. В общем,
стали мы их разгружать, и тут уже не поймёшь – кто есть
кто? Как в старой туристской песне: «Выше ногу, шире
шаг, не забудь, что ты – ишак».
Но всё кончается, закончился и наш «суворовский»
переход, мы прощаемся с караваном, а дальше ещё с
километр в два приёма тащим своё барахло до места
будущей базы. База эта – большая брезентовая палатка, в
которой складируется провиант и снаряжение, а рядом –
три палаточки-перкальки, или, как их называют,
98
«памирки».
Над базой развевается большой фирменный флаг
«Трудовых резервов». Здесь мы не одиноки, рядом база
альпинистов из Новосибирска – они делают восхождение
на пик Кшемыш-баши (5290 м) по страшно сложному
ребру, что должно принести им Золотую медаль на
первенстве Союза. В их составе несколько польских
альпинистов и огромный чёрный терьер, который, как
они говорят, согревает их в палатке.
Альпинисты, как всегда, не очень довольны
соседством с туристами, но Геннадий Эминович покорил
их в первый же вечер сольным концертом под гитару, так
что мы – в хороших друзьях, и на первое кольцо выходим
под страховкой контрольного срока знаменитой команды
альпинистов новосибирского клуба «Вертикаль».
Весь наш поход запланирован из трёх колец примерно
по 5 – 6 дней каждое, т. е. до 20 дней в полевых условиях,
не считая подъёма и спуска от базы в посёлок Ворух,
больше нельзя – в начале сентября здесь становится
холодно. Поле нашего действия разворачивается на
южных склонах Алайского хребта, в районе ледников
Кшемыш и Щуровского мы планируем пройти перевалы
Щуровского, Кироксан, Боец, Райгородского (радиально).
Первое наше кольцо – это подъём по морене и
леднику Кшемыш, через перевал Щуровского (4300 м) на
ледник Щуровского, далее – перевал Кироксан (4470 м), а
затем спуск на морену ледника Кшемыш и к базе. Вот
такое незамысловатое кольцо, но с довольно высокими
перевалами и, конечно, не без приключений,
свойственных нашей компании не только в этом походе.
Но давайте всё по порядку.
Группа состояла в основном из участников
кавказского похода, но был и учёный-орнитолог Виталий
Сергеев, напросившийся к нам, да и надо же было кому-
99
то сидеть на базе. Самостоятельно должен был добраться
до места Виктор, который на первое кольцо опоздал, зато
привёз копчёную колбасу вдобавок к нашему
необъятному провианту.
Гроза женщин, высокий блондин с голубыми глазами
Игорь, будучи специалистом в области астрофизики, с
вечера подозрительно всматривался в небо и
пророчествовал: «Кумулис грандиозус», что означало и
плохую, и хорошую погоду.
Мой старый приятель Эдик, мастер эпистолярного
жанра, участник многих наших походов, прихватил
своего шурина Николая, оказавшегося хорошим парнем с
неиссякаемой энергией. А вот Олег, мой главный
напарник по Кавказу, в этот раз был явно не в форме. Его
друг, о котором я уже говорил, орнитолог Виталий, был
из древних дворянских родов, и прозвище у него –
«граф», что не мешало ему быть любителем
горячительных напитков, в данном случае браги, которую
он собственноручно изготавливал, находясь на базе, из
дрожжей, любезно предоставленных польскими
альпинистами.
Вот такой здоровый коллектив собрался покорять
никем не пройденный маршрут, и в общем - нам это
удалось, даже с добавкой – первопрохождением перевала,
который мы назвали «ТР», естественно, обозначив имя
нашего спонсора «Трудовые резервы».
Хотя это получилось нечаянно, но всё равно приятно
чувствовать себя этаким Колумбом, который плыл к
Индии, а попал в Америку.
Итак, наконец-то мы на маршруте, впереди горделиво
маячит своими снегами пик Кшемыш-Баши (5290 м),
один из самых высоких в этом районе, и нам добираться
туда к цирку ледника через морены и лёд.
К вечеру подходим под перевал Щуровского. Здесь на
100
скальном участке делаем площадки под палатки,
разбиваем лагерь, врубаем примус, и аппетитный запах
заполняет нашу заоблачную стоянку. Вечерняя заря
окрашивает вершины красноватым цветом, а вот и
звёзды зажглись – красотища! «Кумулис – грандиозус, -
изрекает наш оракул, - завтра будет ясно».
Встаём рано, чтобы успеть подняться по ещё твёрдому
фирну, а главное – спуститься на ледник Щуровского до
морены. Часам к 12 поднялись под сам перевал, но тут
нужно прорубить окно в снежном надуве, и только тогда
выходим на сам перевал, расположенный на скальном
гребне.
Здесь на небольшой площадке стоит тур с запиской от
туристов из Ленинграда: они прошли перевал ещё в июле
и дальше должны уходить по леднику к реке Джиптык.
Нам тоже примерно так же, но где-то посередине ледника
нужно выходить направо, к перевалу Кироксан.
Обедаем на перевале, собственно, это традиционный
закусон из хлеба, консервов и, конечно, горячего чая.
Геннадий Эминович торопит нас спускаться, а сам с
Николаем пока остаётся, чтобы сделать панорамные
снимки для отчёта.
Мы двумя «двойками» начинаем спуск по довольно
крутому снежному клуару, но вполне безопасному. Какая
прелесть – спуск по снежному склону – летишь себе, как
заядлый горнолыжник, глиссируя триконями, а то и
«пятой точкой». И мы уже внизу на леднике Щуровского,
ждём руководство, а их всё нет и нет. Начинаем
волноваться, и вдруг видим летящий сверху как бы
снежный вал – это они кубарем скатываются со склона.
Подходим, а на них лица нет, от волнения
задыхаются, несут что-то нечленораздельное, и только
минут через 10 более-менее рассказывают, что там
произошло. А было там нечто странное, говорит Гена: «Я
101
прошёл немного по гребню, оставив Николая на
площадке, делаю фотосъёмку, и вдруг слышу шелест в
камнях. Первая мысль: снежный человек, надо
постараться сфотографировать. Оборачиваюсь назад –
опять шелест, но где-то впереди. Я бегом к площадке, а
Николая нет, я совсем струхнул, но тут он выходит из-за
скалы, где просто был по нужде.
Я ему: «Шелест слышал?», он говорит: «Да, где-то в
скалах». Тут мы уже оба не выдержали, и бегом
спускаться. Что же это было, мы узнали потом у местных
пастухов. Они думают, что, вероятнее всего, это барс, их
здесь много, а на перевалах туристы едят, остаются
объедки, конфетки, вот они и приходят пожевать, хотя
могут закусить и туристом.
Наконец-то мы все в сборе, надо успеть до темноты
спуститься на морену ледника Щуровского, под перевал
Кироксан. Идём в связках по правому краю ледника,
здесь опасно: под снегом есть трещины, и вот Олег чуть
отошёл в сторону – и тут же провалился по грудь.
Ниже – лучше: выходим на открытый лёд, здесь хоть
видно, куда наступать, а потом пошла морена, и мы сняли
верёвки, дышим полной грудью. Впереди блеснуло
моренное озеро с отражением в нём пика Кироксан.
Красивый кадр: вечернее небо, гладь озера, а главное –
очень удобное место для ночёвки.
Перевал находится справа от вершины, но до него
надо обогнуть два боковых гребня. Это будем делать
завтра, а сегодня – отбой.
По нашим расчётам на базу мы должны прийти дня
через два, а может, и быстрее, в общем-то осталась
ерунда: пройти единичный перевал и выйти на морену
ледника Кшемыш, а там рукой подать.
С утра довольно быстро доходим до первого бокового
гребня, тут небольшой сай, и чтобы не переходить по
102
воде, решаем подняться чуть вверх, там, где он сужается
и можно просто перепрыгнуть его по камням. Вот тут-то
и началось наше приключение с первопрохождением
совершенно другого перевала, да ещё большей
сложности, на спуске к леднику Кшемыш.
Мы стали подниматься вверх по саю и в общем-то
дошли до места, где можно было перейти на другой
берег, а затем опять спуститься вниз до выхода к цирку
под перевал Кироксан. Но то ли лень, то ли
самоуверенность, что нам все горы нипочём, - решаем,
казалось бы, простой вопрос: зачем спускаться, когда
можно ещё наверх, и тут явно есть такой же перевальчик
в сторону Кшемыша.
И действительно, впереди отлично был виден гребень
с небольшим снежком, и казалось, что ничего не стоит
выйти на него до обеда, а там быстренько спуститься и
опередить график на целые сутки. И мы пошли, пошли и
шли, как оказалось, до самого вечера. Действительно, со
стороны подъёма никаких сложностей не было, просто
небольшие скальные участки, кое-где «сыпуха», и только
под самой вершиной гребня – скальные зубья.
Однако расстояние до верха оказалось более длинным,
чем нам казалось, и стало понятно, что надо разбивать
ночёвку под вершиной. Разровняли место для наших
палаток, и только хотели залечь, как начался камнепад.
Вот это да, вот только этого нам не хватало, весь склон
простреливается, что делать?
И тут наш «Суворов» принимает гениальное решение
– строить забор из камней, верёвок, ледорубов, и всё это
уже в темноте. Представляете, какой получился заслон от
«чемоданов», но тем не менее стало подмораживать, и
камнепад пошёл на убыль. Мы разлеглись в палатках, но
спать как-то не получалось, а Эдик ещё чревовещал, что
если и пойдёт камень, то сначала заденет крайнего, а он
103
сам, конечно, лежал посередине.
Ночью было морозно, так что все наши камни
покрылись ледком, а с утра мы быстренько взошли на
перевальный гребень под вершиной (4900 м). От перевала
до вершины - метров 150, и был большой соблазн
покорить её, но надо спускаться, и тут у меня пошли
галлюцинации: говорю – и как бы слышу себя со
стороны.
Наш знахарь, тот же Эдик, советует стать на голову –
и всё пройдёт. Я как дурак выполняю это упражнение и
чуть не сдох, ох уж эти доморощенные лекари!
Надо спускаться, но это не так-то просто по крутому
ледовому склону, и для начала отходим по гребню влево,
навешиваем верёвку и маятником перелетаем вправо до
более пологого места, а там начинается довольно узкий
клуар, забитый снегом. Идти по нему нетрудно, но есть
опасность схода лавины, и мы по двое в связках,
соблюдая дистанцию, медленно спускаемся под
начавшимся снегопадом, это ещё больше осложняет
продвижение.
Но, слава Богу, опасный участок пройден, уже хорошо
видна морена ледника Кшемыш, и тут на завершающей
стадии новый форпост. Ледничок, по которому мы
спускаемся, обрывается десятиметровой стеной, так что
опять закрепляем верёвку на крюк через карабин, и по
одному со страховкой осторожно вниз на скальную
полку. Затем нужно быстро отойти влево к скале, так как
сверху в это время, а уже больше пяти часов, начинается
камнепад.
Пока каждый участник проделывает эту процедуру,
уходит очень много времени, начинает темнеть.
Последним должен спуститься Игорь со страховкой
снизу, потом нужно выдернуть верёвку, а крюк с
карабином останется горам на память.
104
Что делает Игорь? Он уходит влево к скале и за пару
минут без всяких страховок спускается вниз, как по
лестнице, к нам. Мы готовы были убить руководителя за
такой тактический промах, но время поджимало, а у нас
контрольный срок заканчивается в 12 часов ночи, и мы
галопом по морене мчимся на базу.
Опоздали на целый час и, конечно, получили втык от
альпинистов: мало, что ли, им своих забот, так ещё эти
паршивые туристы.
Была ночь, и настал день – день отдыха и рассказов о
героическом первопрохождении нашим друзьям на базе,
то бишь «графу» и опоздавшему Виктору.
В честь успешного восхождения альпинисты
подарили нам польские дрожжи, и главный орнитолог тут
же стал варить брагу. Обед был шикарный: жаркое, салат,
и всё запивалось из целого ведра этой бурды, под весёлые
крики: «Графу Сергееву шампанское! Покорителю
перевала такому-то – шампанское!» И что нам ведро на
такую ораву!
Через день альпинисты, выполнив своё восхождение,
снялись и ушли, а нам ещё надо делать две радиалки. Что-
то стало холодать, и не мудрено: в конце августа тут уже
заморозки, пора закругляться, и наш фельдмаршал,
вопреки всем туристским правилам, решает разделиться
на две группы и одновременно делать радиальные
восхождения на перевалы Боец (4380 м) и Райгородского
(4790 м).
В первой группе я, Эдик и Николай, во второй –
Геннадий Эминович, Витя, Игорь и Олег, на базе,
естественно, остаётся орнитолог. У него ещё остались
дрожжи, так что весёлая жизнь ему обеспечена.
Своё восхождение на перевал Боец мы сделали
уверенно и быстро в течение одного дня, там не было
особых трудностей, так себе скально-ледовый склон и
105
спуск по фирну, в основном глиссируя с ледорубом
наперевес. А вот второй группе досталось, им пришлось
ночевать на леднике в прижиме и в общем-то не спать, а
держать палатку от сильных порывов ветра.
Перевал Райгородского – один из самых известных в
этом месте из-за своего ледника на спуске в сторону реки
Калай-Махмуд. Собственно, до нашего времени его никто
не проходил, это крутой ледопад, по которому
первооткрыватель сам не прошёл, а нам Бог не велел.
Группа Геннадия Эминовича пришла на базу через два
дня вся обмёрзлая, и тут «граф» со своим шампанским
оказался очень кстати. «Кумулис – грандиозус», -
предупредил наш астрофизик, что означало «пора
смываться», и мы стали собираться. Но что делать с
оставшимся провиантом, куда деть тазик для
постирушки? И мы оставили гору всяких не влезающих в
наши рюкзаки консервов для будущих восходителей.
Для этого вырыли яму, всё аккуратно сложили,
засыпали землёй, и на холмике установили тур с запиской
«От нашего стола – вашему».
Что делать? Назад ишаков нет, нагрузились так, что
бедный Витя еле встал, прошёл два шага, поскользнулся и
грохнулся во весь свой рост. Поначалу ещё по крутой
тропе шли медленно, а после первого моста на левую
сторону реки Кшемыш, где летовка Тубек, начинается
вьючная довольно широкая тропа, можно сказать,
грунтовая дорога. Здесь первый большой привал, и
Геннадий Эминович решил не мучить рвущихся вперёд, а
предложил добираться самостоятельно вплоть до
Ташкента. Но меня он оставил при себе как
«приближённого к царственной особе».
Я был очень рад, так как всё равно не смог бы
угнаться за этими архаровцами, которые тут же исчезли с
наших глаз, а мы чинно и благородно, не спеша,
106
двинулись в посёлок Ворух. К вечеру следующего дня два
ободранных странника вошли в посёлок – и сразу к
руководству: нужно было оформить бумаги для
авансового отчёта.
Нас вежливо приняли и даже оставили ночевать в
конторе сельсовета на двух диванах. Только мы на них
разлеглись, как тут же вскочили: голодные клопы сразу
же впились в наши измождённые тела. Пришлось
ретироваться во двор на деревянный топчан.
На следующий день мы уже были в Исфаре, здесь есть
аэропорт и рейс на Ташкент. Но была огромная очередь,
которая штурмом брала кассу. В растерянности мы
скромно стояли в углу, как вдруг к нам подошёл сам
начальник аэропорта и вкрадчиво спросил: не наши ли
туристы были вчера здесь?
По описанию это были они, и начальник тут же
предложил нам лететь с пересадкой в Педжикенте, так
как всё равно на Ташкент прямого самолёта сегодня не
будет. Мы, конечно, с радостью согласились, правда,
удивились столь доброму расположению руководства к
туристам.
Ларчик, как оказалось, открывался просто, и об этом
мы узнали, уже вернувшись в Ташкент, на нашей
традиционной сходке по разбору похода.
А пока мы с комфортом летим в аэропорт «Чкаловск»
- это предместье Педжикента, когда-то закрытый
городок, как говорят, с московским обеспечением. Какое
там было обеспечение на самом деле, я не знаю, а вот
большое озеро в центре нам очень понравилось. Мы
вошли в него прямо в чём были, заодно, так сказать,
постирались, а на вопрос изумлённых мальчишек «А что,
у вас дома нет?» - объяснили, что мы «черноморы» и
живём в воде.
Ну, вот и наступил долгожданный день разбора
107
похода, и нам открылась тайна высочайшего сервиса по
отношению к нам в аэропорту Исфары. Всё было просто:
от нас хотели побыстрее избавиться из-за того, что там
побывала наша орава и ночевала в аэропорту прямо у
взлётной полосы. Ночью они приставали к девушкам,
диспетчерам, а Эдик носился с собакой (подарок пастуха),
умоляя посадить её в самолёт, но её не взяли, и Эдика
тоже, так что он добирался поездом.
Днём они побывали в местном кафе, где попросили
посудомойку помыть две наши походные канистры из-
под бензина. Когда работа была выполнена, решили
проверить качество, и зажгли спичку, раздался взрыв,
метнулось пламя. Оказывается, несчастная женщина
хотела обмануть этаких прожжённых негодяев, она
просто вытерла канистры снаружи.
Закончился наш поход, вернее, экспедиция, где
позволяется всякое отклонение от маршрута в целях
более детального изучения района.
С Геннадием Эминовичем в общие походы мы больше
не ходили, но в конце года приглашали его на наш
традиционный товарищеский ужин в честь окончания
сезона. Он приходил и услаждал всех замечательным
исполнением песен.
А недавно я узнал, что он покинул нас навсегда, но
память, память-то о нём – жива.
108
Пик Кшемыш-Баши. 1972 г.
Ночёвка под перевалом
Щуровского
109
Ледник Щуровского. 1972 г.
Геннадий
Лавереньев,
руководитель
похода. 1972 г.
110
111
Глава 5
ФАНСКИЕ ГОРЫ
112
113
Я сердце оставил
В Фанских горах,
Теперь бессердечный
Хожу по равнинам
И в тихих беседах,
И в шумных пирах
Я молча мечтаю
О синих вершинах.
Юрий Визбор
Моё первое путешествие по Фанам было в далёком
1970 году, когда я впервые повёл туда группу туристов
ДСО «Трудовые резервы». Вообще-то до армии я
занимался в альпинистской секции, выполнил третий
разряд, в силу чего и начинал свою службу в горно-
стрелковом полку.
Фанские горы - наше первое «крещение боем», и мы к
нему тщательно готовились: подбирали продукты,
комплектовали снаряжение, а самое главное – намечали
«нитку» маршрута. Эту задачу облегчало наличие
неплохой картосхемы, составленной известным
альпинистом, знатоком тех мест.
Фанские горы представляли собой интерес не только
для многочисленных альпинистских команд, но и для
зарождающегося горного туризма. Вообще это
удивительная горная страна. Здесь в диаметре до 100 км
находятся 11 вершин свыше 5000 метров.
Высокие вершины, высокое оледенение, тёплый
климат – вот что манит к себе всех любителей гор, а нас
ещё – и близость района, возможность подъезда как бы в
центр всех начал восхождений и путешествий. Это озеро
Искандер-Куль, что в переводе с тюркского означает -
озеро Александра. Имеется в виду Александр
Македонский, чьи доблестные войска бывали в здешних
114
краях.
Теперь о наших наполеоновских планах покорения
Фанских гор. Для начала нужно добраться до озера
Искандер-Куль, пройдя на другой конец озера по реке
Арг и реке Казнок, подняться на перевал Восточный
Казнок (4040 м), затем спуск на моренное озеро Мутное
под самой высокой вершиной Фан – пиком Чимтарга
(5489 м), сделать радиальный выход на озеро Большое
Алло через перевал Чимтарга (4740 м).
Вернувшись обратно на озеро Мутное, спуститься на
красивейшие Аллаудинские озёра и через перевал
Аллаудин (3860 м) выйти к Куликолонским озёрам. Там
уже выход на автодорогу, ведущую в город Пенджикент,
дальше – Самарканд, а затем поездом в Ташкент.
Пройдя этот маршрут, мы получим удовольствие
познать большую часть Фанских гор и их прекрасных
озёр.
Итак, партитура расписана, пора выступать, то бишь
ехать.
Все сидят у костра на берегу знаменитого озера
Искандер-Куль. Добрались сюда мы на перекладных:
поездом до Самарканда, автобусом до Пенджикента, а
оттуда по договорённости на грузовой машине прямо до
озера. Здесь тогда был небольшой комплекс приюта от
турбазы «Варзоб». Стоял павильон со столовой, а также
армейские палатки для туристов, которых привозили на
неделю и мотали по окрестностям.
Мы приехали в пересменок, так что было тихо и
уютно. Рядом с нами – костерок, там сидит пожилая
супружеская пара, мы подсели, разговорились. Они
сетовали на то, что много лет потеряли, путешествуя по
заграницам, и только теперь поняли, что прекрасней
115
природы, чем в такой большой стране, как Союз
(бывший), нигде нет, да времени у них теперь мало, и не
те силы.
Вот тогда и зародилась мысль, что пока есть силы и
возможности, нужно успеть посмотреть хотя бы
основные горные районы страны. Забегая вперёд, скажу,
что в принципе нам это удалось, да ещё за
государственный счёт: «Слава вдохновителю и
организатору всех наших побед!».
Через день мы попрощались с нашими новыми
друзьями и по дороге двинулись вдоль правой стороны
озера на его противоположный конец – там рудник, где
добывают ртуть.
Кстати, вода в озере белёсая от её присутствия, и,
конечно, купаться в нём не рекомендуется, да и не очень
захочешь: вода ледяная.
Вдоль левого (орографически) берега реки Сарыдаг
выходим на её приток реку Арг. «Арг» в переводе
«золото»: когда-то здесь мыли золотишко, да и сейчас
балуются местные аксакалы. Но нам надо выше и выше –
под перевал Восточный Казнок. Здесь, где-то на середине
пути, - прекрасная зелёная поляна на слиянии нескольких
горных ручьёв, ну как не сделать привал. Ставим наши
палатки, а ужинать приглашают к себе альпинисты из
Воронежа. В Фанах можно встретить народ со всей
необъятной страны и даже из-за границы – это в
основном немцы из тогдашней ГДР.
Вообще впоследствии мы очень часто встречали
немецких туристов из ГДР, а потом уже и из ФРГ.
Казалось, что они заполонили все наши тропы, перевалы
и вершины, ну, любят они путешествовать, да ещё по
дешёвке, ведь даже сейчас провести отпуск в республиках
бывшего Союза намного проще и дешевле.
У них было прекрасное снаряжение, отличные карты,
116
а не схемы, как у нас, но была одна деталь, которая до
нас не доходила – организация их питания. Ещё при
сборах они раскладывали порции завтрака, обеда и ужина
каждого участника на весь поход, затем на привалах
выдавался индивидуальный паёк, каждый отходил в
сторону и в одиночестве поглощал пищу.
Для нас тогда это было очень странно, хотя теперь,
навидавшись «заграниц», я понимаю такую ментальность
западного человека. Мы же больше азиаты и привыкли к
общественному питанию – иногда я с тоской вспоминаю
наши столовые с их ненавязчивым меню: борщ, шницель
и, конечно, незабвенный компот.
Альпинисты на своих базах разворачивали целые
полевые кухни и всё время что-то готовили, жарили,
пекли самодельные хлеба, лепёшки и самое любимое
блюдо – блинчики. Вот и на этот раз они столько
наготовили, а их группа на спуске с пика Москва (5046
м) задержалась, так не выбрасывать же провиант, и они
приглашали всех, кто был на поляне, не только на ужин, а
и на завтрак, так что голод нам не грозил.
После халявного ужина – песни у костров, каждый
коллектив поёт что-то своё, любимое, в основном это
бардовские произведения. Тогда это движение только
начиналось. И все были в экстазе от Окуджавы, Визбора,
Высоцкого, Кукина. Чаще всех исполняли Высоцкого –
он только что снялся в фильме об альпинистах
«Вертикаль», и его авторские песни из этого фильма
распевались повсюду.
Тогда ещё считалось достойным иметь в группе
гитару и тащить её весь поход, затем как-то постепенно
всё ушло, но на альпинистских базах, туристских слётах и
соревнованиях это обязательный атрибут, и были в этом
деле настоящие фанаты.
Сидим мы у своего костерка, поём потихоньку под
117
бренчание нашего доморощенного гитариста, и тут вдруг
подбегает парочка с блокнотом: «Давайте споём вот эту
песню… а теперь вот эту…», полистав блокнотик,
добавили ещё штук пять, и испарились так же
неожиданно, как и пришли.
Мы как-то все обалдели от этого нашествия.
Старались понять, в чём здесь для них кайф. Быстренько
пропеть и дальше – по другим кострам, наверное, их это
действие будоражило и удовлетворяло, как секс.
С утра мы на кухне у альпинистов, они же
приглашали нас на завтрак, мы люди пунктуальные и
обязательные, особенно когда пожрать… И вот уже за
блинчиками к нам подходит миловидная инструкторша
плановой тургруппы из Ленинграда с большой просьбой
помочь забросить ей её девичью стаю на перевал
Восточный Казнок. Нам как раз туда, и мы охотно
соглашаемся, тем более, что у нас-то одни мужики.
Подъём на перевал со стороны реки Казнок
нетрудный, идёт набитая тропа, перед выходом на
перевал небольшой скальный участок со снегом. Высота
приличная – 4040 метров, идёт снежок, довольно
прохладно, а вся сложность – на спуске в сторону озера
Мутное, что под пиком Чимтарга. Весь склон в большом
снегу, круто и скользко, в начале спуска – ледовой
участок.
Ну, тут, конечно, наши мужики проявили себя как
галантные кавалеры, буквально за ручку спускали девиц
по склону, а так как их было аж 10 человек, то пришлось
это сделать в два приёма. На последнем отрезке склона
все вместе садимся на «пятую точку» и лихо съезжаем
прямо к озеру. Здесь стоит палатка с альпинистом, он
наблюдает за восхождением его группы на вершину пика
Чимтарги, но, по-моему, товарищ больше следил за нами.
Радости его не было предела, и он всех приглашает к себе
118
в «Памирку», тем более, что начался дождичек.
Девицы устанавливают мировой рекорд и,
представляете, сумели-таки разместиться все в
четырёхместной палатке.
Это всё, конечно, забавы, и через 10 минут мы
прощаемся, нас горячо целуют, и они начинают спуск в
сторону Аллаудинских озёр. Мы же разбиваем свой
лагерь, нам предстоит радиальный выход на озеро
Большое Алло, через самый высокий перевал на Фанах –
это перевал Чимтарга (4740 м) между вершинами пика
Чимтарга (5489 м) и пика Энергия (5120 м).
Место это расхожее, на перевал ведёт чёткая тропа,
хорошо слышны голоса альпинистов, спускающихся по
ребру с вершины Чимтарги. Несмотря на вроде бы
приличную высоту перевала, на всём протяжении
подъёма с нашей южной стороны ни снега, ни фирна, ни
тем более льда совсем нет. Это всё впереди на спуске.
С перевала рукой подать до пика Энергия, так и
хочется сбегать на вершину, но не будем нарушать
правила горного туризма, хотя мы знаем множество
примеров, когда наши коллеги поднимались и на пик
Ленина, и даже на пик Коммунизма, т. е. на
семитысячники Памира. Это говорит о том, что в
техническом плане наши ведущие команды горных
туристов не уступали альпинистам, и хотя их
наказывали, дисквалифицировали, не засчитывали
результаты, всё это приводило к значительному
усложнению маршрутов и в конечном счёте к слиянию с
альпинизмом.
Вот такая получилась метаморфоза: сначала
альпинизм откололся от туризма, а затем наоборот.
По крутому скальному склону мы спустились на озеро
Большое Алло, берега которого покрыты зелёным
арчёвником. Вода в озере цвета ультрамарина с
119
отражающимися в ней красными гранитными скалами.
Бурные белые потоки, стекающие с ледников Чимтарги и
Энергии.
Переход был не трудным технически, но долгим, с
набором большой высоты, и мы очень устали. Завтра
днёвка, и можно поспать подольше. Поставили
палаточки, и, как обычно в безлюдных местах, сложили
снаряжение, продукты в общую кучу перед палатками,
накрыли всё полиэтиленовой плёнкой и залегли.
Но как это бывает после большой усталости, сразу не
уснёшь, вроде бы спишь, но всё слышно, в голову лезет
всякая чертовщина. В то время самой популярной
личностью в горах был снежный человек: вроде кто-то
его видел, кто-то нашёл скальп, но самой убедительной
приметой были его огромные следы.
Дошло до того, что газета «Комсомольская правда»
включилась в поиски этого существа, набрала
добровольцев, и они установили круглосуточные посты
наблюдения именно в Фанах. Мой сосед по дому Максим
уверял, что видел этого «йети» (так он называется в
Непале) буквально в 20 метрах, на леднике Абрамова, где
он работал когда-то на снеголавинной станции.
Дело было ночью, сияла луна, видимость отличная, и
из окна наблюдательного пункта, что стоял на расстоянии
двух километров от самой станции, ему было хорошо
видно, как это «нечто» прошло рядом.
Больше всех повезло известному учёному М.
Паустовскому, который участвовал в легендарной
экспедиции Академии Наук СССР 1927 года по розыску
снежного человека на Памире. Этот анекдотический
случай описывается в его книге, и если коротко, то суть
такова: обнаружив огромные следы, он шёл за ним двое
суток, выбившись из сил, присел отдохнуть и вдруг,
обернувшись, увидел огромного гималайского медведя,
120
следы которого он и принял за следы снежного человека.
Так вот, нечто подобное случилось с нами в эту
бессонную ночь. Я лежал в дремоте, пытаясь уснуть, и
вдруг услышал шаги. Сначала подумалось, что это мне
показалось, и я напрягся. Через какое-то время опять я
услышал звуки шагов. Кто бы это мог быть – человек или
зверь? Людей поблизости в этом районе не было, звери
вряд ли решатся приблизиться – запах костра и нашего
душка они явно не переносят.
Тихонько спрашиваю соседа: «Олег, ты шаги
слышал?». Да, он тоже слышал. Страшная догадка
мелькает в голове: а что, если это «йети»?
Становится как-то не по себе: он же может нас просто
прибить, а ещё хуже – ограбить, у нас же вся поклажа на
воздухе, придётся сворачивать поход. Ах, так! Полный
ненависти к грабителю, наш дежурный с ножом
наперевес выскакивает из палатки и благим матом орёт на
всё ущелье: «Продуктов и снаряжения нет!».
Ну, тут, конечно, похватав ледорубы, мы ринулись в
бой, но всё оказалось до смешного просто. Ночью прошёл
снежок, всё вокруг стало белым, и наша плёнка слилась с
общим пейзажем.
Какой уж теперь сон, завтра отоспимся. Мы дрыхли
до обеда, днёвка у нас не получилась. Оставаться здесь
ещё на одну ночь расхотелось, и мы ушли. Ушли так же,
как и пришли – через перевал Чимтарга на озеро Мутное,
и сразу вниз до Аллаудинских озёр.
На спуске к ним есть небольшое, совершенно круглое
озерцо Пиала – название соответствует форме. Так вот:
цвет его воды ещё больше ультрамариновый, чем в озере
Большое Алло.
От чего зависит цвет озера? Учёные считают, что от
наличия микроэлементов в составе воды. И
действительно, просто удивительно, сколько тут разных
121
по цвету озёр. Вот, например, Аллаудинские. Это бирюза
в зелёной оправе арчёвого леса, говорят, что они – самые
красивые.
Над озером нависают огромные вершины пиков
Чапдара и Бодхана, а дальше – ледники Большой и Малой
Ганзы, пик Фагитор. Эти все вершины за 5000 метров
вместе с массивом пика Чимтарга образуют как бы
центральную и самую высокую часть Фанских гор. Одни
только названия этих пиков звучат как имена
волшебников из восточной сказки.
Вот здесь на Аллаудинах, в окружении сказочных
вершин, мы и провели свою днёвку без присутствия
снежного идола, а при наличии множества палаточных
стоянок туристов, альпинистов и просто отдыхающих, так
как сюда подходит автодорога с молочной фермы,
расположенной где-то за 3 километра от начала озёр.
Ярко-бирюзовая вода так и манит к себе, но купаться
в ней можно только несколько секунд, этак – бултых, и
обратно – греться.
Мне кажется, что у человека есть какая-то
потребность отмечать своё присутствие на природе – то
ли надписью на камнях, то ли омовением в холодной
воде. Мы, как и многие туристы, обожали купаться в
холоднючих горных ванночках, озёрах и даже в Тихом
океане.
Поход наш заканчивается, через простенький перевал
Аллаудин (3860 м) спускаемся на Куликолонские озёра.
Эти озёра я давно знал, так сказать, визуально, по по-
желтевшим фотографиям 30-х годов, когда там работала
этнографическая экспедиция, в которой в качестве
художника был известный ташкентский график Вениамин
Николаевич Кедрин, который и подарил мне эти снимки.
С его сыном Александром, впоследствии тоже
художником, керамистом, мы были одногодки. Наши
122
родители дружили, да и жили мы рядом. Сейчас Алик
(так мы его звали) живёт в Нью-Йорке, что-то ещё рисует,
участвует в творческой жизни русскоязычной Америки,
вот только здоровье уже не то, да и зрение очень упало.
Когда я несколько лет жил в Монреале, мы с ним
часто созванивались, и он приезжал к нам на неделю, а
сейчас мы совсем далеко-далеко друг от друга. Он стал
очень религиозным, ходит в общину христиан-
семидесятников, и малость, как мне кажется, чиканулся
на этом деле, хотя правильней сказать, что человек
уверовал в святые христианские идеалы и, наверное,
счастлив.
…Всё это будет потом, а сейчас мы на большом
Куликолонском озере, оно совсем другого цвета, могу
сказать как художник – цвета охры золотистой, или
желтоватое. По южной стороне его обрамляет высокая
Куликолонская стена с мощными ледниками, отвесными
гранитными скалами пятитысячников Мирали и Мария.
Здесь расположен ряд очень сложных перевалов (3А, 3Б),
но это пока не для нас, мы же, в общем, только начали
заниматься горным туризмом, и пока наши перевалы
намного легче (1А, 1Б, 2А).
Пройдёт время – и мы тоже будем стоять на сложных
перевалах Тянь-Шаня, Памира, Кавказа, а пока любуемся
панорамой и спускаемся к реке Артуч. Здесь расположен
альплагерь Артуч, где начальником учебной части Галина
Тысячная, она с её мужем Ромой Перским были моими
первыми тренерами по альпинизму.
Раз я уже упомянул о Роме, не могу не рассказать о
нём хоть немножко. Для меня Рома был образцом
спортсмена-джентльмена: высокий, атлетически
сложенный, с умными глубоко посаженными соколиными
глазами. Говорил он негромко, но очень чётко,
чувствовалось, что это человек сложный, но добрый. Он
123
был одним из первых мастеров спорта по альпинизму в
Узбекистане, участвовал в сложнейших восхождениях.
Ему везло, он остался жив среди одиннадцати
альпинистов, засыпанных лавиной при восхождении на
труднодоступный пик Победы на Тянь-Шане. Я говорю
«был», потому что, к сожалению, нет его среди нас, он
погиб на спуске с пика Эрцог на Кавказе. Подробнее об
этом смотри главу «Кавказ».
От альплагеря «Артуч» начинается автодорога на
город Пенджикент и далее до Самарканда, а там – ночь в
поезде, и мы в Ташкенте.
Вот так и закончился наш первый, но не последний
поход по Фанам. После создания секции горного туризма
«Зодчий» мы снова побывали в этом чудесном крае.
Наш успешный дебют весной 1978 года, когда
воодушевлённые и одухотворённые члены коллектива
секции «Зодчий» не сумели собраться в летний поход, а
зуд путешествий не давал покоя, мелькнула азартная
мысль: не пройти ли нам в ноябрьские праздники по
Фанам. Район тёплый, снега там в это время ещё немного,
желания хоть отбавляй, и тем более 10 дней с учётом
праздничных плюс пару дней отгулов многие смогли бы
выкроить для этого необычного зимнего путешествия.
Сейчас, когда я описываю наши походы, я не устаю
удивляться, с какой лёгкостью и наглостью мы
планировали маршруты, но, слава Богу, во время походов
здравый смысл не покидал нас, и мы вовремя
корректировали свои наполеоновские планы.
В общем, был намечен неплохой маршрут, ну а
дальше – как Бог даст. Нас 9 человек, с нетерпением
124
ожидающих и страстно желающих увидеть, покорить,
пощупать, что же это такое – зимний поход.
Поезд из Ташкента выходит поздно вечером, но зато
рано утром мы в Самарканде. Без труда добираемся до
Пенджикента - городка с древней историей и
сохранившимися до сих пор памятниками древней
архитектуры.
Но нам сейчас не до святых руин, мы пытаемся
поймать попутку на местной автостанции, и тут узнаём
пренеприятнейшую новость, что «по просьбе
трудящихся» (читай: по распоряжению местных властей)
всё население и транспорт мобилизуется на ударную
уборку хлопка.
Помню, тогда на многих зданиях висели
транспаранты: «Хлопок – национальная гордость
народа», а злостные диссиденты добавляли своё, и
получалось: «Хлопок – национальная гордость и
несчастье всех народов».
Вот мы и попали в категорию последних, так что
машин до вечера не было, и только часов в восемь нас
подобрал «газон», зато, можно сказать, до места. Поздно
ночью мы прибыли в посёлок Вору и прямо с корабля –
на бал: шёл какой-то «той» - в переводе «праздник». Нас
пригласили в чей-то дом, посадили за «дастархан»
(праздничный стол), в общем, до утра шло гуляние.
Назавтра до обеда отсыпаемся в этой избе, но пора и
честь знать. Мы идём пешком по дороге с надеждой, что,
может быть, нам повезёт, и те 20 километров до начала
маршрута на слиянии рек Арчамайдо и Амшут нас
подбросит какой-нибудь хоть трактор с прицепом.
Ан нет, пришлось топать самим - в наказание и дабы
все винные пары улетучились.
Наша первая зимняя ночёвка - на реке Амшут
125
невдалеке от слияния. Здесь встречаем пастухов,
спускавших свои стада вниз в посёлки. Они удивлённо
смотрят на нас, спрашивают, к какому роду войск мы
относимся, видимо, приняв нас за группу специального
назначения, и совершенно не допуская, что вот таким
образом люди могут отдыхать.
Ставим палатки на утрамбованный снег, и с бортов
ещё присыпаем, чтобы не поддувало. Небо чистое,
морозец, но ветра пока нет, так что залезаем в берлогу, то
бишь в палатку, ныряем в пуховые спальники и
нормально спим до утра.
Утро красит нежным цветом стены… нет, не Кремля,
а гранитные скалы ущелья Зиндон (в переводе – глубокая
яма, где на Востоке держат пленных или осуждённых
злодеев, а также заложников – в общем, восточная
тюрьма). У знаменитого русского художника Верещагина
есть огромное полотно, которое так и называется –
«Зиндон».
И вот мы шаг за шагом погружаемся в это мрачное,
узкое ущелье, где с гулом отдаётся любой звук –
упавшего камня или даже наших шагов. Здесь когда-то
поверху проходила группа ташкентских туристов,
участником которой был Эдик Нисский, совершенно
необыкновенный рассказчик, который, как «друг степей
калмык», мог смотреть по сторонам выжженного солнцем
склона и одухотворённо рассказывать, как хороша жизнь
во всех её проявлениях.
Так вот, этот разгильдяй поставил свой рюкзак на
край скалы, зазевался, что-то дёрнул, и рюкзак со свистом
улетел в Зиндон, а в рюкзаке был примус с бензином, всё
это оглушительно грохнуло на дне ущелья. Пришлось
товарища спускать на верёвках вниз, чтобы забрать, что
уцелело.
С Эдиком мы были знакомы давно, ещё с ДСО
126
«Трудовые резервы», где совершали походы на Матчу и
по Киргизскому хребту.
Мы идём по ущелью, слава Богу, сверху никого нет,
да нет вообще на Фанах никого, кроме таких придурков,
как мы, так что нечего бояться, что сверху на голову
упадёт «чемодан».
В архитектуре есть такой приём, когда из темноты
узкого помещения попадаешь в светлый высокий зал, где
поражает величие пространства. Так и здесь: пройдя
узкое тёмное ущелье, мы выходим к небольшому озерку,
где ущелье раздвинулось, и впереди впечатляющая
панорама на пятитысячники Энергия, Мирали, Мария и
самую высокую великолепную вершину Чимтарга. Да,
хоть ради этого вида стоило идти и терпеть холодные
ночёвки.
Тихо-тихо дело дошло до того, что единственная
женщина среди наших участников Наташа, да, та самая, с
лёгкой руки которой и организовалась наша секция, перед
сном попросила нас не занимать палатку, а сначала она
первая зайдёт туда и поплачет – таким образом Натали,
видимо, согревала и тело, и душу, а заодно проклинала
нас, авантюристов.
Хорошо набитая тропа выводит на предозёрную
морену из довольно крупных валунов, по которым идти
сейчас нужно очень осторожно, так как они покрыты
снегом, а местами льдом, и наши трикони (ботинки с
металлическими скобками) скользят. Другой обуви у нас
просто нет и не могло быть в то время. Высокогорные
вибрамы, мечта многих туристов, увы, были для нас
недоступны, и не из-за денег, а их просто нигде в
магазинах и в спецмагазинах не было.
Единственными обладателями этих итальянских
башмаков была сборная Узбекистана по альпинизму.
Да, если б только ботинки, а эти рюкзаки, палатки
127
весом до 5 килограмм, металлические крючья и карабины
– в общем, снаряжение было будь здоров. Я уже говорил,
как на семитысячный пик Ленина взбирались в
телогрейках – ну просто фантастика!
И вот мы стоим на гребне морены, а внизу
ультрамариновое озеро Большое Алло в обрамлении
крутых красных гранитных скал и вечнозелёной арчи.
Берега озера уже покрылись коркой льда, но само оно ещё
не замёрзло, и тонкая рябь воды завораживает взгляд, и
озеро ещё красивее, чем летом, когда я видел его в
первый раз.
Однако холодно, ведь мы уже на большой высоте,
погода портится, подул сильный ветер, и мы поняли, что
дальше не пойдём, и даже ночевать здесь не останемся,
хотя есть несколько удобных площадок. Мы не стали
спускаться по морене, а траверснули вправо и по
сыпучим склонам, буквально как на лыжах, съехали к
тропе.
Внизу, конечно, идти легче и радостней, некоторые
даже напевали вполголоса, в общем, ребята шли
молодцом, не гнусавили, не жаловались и пошли бы
дальше, но они, конечно, были рады сойти вниз, в тепло.
Мы вышли на дорогу и почти сразу сели на попутку
до Пенджикента, видимо, потому, что хлопковая страда
закончилась, страна выполнила липовый план по
заготовке хлопка-сырца, и всех оставили в покое.
Вот так закончилось наше необычное путешествие в
необычное время, но основной большой летний поход по
Фанам ещё впереди.
Летом 1984 года мы снова на берегу озера Искандер-
Куль. Мы – это группа туристов секции «Зодчий» и, так
сказать, сопутствующие любители. Пригласили мы их
128
прокатиться, дабы заполнить грузовик, который был
зафрахтован для поездки из Ташкента прямо на озеро.
Ехали долго, нудно, пыльно, с остановками на три
«П»: покушать, попить, по нужде сходить. И вот к вечеру
мы на благословенных брегах. «Зодчие» поставили свои
палатки, а наши гости устроились на ночёвку прямо в
кузове машины, расстелили одеяла, матрасики, в общем,
обосновали «братскую могилу».
Нас, «Зодчих», восемь человек, однако в поход
окончательно идут только шестеро. Саша с возлюбленной
остаются и обещают подключиться к нам потом, когда мы
придём с кольца.
Да, самый раз огласить «меню», т. е. план нашего
путешествия, а оно делится как бы на две части.
Первая – это кольцо через перевалы Джиджик (3600
м), Верхний Зинах ((4020 м) и Чапдара (3430 м), попадаем
на Аллаудинские озёра, затем подъём на озеро Мутное и
через перевал Восточный Казнок (4040 м), спуск на реку
Казнок вниз до слияния трёх ручьёв, выходим на
летовку. Здесь к нам должна примкнуть «парочка».
Вторая – это выход из района через перевалы Полтава
(3740 м) и Дукдон (3810 м), спуск на реку Арчамайдо до
притока реки Сарымат, откуда начинается автодорога до
Самарканда, а там пересадка на поезд до Ташкента.
Как видите, этот маршрут несколько перекликается с
тем, который я проходил тогда, давно, но не во всём.
Итак, задачи ясны, люди распределены, завтра в путь,
а наши друзья ещё пару дней поматрасничают и на этом
же грузовике уедут домой. Утром грандиозная «пионерс-
кая» линейка: с одной стороны – группа туристов,
уходящих на маршрут, с другой – толпа отдыхающих,
тайком завидующих нам.
Горячие напутствия, не менее горячие рукопожатия,
129
поцелуйчики, и, слава Богу, - «алга» - вперёд.
Для начала нам пришлось спуститься по дороге вниз,
до посёлка Нарвад, откуда и начинается тропа к перевалу
Джиджиг. Как всегда и везде, местное население с
удивлением смотрит на туристов и никак не может
понять, что это за люди с рюкзаками, но не топографы и
не геологи, и даже не рыбаки или охотники – видимо, в
их глазах мы просто идиоты.
Но они приветливы генетически, и помогают нам, а
так как в группе есть девушка, то её рюкзак почти до
перевала везёт резвый ишачок.
Кто же эта девушка, которую осчастливил местный
ишачок, да и вообще кто есть кто? Она – единственная
звезда нашего похода, девушка чьей-то мечты – это Надя,
Наденька, Надежда – да не наша. А появилась она в
нашей секции сравнительно недавно.
Весной на майские праздники её и ещё двух девчат
привёл к нам Эдик Жданов, большой наш друг, почётный
член нашей секции, один из могикан когда-то
легендарной туристской группы ОДО. Пожалуй, это была
одна из первых туристских групп в Ташкенте, но хотя
официально её давно нет, и её участники разошлись кто
куда, всё же причастность к ней – это как орден, почёт на
всю жизнь.
Так вот, этот орденоносец Эдик иногда нас баловал
своим участием в наших мероприятиях и, как видите,
пополнял стареющие кадры молодой порослью женского
рода, что нам было очень приятно и в конечном счёте
судьбоносно для некоторых из нас.
Другой яркой звездой небольшого коллектива был
Равиль, бессменный фотограф наших походов. Много лет
он умудрялся нагружать нас дополнительным грузом за
счёт веса его аппаратуры, которую он приравнивал к
общественному грузу, т. е. к такому, как палатки,
130
верёвки, примус, бензин и т. д. И долгое время мы ему
верили, но всему есть предел.
Как-то, поразмыслив о том, что для отчёта он выдаёт
нам всего 10-15 фотоснимков, а весь фотоматериал идёт
в основном на продажу в журналы, газеты и в другую
печатную продукцию, мы решили: баста, тащи всё сам.
Но тогда мы ещё ему доверяли, и он с лёгким рюкзаком
порхал перед нами и щёлкал направо и налево.
Всё же надо признать, что был он великолепным
мастером фотографии, которая со временем стала его
профессией.
Не менее яркой звездой на нашем небосклоне был
Валентус (в миру Валентин Николаевич). Художник,
график, диссидент, он пришёл в туризм из алкоголизма. А
погибал человек, пока кто-то однажды не затащил его в
горы на Большой Чимган, и это его потрясло. Он бросил
пить, стал активным туристом и ходил с нами долгие
годы. Его холостяцкая квартира была нашей «явкой»:
здесь мы собирались перед выходом в походы, здесь
проходили разборы «полётов», да и просто всегда можно
было придти сюда к доброму хозяину.
Остальные участники похода тоже имели некоторые
достоинства, но – не то, не то.
Ну а Надька, как самая яркая звезда, флиртовала сразу
с двумя вышеописанными светилами.
Поход наш продолжается, всё идёт по плану, и вот мы
уже на перевале Чапдара, откуда открывается вид на
прекрасные Аллаудинские озёра. Мы спускаемся вниз,
разбиваем наш лагерь из двух палаток на берегу самого
крупного из этой системы озёр – Чапдаринского, а
название идёт от нависающей над ним вершины Чапдара
(5192 м).
Сегодня днёвка, пытаемся искупаться в озере, но это
можно сделать только в считанные секунды, так как вода
131
ледниковая. На озёрах много народу со всего Союза,
весело. Но вот прилетел вертолёт с родителями туристов,
погибших в прошлом году на перевале Седло Чапдары
(4500 м). Их палатку засыпала ночью лавина, и вот
сейчас, когда снег подтаял, нашли трупы и привезли
родителей на опознание.
Да, печально, что гибнут молодые, здоровые ребята,
но горы, как Боги, требуют жертв.
Утром снова в путь, предстоит подняться по очень
крутой морене на озеро Мутное в цирке пика Чимтарга,
отсюда влево начинается подъём на перевал Восточный
Казнок. Хотя морена и крутая, идём по набитой толпами
туристов и альпинистов тропе.
На Мутном прохладно, так что ночёвка – «зусман» (в
переводе с туристского – холодная), да и немудрено:
высота четыре с гаком.
Есть два перевала Казнок: Казнок Западный (4000 м) и
Казнок Восточный (4040 м). Наш – как раз Восточный,
его сложность заключается в предвершинном скально-
ледовом участке. Здесь нужна страховка, разбиваемся на
«двойки» - и вперёд.
На спуске сплошная сыпуха, никакого снега, тем
более льда, просто сначала крупная сыпуха, а ниже
мельче, там мы уже глиссируем как на лыжах и на «пятой
точке». Спускаемся к реке Казнок, где-то на полпути
садимся отдохнуть, и вдруг – камнепад – это сверху на
нас летит какая-то сумасшедшая группа.
«Ба, знакомые все лица» - это же наши ташкентцы:
Игорь Лагутин со своей компанией. Две минуты, и они
уже погнали вправо: у них впереди покорение ещё одного
перевала, надо выполнять спортивные нормативы.
Этот этап мы прошли давным-давно, и теперь
наслаждаемся общением с природой, а впереди сказочная
поляна на слиянии трёх речек. Здесь нас уже два дня
132
поджидают Саша и ещё несколько человек из группы
наших «матрасников». Они не уехали с машиной, зато
сходили на радиалки, а теперь пойдут вниз на Искандер-
Куль. Конечно, Александр Борисович идти с нами на
перевал Дукдон отказался, да и сил у него уже не было,
ещё бы: горы, подъёмы, переправы и любовь – всё вместе
– это трудно.
Так что мы в том же составе продолжаем, а точнее,
заканчиваем наш маршрут. Поначалу вся гоп-компания
спускается вниз до реки Сарытаг, и здесь, на слиянии,
наши пути расходятся. Нам направо вверх до левого
притока реки Каракуль, а им – вниз до озера Искандер-
Куль.
Мы прощаемся, жаль, что Саша променял поход на
бабу, но любовь зла, и в конечном счёте они поженились,
от судьбы не уйдёшь.
На реке Сарытаг стоит лагерь чумологов, почему-то
именно там периодически вспыхивает эпидемия этой
страшной пакости у животных. На всякий случай мы
быстренько проскакиваем это место и мчимся без
оглядки по реке Каракуль под перевал Дукдон (3810 м).
Вообще-то здесь набитая тропа, можно даже сказать,
«колея» от постоянного прохождения групп плановых
туристов.
Спустившись с перевала Дукдон, мы догоняем
огромную толпу этаких туристов. Большая группа
человек в 30 пылит на всё ущелье реки Арчамайдо. Идут
они налегке, и только инструктор нагружен «под
завязку». Что делать, в этой плановой группе в основном
девушки и несколько мужчин-алкоголиков, которые
кроме своих спальников и бутылок +40 градусов нести
ничего не хотят.
Приходится бедному инструктору тащить весь
провиант, но это здоровенный бугай, который за
133
полбанки готов переть любой груз. Это, конечно, не
характерно для всего планового туризма, есть в нём
инструктора-профессионалы, и у них полный порядок, а
разгильдяйство – так оно везде есть.
Что меня удивляло в «плановиках», так то, что
инструктору все верят на слово, будь он маститым
спортсменом или же юнцом, только что окончившим
курсы. Верят девочки, женщины, седые академики, в
общем, когда человек берёт путёвку на турбазу, он
становится этаким «лохом», и ему это даже нравится.
Помню, довелось мне в разгар «перестройки»
работать всё лето инструктором на филиале турбазы
«Чимган» в урочище реки Бельдерсай. В тот год был
большой наплыв отдыхающих, и мне предложили
поработать в летний сезон, а так как я как раз был
свободен от очередного проектного института, то,
естественно, с радостью согласился.
В мою задачу входило промаркировать несколько
простеньких однодневных маршрутов и водить по ним
туристов, которые приезжали к нам на неделю. Так вот,
чтобы им было интересно, по ходу одного из маршрутов я
на гранитной скале собственноручно нацарапал рисунки
якобы первобытных людей.
Все были в восторге от общения с наскальными
изображениями древнего человека, это было любимым
местом для фото, а если учесть, что туристы были из
разных краёв, то слава бельдерсайских рисунков
облетела всю страну.
Другой наш инструктор на турбазе «Чимган»
бесконечно и беззастенчиво врал о звёздах,
лекарственных травах, мумиё и очень сердился, когда
кто-нибудь из группы делал ему робкое замечание: «А
знаете ли, что в академическом издании атласа о звёздном
небе созвездие «Орион» весной находится там-то и там-
134
то». Он сверкал глазами, обрывал оппонента: «Это там у
вас в европейской части, а у нас в Средней Азии совсем
наоборот».
Вся группа начинала шикать на осмеливающегося
возражать самому Нуфу (Нуфгали), чьё имя знал весь
Союз.
Но вернёмся на грешную землю, то бишь в урочище
реки Арчамайдо. Чем ниже мы спускаемся, тем больше
зарослей арчёвника, бесконечные белоснежные бурлящие
притоки, аккуратные мостики из ветвей той же арчи, а
воздух - чистейший бальзам. Разве от таких мест уходят!
На слиянии рек Арчамайдо и Сарымат начинается
автодорога, здесь и заканчиваются или начинаются
маршруты в сердце Фанских гор. Мы спустились туда к
обеду, на наше счастье встретили большую группу
киевлян, которые только начинали маршрут, и увидев
нас, запылённых, замученных и таких застенчивых, сразу
усадили за свой стол.
На следующее утро провожаем киевлян, а сами на
попутках добираемся до Самарканда. Ночь в поезде – и
вот Ташкент, наш Ташкент. Поход, как всегда,
заканчивается в хибаре у Валентуса.
Конечно, был разбор похода, и, как всегда, мне
досталось, но всё же чувствовалось, что не всё было
плохо.
Тогда я ещё не знал, что это моё последнее
путешествие по Фанским горам.
Когда мы уедем, уйдём, улетим,
Когда оседлаем мы наши машины,
Какими здесь станут пустыми пути,
Как будут без нас одиноки вершины.
Юрий Визбор
135
Подъём к озеру Большое Алло. 1978 г.
Зимний поход. 1978 г. (Танец маленьких лебедей)
136
Озеро Искандер-Куль
Завтра в поход. 1984 г.
137
На маршруте. 1984 г.
Пик Чимтарга. 1984 г.
138
139
Глава 6
АЛТАЙ
140
141
Алтайский край. Краткая информация
Центр: г. Барнаул.
Республика Алтай (бывшая Горно-
Алтайская область).
Центр: город Горно-Алтайск.
Алтай состоит из:
Алтай
Гобийский Алтай
Монгольский Алтай
Крупные реки: Катунь, Бухтарма, Чуя,
Бия.
Свыше 3500 озёр. Самые крупные:
Телецкое, Маркоколь.
Степи: Чуйская, Курайская.
Леса: Кедр, пихта, сибирская
лиственница.
Климат: Резко континентальный. Зима
минус 19 – минус 32 градуса Цельсия.
Лето – плюс 9 – плюс
18 градусов Цельсия.
Население. Коренное население Алтай-
Кижи: русские – 89,5%, другие – 7,7%.
Площадь 169,1 тыс. кв. км.
Телецкое озеро – Алтынколь (Золотое
озеро) на высоте 436 м. Площадь 223 кв.
км. Глубина до 325 м.
Впадает до 70 рек, вытекает – река Бия.
Дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию
рассказ о прекрасной стране гор, красивых озёр,
дремучих лесов и бурных рек.
Мы сидим у большого стола, заваленного всяческими
блюдами из нехитрых продуктов – это наш праздничный
товарищеский ужин секции горного туризма «Зодчий»,
который справляется ежегодно в конце декабря. Всё это
142
пиршество посвящается подведению итогов прошедшего
туристского сезона и намётке планов на будущее.
И вот по ходу этого трёпа вспомнил я о своём
давнишнем походе на Алтай в 1971 году. Тогда я ещё
занимался спортивным туризмом под эгидой
спортобщества «Трудовые резервы». После успешного
выступления нашей команды на областных
соревнованиях по туристской технике руководство в знак
глубокой благодарности решило наградить нас
субсидированным походом на Алтай.
Тогда планировать путешествие за пределы нашего
родного Тянь-Шаня было сложно в основном из-за
отсутствия топографического материала, то бишь хотя бы
схем других горных районов. Но нам повезло – ещё зимой
в библиотеке городского клуба туристов появилась
книжка о путешествиях на Алтай замечательного
исследователя этих мест В. А. Пагануца, чеха по
национальности, живущего в этих краях, куда во время
гражданской войны попал его отец, белогвардейский
офицер армии Колчака.
Ну, конечно, наш доморощенный диссидент Валентус
сразу же загорелся и убеждал нас пойти по следам
боевой славы адмирала и его войска. Но это всё потом, а
начнём по порядку с июля 1971 года, когда мы, шесть
человек, направились в первый для меня поход по
Центральному Алтаю, в район знаменитой горы Белуха.
В то время ни одна ташкентская группа горный Алтай
ещё не посещала, и наш поход был не столько
спортивным, сколько познавательным. Можно сказать,
это была экспедиция для определения туристских
возможностей в данном районе. Так что нашей задачей
было охватить как можно большую территорию этого
удивительно красивого края.
Нитка маршрута определилась таким образом:
143
поездом из Ташкента в Барнаул, затем автобусом до
города Горно-Алтайска и дальше до посёлка Тюнгур, от
которого и начинается пешеходная часть.
Вдоль реки Кучерла вверх до озера Кучерлинское,
затем через перевал Буревестник на озеро Акемское –
радиальный выход в цирк горы Белуха – спуск по реке
Акем до слияния с рекой Катунь – хребет Иня – река Иня
– Чуйский тракт - посёлок Золотодобытчиков – перевал
Коо – река Чулышман – озеро Телецкое – турбаза
Артыбаш - город Бийск – город Барнаул – город Ташкент.
Как видите, мы почти охватили необъятное.
Мы едем, едем, едем в далёкие края. Наш паровоз
вперёд летит, в Барнауле остановка, и сразу же автобусом
до Горно-Алтайска. Там, на окраине этого зелёного
городка, течёт речушка, куда и направляются
многочисленные группы туристов со всей страны.
Вернее, их туда направляют местные спасатели, у
которых необходимо зарегистрировать свой маршрут.
Вот и мы разбиваем свой первый лагерь также на
полянке, рядом с туристами из Воронежа. Мы – это две
палатки, в одной из которых я и два научных работника:
Яшка Гершман, с которым мы старые приятели, а вот
Николай – это молодой амбал, очень умный: он пишет
диссертацию по каким-то физико-математическим
проблемам.
Во второй палатке народ проще. Это Игорь с супругой
и её подруга. Мы молоды, полны энергии и готовы
поначалу покорить любые трудности и невзгоды на
предстоящем пути. А путь наш далёк и долог – аж 180
километров только пешком в течение 25 дней, ночёвки в
полевых условиях – вот это романтика!
На полянке, где мы расположились, своеобразный,
как бы Всесоюзный туристский слёт, кого здесь только
144
нет – кто-то начинает маршрут, а кто-то уже закончил и
отсыпается.
Здесь мы лихорадочно консультируемся,
перерисовываем схемы, получаем информацию, а
вечерком – костры, песни, - эх, зачем куда-то идти? Но
надо, надо, Федя.
До посёлка Тюнгур, нашей отправной точки, там, где
начинается пешеходная часть маршрута, надо ехать двое
суток с ночёвкой в каком-то селении. Ходит туда
старенький «пазик», да и то только два раза в неделю, так
что попасть на него – тоже проблема.
Пассажиров в автобус набивают, как селёдку в бочку,
а если учесть, что основной контингент – это туристы со
своими безразмерными рюкзаками, верёвками,
ледорубами, то вы себе представляете, с каким
комфортом едешь до Тюнгура.
Мы сидим у костра на берегу реки Катунь, пьём чай, и
впереди нас – леса, а за ними проглядывают «белки» -
так называют здесь снежные вершины. Завтра с утра – в
путь, наконец-то начинается пешеходная часть
маршрута. До Кучерлинского озера вверх по реке
Кучерла примерно трое суток ходьбы.
Река не такая широкая, но бурная, с огромными
валунами, и мы с изумлением узнаём, что вот и по такой
реке спускаются водные туристы, для них это маршрут
высшей категории. А для нас идёт прекрасная набитая
тропа, но тем не менее идти надо осторожно, так как на
лесных участках корни деревьев частично оказываются
снаружи, и о них постоянно спотыкаешься, а это чревато
падением и, не дай Бог, вывихом.
А ещё одна опасность, о которой нас предупреждали, -
это то, что в этих лесах обитает рысь – хитрый, коварный
хищник. Зверюга залезает на дерево и сверху нападает на
145
добычу, в качестве которой сойдёт и турист. Так что идти
рекомендуется кучно, не отставая, поглядывая наверх,
дабы не стать лакомым кусочком для этой большой
кошки.
Но я думаю, что нас просто стращали на всякий
случай, потому как по этой тропе летом идёт масса
групп, и кто кого сожрёт – ещё вопрос.
А ещё какие-то умники в Ташкенте настоятельно
порекомендовали Яшке постричься наголо, чтобы легче
избавляться от энцефалитного клеща, которого видимо-
невидимо в лесах Алтая. И Яшка побрил голову под
лысину, в результате чего мы имели потом головную боль
от его вида уголовника, коих много на поселениях
Алтайского края. Они принимали его за своего, а на
Чуйском тракте нас даже задержала милиция, так что не
надо было под Котовского.
На третьи сутки к обеду мы выходим на гребень,
откуда открывается вид на озеро Кучерлинское, которое
по периметру окружает плотный лес, на дальнем плане
сверкают «белки» – вид обалденный. Спускаемся вниз к
озеру – здесь много площадок, удобных для разбивки
нашего лагеря.
Ставим палатки. Тут мы будем пару дней не только
отдыхать, но и хотим пройтись вокруг озера, в которое
впадают четыре реки, а выходит только одна – Кучерла.
Но, как говорится, человек предполагает, а Бог
располагает, и нам удаётся пройти только по левому
берегу озера, а вот преодолеть место слияния в озеро
окрестных рек проблематично: во-первых, надо наводить
переправу из брёвен, а для этого рубить деревья, чего нам
делать не хотелось, да и, видимо, официально это было
запрещено.
Так что вернулись обратно к общему удовольствию,
да и обед уже, а это дело святое у нас на Востоке.
146
На следующий день полуднёвка, а затем мы рванули
поближе к нашему основному перевалу Буревестник.
Заночевали на морене так, чтобы с утра сделать перевал
и спуститься на Акемское озеро. На Алтае очень низкое
оледенение, уже на отметке 2400 метров начинаются
ледники, так что ночёвка была прохладной, да и снежок
выпал.
С утра мы в бой, по морене, скальным участкам и
завершающему ледничку, покрытому фирном,
выскакиваем на перевал. Но самое трудное – впереди на
спуске, где пришлось лезть на верёвках по высохшему
руслу водопада. Это весной он Ниагарский, а сейчас -
отвесная скальная стенка, плавно переходящая в
джунгли, где мы как обезьяны спускаемся по деревьям.
Ну вот, слава Богу, выходим на берег Акемского
озера. Здесь стоит деревянная изба - это метеостанция, а
работнички в основном из молодых здоровых ребят под
руководством бородатого Васильича с его попадьёй
Марфой, этакой дородной женщиной с грубым мужицким
голосом, так что сразу видно, кто там хозяин.
Нас радушно встречают, видимо, давненько здесь не
было гостей. Мы ставим свои палатки рядом с забором,
потому как даже в такой глуши вход на территорию
станции категорически запрещён.
Дальше у нас по плану радиальный выход в цирк
Белухи, ночёвка на леднике и спуск обратно. Гора Белуха
представляет из себя как бы двугорбого верблюда, у
которого один горб – восточный с высотой 4506 м, и
другой – Западный – 4420 м.
Между ними перевал высокой категории сложности,
ну это для туристов, а вот альпинисты там делают
траверс всего гребня, куда входят несколько вершин
помимо Белухи.
Ещё до войны впервые по нему прошла армейская
147
команда, и это было довольно значительное достижение
альпинистов того времени. Сейчас здесь уже редко
бывают классные спортсмены, так как категории
сложности резко понижены, и это не даёт им
возможность набирать необходимые баллы для
выполнения высоких разрядов.
Зато для горных туристов – благодать, полным-полно
перевалов высшей категории сложности. Это
многочисленные дыры в гребнях, низкое оледенение,
скальные участки, в общем, трудности на любой вкус. У
нас же в данном случае не стоял вопрос покорения
труднодоступных перевалов, так как задачей нашей
экспедиции был сбор данных о туристских
возможностях на Центральном Алтае. Составление схем,
кроков, описание местности – в общем, посовать свой
нос как можно побольше в этом районе и таким образом
пополнить скудные сведения нашей клубной библиотеки.
Как я уже говорил, наша команда состояла из шести
человек – четверо мужчин и две девушки, которых мы
решили не брать на радиалку, дабы не заморозить их на
леднике. Ну а для их охраны оставили Аркадия, чтобы он
мирно пас наших «козочек».
С утра мы втроём – я, Николай и Яшка двинулись в
верховья ледника, поближе к подножью Белухи, и часам
к четырём вошли в цирк, где и поставили нашу палаточку
на ночёвку. Днём было всё нормально, а вот ночью подул
ветер, но не просто ветерок, а ураган, так что почти до
утра пришлось сидеть по углам палатки, чтобы её, не дай
Бог, не сорвало.
К утру всё стихло, видимо, там такая труба, где чётко
по расписанию воет ветер. Мы спустились к
метеостанции и полдня отогревались, а затем начали
спуск по реке Акем, что вытекает из Акемского озера.
Река практически не отличается от Кучерлы, и в общем
148
это два параллельных ущелья, выходящих на огромную
реку Катунь.
В отличие от Кучерлы, на месте слияния Акема с
Катуньей моста нет, а переправа осуществляется на
этаком пароме из двух огромных железных лодок,
соединённых между собой, и навесном тросе через
Катунь.
Держимся за трос и потихоньку подталкиваем лодки
шестом. Нас за счёт течения реки относит к
противоположному берегу, где вся трудность заключается
в том, чтобы пришвартоваться к причалу. Здесь по
хорошей тропе мы идём вдоль Катуни до слияния с
небольшой речкой Иня, далее – подъём на гребень,
поросший густым лесом. Тропа ведёт к верховьям реки
Иня, в сторону знаменитого Чуйского тракта, по
которому нам надо проехать до посёлка Золотоискатели.
Далее через перевал Коо мы должны выйти на реку
Чулышман к Телецкому озеру.
По нашей схеме, спускаясь с гребня, нужно выйти на
просёлочную дорогу местного леспромхоза и по ней
топать километров двадцать до тракта, но всё получилось
лучше, чем мы думали. Уже в верховьях реки Иня мы
наткнулись на большую группу автотуристов из
новосибирского Академгородка, которая тоже идёт в
нашем направлении, а там внизу у дороги их большой
лагерь с машинами.
Радости Николая нет предела: его научный
руководитель (а он тогда писал диссертацию) находится
там, внизу на базе. Вот удача – можно получить
консультацию, как говорится, живьём.
Яшку волнует совсем другой вопрос: как бы пожрать
побольше и повкуснее. Наш провиант очень скуден, да и
его уже мало, посему нажимаем на подножный корм. В
основном это грибы в разных вариациях: жареные,
149
варёные да и просто сырые, так что представляете, какая
перспектива открылась у нашего обжоры.
С утра Яшка ускакал вперёд, а мы на базу спустились
только на следующий день, и, по-моему, он уже успел
поправиться. Его круглые глаза и лысина излучали
блаженство, однако не обошлось без комедийного случая.
Дело было так: прискакав на базу, Яшка ещё издали
заприметил пожилую парочку, по-видимому,
охраняющую машины и, естественно, готовящую обед.
Учуяв сладострастный запах борща, котлет и компота, он
прибавил газу и, ещё не добежав до места, заорал: «Эй,
старый хрыч, обед готов?»
Вот этот старый хрыч и оказался консультантом
Николая - это был известный на весь мир академик, но
кто же его узнает в старенькой штормовке. И знаете, он
не обиделся этой Яшкиной выходке, а, видимо, ему было
даже приятно окунуться в то старое прошлое, когда он
тянул срок на лесоповале. Мы-то теперь знаем – кто
только не сидел при «отце народов».
Новосибирский Академгородок – уникальное явление
эпохи «развитого социализма», это как глоток воздуха
свободы – вот откуда шли идеи демократии в стране, но в
конечном счёте вышло, как выразился бывший премьер
России: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
Итак, мало того, что Николай получил консультации и
впервые увидел своего академика, а Яшка нажрался на
неделю вперёд. Нас ещё и подвезли почти до Чуйского
тракта, а то идти нам и идти двадцать километров по
раздолбанной дороге под частым дождиком. А так мы
уже на тракте – сидим, ждём-с попутный автобус,
совершенно не ведая, что здесь запрещено по всему
тракту останавливаться в неположенных местах и тем
более брать пассажиров.
Движение рейсовых автобусов здесь редкое, и те два,
150
которые промчались мимо нас, были, так сказать,
последними на сегодня. Но тут всех выручил Яшка, а
вернее – его наголо обритый череп, из-за которого он был
похож на беглого каторжника, а мы становились как бы
его подельниками. Как-то даже незаметно подъехал к
нам патрульный «газик», нас окружили и стали выяснять
кто есть кто, потом над нами посмеялись, но всё же
помогли, остановили машину, и нас подвезли на
автостанцию, откуда мы благополучно добрались до
посёлка Золотоискателей.
Золото, может быть, здесь когда-то и было, а вот
сейчас добывают уран, так что надо было быстренько
оттуда сматывать.
Наш путь – к перевалу со странным названием Коо. Я
так и не знаю, что это: аббревиатура или какое-то местное
название, но это, конечно, неважно, а важно проскочить
его и спуститься к реке Чулышман. Здесь ходят плановые
туристы из турбазы «Артыбаш», что на Телецком озере.
Тропа широкая, набитая, идёт до самого Телецкого озера,
где стоит приют от этой турбазы.
На перевале – высокий тур, выложенный из камней, и
прекрасный вид на панораму алтайской тайги и «белков».
Вдоль Чулышмана до его впадения в Телецкое озеро
находится небольшой посёлок, и там есть пекарня. Это
было очень кстати, и мы купили несколько буханок
свежего хлеба. Конечно, хотелось закупить всю пекарню,
но продажа была очень ограниченной. И вот свежий,
румяный, горячий хлеб восстановил наши силы, и мы
прибавили темп по направлению к приюту «Чулышман».
Туда привозят плановых туристов по Телецкому
озеру в трёх, так сказать, вариантах: на больших лодках
под парусом; на тоже больших, но моторных лодках и на
настоящем волжском теплоходе, который специально
привезли сюда, и он плавает как рейсовый.
151
Самый красивый – это трёхдневный маршрут под
алым парусом и на вёслах, когда ветра нет. «Моторки»
подвозят и увозят туристов, которые шастают по местным
горкам, а затем два дня отдыхают в приюте, где есть
несколько деревянных корпусов и даже баня. Ну а на
пароходе приезжают все кому не лень, да и местные
граждане.
От перевала до приюта километров 40-50, где-то два
дня пути по грунтовой дороге, так как долина вдоль реки
Чулышман довольно широкая, и здесь колхозы
выращивают пшеницу, рожь и разные другие злаки.
Встречаем много групп плановых туристов, они
громадные, человек по 30 – 40, пылят на дороге, как стадо
диких мамонтов, и мы их так и называем. Но самым
удачным моментом, особенно для Яшки, было то, что где-
то через 10 километров от перевала мы нагнали группу
плановиков, идущих в нашем направлении к Телецкому
озеру.
Знакомство состоялось за обедом, когда группа наших
«мамонтов» варила в вёдрах кашу, суп, чай. Мы скромно
делали вид, что тоже что-то готовим в котелке, а на самом
деле ждали: вдруг позовут откушать вместе. Яшка
поступил проще – он стал около ведра с кашей и
выразительно смотрел в него своими большими навыкате
глазами. Ещё немного – и из них покатились бы слёзы, но
тут это действие увидела их инструкторша, девушка лет
так двадцати, и ей стало жалко этого бугая, стоявшего в
позе вопросительного знака.
Ему дали чашку с кашей, которую он за секунду
проглотил. Тогда пододвинули ведро с остатком супа, и с
ним он тоже быстро разделался. Теперь пригласили и нас,
видимо, поняв, в каком мы глухом «пике», а у них
продуктов ещё много было, и вообще люди они
капризные, аппетита особенного нет, так что они просто
152
должны были нас подкармливать, учитывая
расположение к нам инструкторши, которой Яшка без
остановки заливал про наши подвиги покорения
высочайших горных перевалов Алтая, Памира и даже
Кара-Корума, о котором она отродясь не слыхала. Очень
она нас зауважала и, главное, кормила все два дня
перехода до приюта.
Но в семье не без урода, одна из женщин этой группы
возмущённо кричала, что мы их объедаем, и вообще они
деньги платили, если что и осталось от продуктов, то
должны им отдать сухим пайком, который они привезут
домой и будут вкушать под воспоминание о красотах
Алтая.
Пришлось ретироваться, но тут возмутилась наша
фея-инструкторша. Она двумя неприличными словами
заткнула глотку этой сварливой бабе и предложила нам
ехать с ними на моторках до турбазы Артыбаш. И вот мы
уже плывём под рёв моторов, а в соответствии с
путёвкой для плановиков нас подвозят к берегу на
примерно середине расстояния до турбазы.
Здесь экскурсия к достопримечательности всего
района, огромному водопаду Корбу высотой метров под
тридцать, хотя это, конечно, не Ниагара (где я
впоследствии побывал), но тоже впечатляет. Как говорил
мой товарищ: «Во-первых, это красиво», а во-вторых, там
заросли малины, так что сочетаем приятное с полезным,
или что-то с чем-то.
Ну вот, наконец-то, после почти пятичасового
плавания мы подруливаем к причалу турбазы
«Артыбаш», где и располагаемся на поляне, специально
отведенной для самодеятельных групп. Здесь только мы и
комары, но так как ночи прохладные, то с вечера их уже
нет.
153
Питались мы уже по талонам в турбазовской
столовой, и несколько дней восстанавливали
пошатнувшееся здоровье.
Вот и закончился круг нашего путешествия, пора в
Бийск, оттуда – в Барнаул и Ташкент. В Бийск
«плановых» везут на турбазовском автобусе, так что надо
договориться с водилой – и проезд обеспечен.
Есть другой вариант добраться до Бийска - это
сплавляться по реке Бия, что нам и предложила группа
водников, но мы отказались, так как никогда этим не
занимались, а вернее, просто устали. Сели мы в автобус, и
по Чуйскому тракту рванули в Бийск, почему-то под
аккомпанемент песни «Бродяга Байкал переходит».
Инструктор, он же в качестве экскурсовода,
рассказывает о достопримечательностях флоры и фауны
этих мест, но на одном участке все туристские автобусы
останавливаются. Это гвоздь программы, гордость
аборигенов: огромная скала с удивительно красивым
рельефом, напоминающим церковный орган. На самом
верху выбит горельеф головы Ильича самодеятельным
художником из Бийска.
Легенда гласит: когда-то ему приснилось, что
попадает он к Богу, и тот говорит: «Вот что, Серёга, иди к
Телецкому озеру, найди скалу и изобрази на ней «лико»
великого Ленина».
Вскочил Серёга в холодном поту, схватил молоток и
разный другой «шансовый» инструмент, провиант,
ружьишко – и дёру вдоль реки Бия. Увидев эту скалу, он
сразу понял, что именно её Всемогущий имел в виду, и
закипела работа. Цельный месяц трудился наш герой, и
вот свершилось, вырубил он в скале портрет вождя,
который до сих пор как бы благословляет нас в дороге.
Инструктор заливался как соловей, но вдруг его
перебил густой баритон с прибалтийским акцентом:
154
«Зачем было портить скалу?». Это своё личное мнение
высказал турист из Эстонии, и если учесть, что время
было «кондовое» - начало семидесятых, то это был
смелый поступок.
Наш поход пришёл к логическому завершению.
Больше мы в этом составе не ходили, а вот с Яшей я
долгое время поддерживал отношения – то зимой в
Чимгане, то летом в походиках выходного дня. Он
преуспел, защитил диссертацию в области переработки
или очистки хлопка, женился и уехал в Израиль, где
несколько лет выдавал себя за талантливого учёного и
жил припеваючи.
Но затем его, конечно, раскусили, и вот где он сейчас,
чем занимается, чем дышит, не знаю, но твёрдо уверен,
что такие, как Яша, или Ян, как он себя называл, не
пропадают.
Давайте вернёмся к началу нашего повествования, где
мы сидим за большим столом. Это наш ежегодный
товарищеский ужин секции «Зодчий», где мы подводим
итоги минувшего туристского сезона и намечаем планы
на будущее.
Как вы помните, я повёл рассказ о моём первом
посещении Алтая – этого удивительно красивого края, и
все загорелись этой идеей. В конечном счёте получились
даже две большие группы: одна – это члены секции
«Зодчий», вторая - участники семинара по подготовке
инструкторов горного туризма во главе с Юрием
Лерманом.
Семинаристы – это молодые ребята, в основном из
города Чирчика, что недалеко от Ташкента, известного
как город химиков, отравляющий своими «лисьими
хвостами» из труб всю округу и даже больше.
В походе мы шли по одному маршруту, собирались
155
вместе только на ночёвках и днёвках, а чтобы не мешать
Юре командовать парадом, наблюдали за ними издалека
и, если было необходимо, помогали. Нитка маршрута
частично совпадала с тем старым моим походом, но была
усилена прохождением сложного перевала в районе
Кучерлинского озера, затем через перевал спуск к
Акемскому озеру и далее к слиянию с рекой Катунь.
В отличие от старой схемы, мы возвращаемся в
посёлок Тюнгур. Начало маршрута было запланировано
на двадцатые числа июля, но уже в начале июля я был
свободен и решил не сидеть дома и мотануть в Алма-Ату,
пройтись там в районе Медео, затем поездом в Барнаул ко
времени приезда туда всей группы.
Со мной поехали ещё двое наших участников,
желающих увидеть красоты Талгарского хребта и
осчастливить всемирно известный каток «Медео».
Итак, в первых числах июля мы выехали поездом в
Алма-Ату. Тогда это была столица Казахстана, город с
почти миллионным населением, с красивой архитектурой,
и, казалось, большим будущим, но, как показало время,
«ничто не вечно под луной»: сейчас это просто
областной центр с огромной площадью, где был
гигантский памятник основателю той страны, рухнувшей
в одночасье.
К счастью, природа не подвержена политическим
распрям и прекрасна всегда и навсегда. Горные пики,
огромные ели, бурные реки, голубое небо – всё здесь
оправдывает гордое имя Тянь-Шань, что в переводе
означает «небесные горы».
Итак, мы в Алма-Ате, и сразу же направляемся в
посёлок Яблоневые сады, откуда поднимаемся до
турбазы. Летом она не работает, а вот зимой съезжаются
лыжники, и здесь им раздолье: хошь - катайся на
подъёмниках, хошь – иди в двухдневный лыжный поход.
156
Мы устроились в летнем домике «на курьих ножках»,
и два дня бродим по холмам и лугам, попутно собирая
грибы, которых тут видимо-невидимо, и все они такие
классные, а главное – съедобные. Отсюда, от турбазы,
идёт хорошо набитая тропа до горно-лыжных трасс на
Чимбулаке – это выше «Медео», и идти туда – дня три-
четыре. Мы же, не торопясь, прошли за пять, и остались
очень довольны во всех отношениях. В общем, это
прекрасная разминка перед основным нашим
путешествием по Алтаю.
В Барнаул добрались за двое суток до приезда наших
групп. Жили в гостинице, а питались с утра за
«шведским столом», прикинувшись участниками какого-
то семинара, проходившего в этой гостинице. В общем,
наевшись до упаду, мы даже не обедали, ну а на ужин –
восточный чай с бутербродом: надо же держать форму.
Наши архаровцы прибыли точно по расписанию, но
Виталий Михайлович был озабочен, угрюм,
малоразговорчив, и не без причины. Везти эту ораву было
тяжело, ребята вели себя, как выяснилось, не совсем
корректно, в смысле начали подъедать походный
провиант, экономя деньги на буфет. Видимо, Виталий
всё-таки обиделся на меня, считая, что я улизнул от
ответственности и сбагрил ему на шею организационный
момент.
А вот в команде семинаристов под чутким
руководством Юрия Ароновича, или, как мы его
называли, Юрия Вароновича, всё было в ажуре. Ну ещё
бы – он им в отцы годился, они его так и называли – «наш
папа».
Юра – примечательная личность. Как истый иудей, он
жестоковыйный, худощавый, с орлиным взглядом.
Главный специалист Минздрава республики – так он
представился нам вначале, и это знакомство было для
157
него судьбоносным в прямом смысле: здесь он нашёл
свою судьбу, свою половинку (правда, не в первый раз,
но, видимо, навсегда). Это была Гала, одна из трёх
красавиц, которых привёл однажды наш большой друг и
почитатель Эдик Жданов.
Варонович быстро вписался в наш диссидентский
кружок в качестве ярого сиониста, ратующего за великий
Израиль от Средиземного моря до Урала. Ледоруб в его
руках был автоматом «Узи», и он, как озорной мальчик,
играл в эти игры. В конце концов он таки добился своего,
работал охранником в Израиле, получил настоящий
израильский пистолет.
Мы сидим у костра в этой знакомой для меня рощице,
на берегу речушки у окраины Горно-Алтайска, где
собираются самодеятельные группы. Отсюда, собственно,
начинаются все маршруты по Центральному Алтаю.
Два дня мы торчали на полянке, оформляли маршрут,
становились на контроль у спасателей, в общем,
занимались рутинной работой. Однако за время с того
первого посещения этих мест произошли некоторые
изменения. Теперь не нужно трястись в автобусе двое
суток до посёлка Тюнгур, так что мы воспользовались
плодами цивилизации, дошедшей и до этой глухомани.
Райцентр расположен на берегу реки Катунь, по
которой сплавляются многочисленные группы водных
туристов. Нам даже предложили прокатиться до Тюнгура
на плотах, но мы не решились и поехали старым
способом на автобусе.
Остановились мы в Тюнгуре на берегу Катуни рядом с
мостом, недалеко от слияния с рекой Кучерла, вдоль
которой нам нужно подыматься до озера Кучерлинское.
Здесь стоят ещё несколько групп, и вот у одной из них
настоящая беда. Местное жульё украло у них часть
158
снаряжения, прихватив фотоаппарат с плёнками. Они уже
возвращались с маршрута, и весь их отчёт пропал.
Мы все старались им помочь, найти вещи, но
безрезультатно, и вообще, как мы заметили, местные
жители враждебно относились к туристам, так что надо
быстро уходить в горы, там даже зверьё менее опасно.
С утра уходим по мосту на противоположный берег и
вдоль реки Кучерла. Начинаем подъём вверх по течению
к озеру Кучерлинское, до которого дня три-четыре ходу
по густым лесам, можно сказать, таёжным местам. Идти
трудно, корни деревьев наполовину снаружи, ноги так и
цепляются за них, нужно быть очень осторожным.
Как назло, испортилась погода и периодически идёт
дождь. В этом кошмаре мы идём почти два дня, и,
конечно, есть травмы. Упал Виталий, зацепившись за
корень, и подвернул ногу, но мужественно ковыляет до
самого озера. Однако на перевал он уже не пошёл,
остался на озере, где мы разбили базу.
Ну, это я забежал вперёд, а пока мы идём, постепенно
набирая высоту. Где-то за сутки до озера, вечером
поставили палатки на ночёвку, и вдруг слышим женский
голос: «Ау, ау». Выходит к нам на поляну здоровенная
девушка, вся в слезах, оказывается, она потеряла свою
группу. Та тоже идёт на озеро, но где-то впереди нас.
Конечно, надо было её успокоить, и это поручили
Максиму. Максим – голубоглазый блондин,
атлетического телосложения. Любимец женщин, говорун,
способный уболтать кого хошь.
Он успешно справился с поручением, всю ночь они
ворковали в палатке, так что утром, счастливая и
довольная, она поскакала по тропе догонять своих. Самое
интересное, что это была сугубо женская группа из
Саратова, с которой мы познакомились уже на озере. А
вот какую мощь они из себя представляли, мы убедились
159
на переправе через реку Коти-Айры, что впадает в
Кучерлинское озеро.
Там была наведена переправа из огромных брёвен,
спиленных совсем недавно, и, как оказалось, это всё
работа вот этих самых девиц, большое им спасибо!
Вернёмся немножко назад в нашем повествовании.
Итак, на третий день мы наконец-то выходим к
Кучерлинскому озеру. Здесь разбиваем лагерь из трёх
палаток нашей группы и огромного шарабана команды
Юры. «Шарабан» - это полукруглая палатка,
напоминающая покрытие американских телег, на которых
ездили первопроходцы по диким прериям.
Тогда палатки такого типа были модными среди
туристов, и действительно, они были очень удобные,
лёгкие, красивые, и вообще начался бум самодеятельного
изготовления снаряжения по западным образцам. Тент
для палатки делался из парашюта, который покупался у
какого-нибудь прапорщика военной авиации. Крючья,
стойки из титана мастерили умельцы на заводах,
естественно, из ворованного материала.
Итак, вся команда семинаристов помещалась в
шарабане, где на почётном месте возвышался Юрий
Варонович, и, конечно, кофе ему подавалось в постель.
Два дня мы отдыхаем на озере – и в путь, нам надо
обойти озеро по левой стороне, выйти на известную вам
девичью переправу и подняться вдоль реки Коши-Айры
до ледника, ведущего на перевал. Затем спуститься с
него на морену ледника Кучерлинский и вдоль реки
Мишту-Айры пройти до её слияния с рекой Коши-Айры.
Далее вдоль правого берега реки выйти на Кучерлинское
озеро, где у нас остались Виталий и Саша.
Саша – художник, и пошёл с нами не для покорения
перевалов, а пописать этюды. Он хороший акварелист, и
160
действительно написал много «пейжиков», увековечив
нас в своих произведениях, которые, как мы надеемся,
будут стоить большие деньги. Лет так через сто имя его
прославится, а с ним и мы.
Виталий Михайлович должен починить ногу, так как
предстоит ещё один перевал на озеро Акемское. Он хоть
попроще, но всё равно камни, скалы, ледок – всё там есть.
Итак, мы в пути, обходим озеро по левому берегу, где
до самой переправы хорошо набитая тропа.
Неудивительно – ведь здесь проходит масса групп, и от
слияния с рекой Коши-Айры они расходятся в разных
направлениях.
Благодаря техническим усилиям девиц из Саратова
мы быстренько перешли на другой берег и там стали на
ночёвку. Нужно помочь дежурному нарубить дрова,
развести костёр, а дежурный сегодня сам Валентус – это
ещё тот тип, любитель покуражиться. Он засучивает
рукава, одевает на голову красную косынку, берёт топор
и, громко матерясь, начинает рубить ветки.
А в это время со склона спускается какая-то встречная
группа и, увидев подозрительную личность, бросается
врассыпную, приняв его за беглого зэка.
Валентус вообще был охоч до всяких таких
импровизаций. То он в Хороге (на Памире), зайдя в
магазин, требовал произведения Солженицына, то в
автобусе орал, чтобы ему уступили место как бывшему
офицеру армии Корнилова. В общем, в то время с ним
можно было далеко залететь.
С утра начинаем подъём на гребень, сегодня трудный
день, надо сделать перевал, спуститься и заночевать на
морене ледника. По расстоянию это доступно, но главное
– не застрять на подходе. Оледенение здесь очень низкое,
и буквально с отметки 2400 метров уже приличные
161
ледники, для примера, на Памире они начинаются с 4200
метров.
Мы поднимаемся в верховья реки Коши-Айры с её
многочисленными притоками от правобережных
ледников. Сама река представляет из себя бурный поток с
огромными валунами, и так вплоть до верха морены, где
мы переходим на другой берег и поднимаемся на ледник.
Тут ещё одна преграда – бергшрунд через весь ледник
шириной в два с половиной метра.
Впереди нас группа семинаристов, они доходят до
трещины, стоят там, совещаются между собой и уходят
вдоль, до левого края ледника, к скалам, видимо, решив,
что там будет уже и можно спокойно пройти,
подстраховываясь за скальные стены.
Мы идём по их следам, доходим до места начала
бергшрунда и решаем по-другому: просто перепрыгнуть
в этом месте со страховкой. Нам это легко удаётся, так
что не совсем понятно, чего они побоялись.
Мы уже с противоположной стороны, а они всё там
топчутся, не решаясь пройти через бергшрунд, который
вовсе не сужается, а на скалах натечный лёд. Короче, мы
вернули их в первую позицию и, показав наглядно, как
нужно преодолевать этакие препятствия, вытащили их по
одному на свою сторону.
Дальше всё было проще. Быстренько поднялись на
перевал, перекусили без чая и рванули вниз к моренам
ледника Кучерлинский, где и заночевали. Рано утром по
сыпухе, практически на пятой точке, спустились до
речушки Мишту-Айры и к озеру. Ещё издали мы увидели
наших архаровцев, загорающих у палатки. Они очень
обрадовались, что мы пришли раньше контрольного
срока, наверное, им было скучно без нас, да и вокруг
никого, все группы ушли на маршруты.
Завтра днёвка, постирушка, а главное –
162
перераспределение груза, и здесь король Виталий, как же,
завхоз – это большой начальник. Полдня мы с Виталием
колдуем над распределением. Это действие напоминает
известную сцену из «Золотого телёнка»: это мне, это вам,
это опять мне, а это ему.
Наконец-то всё закончено, и мы, уставшие, но
довольные, приглашаем ребят разобрать свою ношу.
Дальше по плану мы должны пройти через перевал и
спуститься к озеру Акемское, в районе метеостанции. Это
аналогично тому первому моему походу, разница только
в перевале, тогда он был сложнее и находился правее по
гребню.
Начало подъёма на перевал чуть ниже озера, и нам
пришлось немного вернуться назад, а там по тропе начать
подъём на гребень к перевалу. Часам к четырём дня мы
уже спускаемся в Акемское ущелье к метеостанции. Там
нас встречают всё те же ребята, хотя начальник у них уже
другой, более молодой, видимо, старого «ушли» на
пенсию.
Я вообще-то предложил желающим сходить на
следующий день в радиалку к леднику Белуха, но что-то
охотников не оказалось.
Наутро мы стали спускаться вдоль реки Акем вниз, к
слиянию с рекой Катунь. Где-то посредине пути нам
повстречалась группа иностранных туристов, а
приметили мы их сначала по палаткам оригинальных
форм и, естественно, рванули к ним, уж больно хотелось
посмотреть, пощупать передовую технологию.
Весь дипломатический «гап» (разговор – узб.) вёл наш
полиглот Максим, знавший основной набор языков, т. е.
английский, французский, немецкий, немного испанский,
в общем, они обалдели, что он так легко с ними
объясняется. Оказалось, это сборная альпинистская
группа из разных стран, идущая на восхождение Белухи
163
и ещё каких-то вершин, а в знак нашей встречи мы
обменялись сувенирами.
Они нам – изделия из сублимированных продуктов, а
мы им – наш советский долбаный карабин – пусть знают,
с каким снаряжением мы ходим.
Через день мы спустились на слияние, там тот же
паром из металлических лодок, в общем, ничего не
изменилось в краю родном. Мы переправляемся на ту
сторону, и наш путь – в посёлок Тюнгур. Идём через
какие-то поля, леса, грызём горох, и вообще продукты у
нас на пределе.
Вдруг видим в лесочке избушку – это, видимо, зимняя
стоянка охотников. Там печка, стол, нары и даже какие-то
продукты. На столе лежат пять рублей, ну, мы добавили
ещё пять – для ровного счёта.
Идём дальше буквально на подножном корму, хлеб
кончился, надо продержаться ещё сутки, а там – посёлок
Тюнгур, так что отъедимся. Меня радует другое -
наконец-то Виталий Михайлович «отошёл»: он шутит,
рассказывает разные байки. Ну а сейчас он нам ярко
описывает, как готовится салат к обеду, как нужно
правильно обжарить мясо для плова. Мы готовы его
прибить и сожрать.
Наконец-то выходим на просёлочную дорогу, но не
тут-то было – идти по ней намного хуже, чем по тропе.
Прошли дожди, дорога превратилась в смесь из глины с
навозом, и ботинки наши стали настоящими
«гавнодавами». Да, не зря говорил великий поэт: «В
России – две проблемы – дураки и дороги».
Пройдя этот кошмар, мы всё-таки выходим на асфальт
в центре Тюнгура и направляемся к нашему лежбищу у
реки Катунь. Тут радостная встреча с Володей, он
приехал с нами, но не на маршрут, а так, пожить в
деревне на свежем воздухе, попить парное молоко,
164
поправить пошатнувшееся здоровье. Надо сказать, он в
этом преуспел: лицо его округлилось, глаза стали
масляными, да вот только для полноты счастья не было
рядом женщины, а ухаживать за местными девицами он
побоялся.
Володю я знал давно, ещё по «моржовнику», который
на берегу реки Анхор в центре Ташкента. Естественно,
это был канал, разделяющий когда-то город на две части
– старую и новую, а ещё раньше – на туземную и
европейскую. В наше время «моржовник» был «клубом»
европейской интеллигенции города, где отдыхали и
плавали круглый год, а главное, здесь велись беседы с
диссидентским уклоном.
Были здесь и несколько площадок для бадминтона,
турники, брусья – в общем, такой маленький спортивный
рай. Ходило сюда и весьма высокое начальство, это даже
входило в их распорядок дня. Помню, приходил
заместитель управляющего «Главташкентстроя», у него
была кликуха «Наполеон» - из-за маленького роста при
больших амбициях.
Рассказывали: ведёт он в главке совещание, а в
двенадцать часов у него «моржовник», и он, если не
укладывается, гонит всех в шею, едет якобы в
министерство или даже в ЦК.
Но вернёмся к нашему походу. Уезжаем мы из
Тюнгура на том же стареньком «пазике», но вот сесть в
него – это героический поступок. Во-первых, мы не одни,
есть ещё масса желающих, которые скапливаются здесь
по мере прихода туристов с маршрутов.
Вот тут нам здорово помог Володя, он, как уже
местный житель, знал всех шоферов и договорился, что
нас погрузят не на автостанции, а ещё раньше, на улице.
В общем, мы въехали на автостанцию, а уж затем
объявили посадку.
165
Что здесь началось – крик, шум, гвалт, а так как мы
сидели, нас закидали рюкзаками, ледорубами, какими-то
бидонами. Сейчас я бы умер от такой поездки, а тогда
вклиниться в автобус было атрибутом нашей жизни. Куда
бы мы ни ехали, везде надо было бороться и побеждать,
т.е. любая поездка сопровождалась героическим взятием
автобуса.
Всё это кончилось мгновенно с началом перестройки,
когда всех перевели на хозрасчёт и цены на проезд
фантастически взлетели. Вопрос решился сам собой –
люди перестали ездить, как говорится, нет человека – нет
проблемы.
По приезду в райцентр мы подались в столовую, так
как ехать дальше придётся долго автобусом, на самолёт
денег нет. Автобус отъезжает в Горно-Алтайск часа через
три, так что надо заправиться, и тут нас ожидает
следующий сюрприз, и опять с Валентусом. Он человек
впечатлительный, любит подражать некоторым, и когда
Максим берёт пять стаканов сметаны, громко говоря: «Ну
что может быть лучше экологически чистого молочного
продукта» - ах, так, Валентус берёт шесть стаканов, и
если молодой организм Максима легко переваривает сей
напиток, то этому старому организму разве можно
употреблять столько жира? Конечно, его начинает
мутить, да так, как будто идут роды.
Еле-еле мы его откачали к отъезду, он стал каким-то
жёлтым, а в автобусе тряска, качка, ну и, конечно, его
подташнивало. Можете себе представить, в каком
состоянии мы все приехали в Горно-Алтайск.
Тихо-тихо, а прошло двадцать дней, и официально
поход наш закончен. Желающие могут ехать по домам,
тут нет строгих правил, и каждый может добираться
самостоятельно или с группой. Семинаристы уехали
сразу же на следующий день, наша же команда
166
разделилась: одни собирались домой, а несколько
человек, у которых было ещё время, решили «потопать»
до Телецкого озера, в приют «Чулышман», а затем по
озеру – на турбазу «Артыбаш».
Из Горно-Алтайска есть автобус до посёлка Усть-
Улаган, что стоит в верховьях реки Башкаус, знаменитой
тем, что по ней могут сплавляться водники высшего
класса, т.е. она имеет шестую категорию сложности по
тогдашней классификации. Недалеко от Телецкого озера
Башкаус сливается с рекой Чулышман и впадает в озеро.
Идти по берегу Башкауса – дело безнадёжное, там
такая тайга нетронутая, прижимы, ужимы, в общем, надо
через гребень выходить на верховья Чулышмана, а там
благодать – широкая тропа и даже дорога местного
леспромхоза.
Ну, спуск по Чулышману я уже описывал, и за время
нашего отсутствия на Алтае там ничегошеньки не
изменилось. Была среди нас странная парочка - Валя и
Алим, познакомились они давно, ещё когда секция
«Зодчий» только начинала набирать обороты, а сошлись
они духовно на почве собаководства.
У Вали была огромная немецкая овчарка, с которой
она шастала одна по горам, а у Алима не менее
породистый кобель, короче, они и дружили с переменным
успехом, да и сейчас, когда прошло так много времени,
их можно увидеть на склонах Угама или Балыксу.
Слава Богу, на Алтае они были без собак, но лаялись
постоянно. Вот и теперь, после очередного выяснения
отношений, они разделились, и Алим пошёл с нами, а
Валя на вертолёте улетела прямо на турбазу «Артыбаш».
Взяла там путёвку и предалась неге, а в это время мы
пахали через горы, реки и долины, но вот, наконец-то, -
приют «Чулышман».
Здесь всё изменилось в лучшую сторону, главное –
167
построили настоящую деревянную баню с предбанником.
Стоит она на столбах, и там два больших окна, одно в
предбаннике, другое – в самой бане, так вот, то окно, что
в предбаннике, было прозрачным, никаких тебе
занавесочек или матовых стёкол, и, естественно,
находившиеся там люди были видны с тропы, которая
проходила рядом, в довольно интересном ракурсе.
Иначе говоря, вы видели голый торс от плеч до
коленок, остальное – инкогнито, видимо, подобное
многих устраивало, так что этот «телевизор» постоянно
транслировал эротическую программу. Конечно,
бесплатная эротика - это прекрасно, но при хорошем
питании, а так как у нас всё на исходе, надо быстро
сматываться на большом белом пароходе, который
завезли сюда с волжских берегов.
Прощальный гудок, и через пять часов мы на пирсе
турбазы «Артыбаш», где радостная Валя машет нам
руками и ногами. Она прекрасно отдохнула, и готова
принять Алима в свои огромные объятия.
Ну, теперь уж точно закончилось наше путешествие
по Алтаю.
168
Гора Белуха. 1975 г.
Озеро Кучерлинское. 1971 г.
169
Цирк г. Белуха. 1971 г.
Озеро Акемское. На заднем плане Стена Белухи. 1971 г.
170
Река Катунь. (Вот такая переправа). 1971 г.
Дракон, охраняющий Телецкое озеро. 1971 г.
171
Глава 7
КАМЧАТКА
172
173
Много лет я пытался организовать поход на
Камчатку. Мы уже побывали на Памире, Кавказе, Алтае,
Тянь-Шане, а вот посетить столь экзотический район
никак не удавалось.
Во-первых, это очень далеко, очень дорого, и без
помощи, как теперь говорят, «спонсора» не обойтись. В
то время спонсор был один – государство, и его
представитель Ташкентский клуб туристов, руководство
которого я и пытался соблазнить, убедить, ублажить, но
все как-то срывалось.
Сначала все были за, потом против, затем им вообще
было не до этого. Когда вроде бы все уже было на мази,
председатель клуба, который и должен был возглавить
эту экспедицию, уехал на ПМЖ в Германию.
Казалось, все рухнуло, но вдруг весной 1989 года
меня вызывает старший инструктор клуба и сражает
потрясающей новостью. Высокое руководство разрешает
нам провести экспедицию на Камчатку и, естественно,
выделяет средства для ее проведения.
Что побудило их провести это мероприятие, так и
осталось для нас загадкой. Хотя, если рассматривать
объективно, то в штатном расписании деятельности клуба
всегда была графа «Исследование новых районов», и
Камчатка была большим белым пятном.
Ни одна туристическая группа из республики там не
бывала, никаких материалов по этому району не было, и
вот, видимо, решили заполнить пробел.
Итак, я должен собрать команду, - это будет сборная
Ташкентского клуба туристов, т.е. люди из разных
городских секций. Нам даже выдают единую форму,
похожую на лыжные костюмы, и довольно красивые.
Также оплачивают проезд, обеспечивают продуктами, а
мы обязаны привезти кучу материалов по Камчатке -
схемы, карты, рекомендации местных туристов о
174
наиболее интересных маршрутах, ну и, конечно, икру и
другие рыбопродукты, естественно, как образцы флоры и
фауны.
Я думал, набрать группу особого труда не составит,
но оказалось, что Камчатка – это не совсем хрустальная
мечта для многих. Их пугала далекая, неизвестная «земля
Санникова», и даже почти полное обеспечение не решало
вопроса.
Возможно, это произошло потому, что ташкентцы, в
основном, занимались горным туризмом, а тут был в
общем-то пешеходный маршрут. Мне даже говорили, что
не хотят терять время и лучше сходят на Памир или Тянь-
Шань. Откровенно говоря, я прямо-таки опешил, даже из
нашей родной секции «Зодчий» в экскурсию решились
пойти только несколько человек, а ведь я рассчитывал,
что хотя бы половина участников будет из «Зодчего».
Правда, к нам хотел присоединиться Равиль, но уже в
Петропавловске, куда он должен был подъехать дня через
два, увы, мы его так и не дождались.
Группа собралась разношерстная, но костяк был наш:
это Виталий Михайлович, Максим, Елена, ну и ваш
покорный слуга. Виталий Михайлович, наш бессменный
завхоз, на этот раз взмолился и предложил эту почетную
должность Елене. Та, не совсем понимая, во что это
выльется, согласилась, и весь поход была к нам строга и
неподкупна.
Долгое время она не могла понять, почему мы с
Виталием постоянно просились подежурить с утра, и это,
так сказать, в нагрузку к нашим дежурствам по
расписанию.
Мы это объясняли тем, что все равно встаем рано, а
молодежь пусть лучше поспит подольше. Однако, зная
наши туристские повадки, она подозревала, что здесь что-
175
то не то. Однажды, встав пораньше, застукала нас на
месте преступления.
Идея была проста, как слеза нищего. Сначала
готовился дежурный чай с двумя большими
бутербродами, толсто намазанными маслом, а сверху
красной икрой, а уж потом, перекусив, мы варили какую-
нибудь кашу и кипятили чай для всех. На общий завтрак
всем, и нам в том числе, опять выдавались к чаю
бутерброды, но уже не столь намазанные.
Да, вот такие мы были негодяи, но, попавшись,
больше по утрам вне графика не дежурили.
Вообще-то, зря нас так ругала Елена, ведь икра нам
досталась по дешевке. У местных браконьеров за бутылку
водки мы получили аж литровую банку кетовой икры
(она крупнозернистая). Для похода прикупили еще
вяленого палтуса – это вообще деликатес «пальчики
оближешь», а сколько мы еще домой отвезли. Я, как
всегда, отвлекся от основной темы, но какая икра!
У меня было несколько схем, или, вернее, кроков
двух районов Камчатки. Это Кроноцкий заповедник со
знаменитой долиной гейзеров и район вулканов
Мутновский, Горелый, Вилючинский. В МКК клуба
решили, что маршрут мы будем оформлять на месте, и
там нам расскажут, что и как.
И вот 25 июля мы вылетели из Ташкента до
Петропавловска-Камчатского с пересадкой в Хабаровске,
где нужно ждать целые сутки. Это даже к лучшему,
посмотрим славный город «приамурских партизан». Кто
бы мог подумать, что будем «ноги мыть» в Амуре и
Тихом океане, да и вообще, кто тогда мог предположить,
что мы потом разъедемся в разные страны и даже
континенты.
176
Всего каких-то 10 часов полета, и утречком уже
Хабаровск. Надо шустрить, зарегистрироваться на
Петропавловск-Камчатский, разбить палаточный лагерь
и, конечно, быстрее попасть на городской пляж,
окунуться в славные волны Амура (грязно-кирпичного
цвета, но довольно теплые).
Хабаровск запомнился нам не великим Амуром, а
маленькими москитами, от которых ну просто некуда
было деваться, и даже в плотно закупоренных палатках
они нещадно пили нашу кровь. Мы позорно бежали
обратно в здание аэропорта и, забившись в ночной видео-
бар, хоть на какое-то время отдохнули от этой орды
кровопийц. Бар после часу ночи закрыли, пришлось
ретироваться в общий зал и как-то скоротать время до
утра.
Наконец-то мы летим в Петропавловск, с опухшими
рожами, но в радостном настроении, впереди мечта
многих лет – незабвенная Камчатка.
Четыре часа мы в облаках, но вот самолет снижается
на посадку, и перед нами панорама экзотической страны.
От аэропорта до города примерно два часа езды, он
расположен на холмах у подножия вулкана Авачинский в
одноименной бухте.
У нас есть адрес общаги, где можно остановиться на
несколько дней, за которые мы должны решить все наши
многочисленные вопросы. В первую очередь найти
местный клуб туристов и определиться с ниткой
маршрута.
Во-вторых, посетить управление заповедников и
попытаться получить добро на посещение Кроноцкого
заповедника.
В-третьих, сделать восхождение на вулкан
Авачинский - это как ритуальный обряд для всех
туристов, приезжающих сюда.
177
Под жилье в общежитии нам выделили большую
комнату «красного уголка», надеюсь, помните, что это
такое. В центре стоит большой бильярдный стол, на
который мы выложили все наши продукты, а сами
устроились вокруг на раскладушках, любезно выданных
комендантом.
Городской клуб туристов мы не нашли, да его и не
было в столь небольшом городке, а был отряд спасателей,
где и ставили на учет прибывающие самодеятельные
группы, там же можно получить полезную информацию о
районе.
Вот здесь мы и засели с инструктором спасательного
отряда, и составили наш маршрут в двух вариантах. Если
повезет, и мы получим разрешение на посещение
Кроноцкого заповедника, то это, конечно, самое
интересное, а если нет, то вот нитка маршрута по нашим
крокам: автомашиной вдоль реки Паратунька до поселка
Буровиков, отсюда начинается пешая часть маршрута.
Через перевал Поперечный выход на истоки реки
Вилюча, и через перевал Жировской спуск на речку
Жировская к горячим источникам. Далее по реке
Жировская, буквально по воде (речка местами по колено)
в охотничьих (или рыбацких) резиновых сапогах до
бухты Жировская. Здесь расположена артель рыбаков,
далее по побережью бухты Жировская, вдоль речки
«Фальшивая» до вулканов Мутновский и Горелый.
Обогнув вулкан Горелый, переход к перевалу
Поперечный, далее, спуск в поселок Буровиков, и
машиной в Петропавловск.
Вот такая получилась нитка маршрутов с купанием в
многочисленных горячих источниках, ловлей рыбы,
омыванием ног в Тихом океане (купаться там
проблематично, так как температура воды +5 - +8 гр. С),
ну и спуском в кальдеру вулкана Мутновский и
178
восхождение на гребень вулкана Горелый. Так что этот
маршрут тоже неплохой, особенно для первого
посещения Камчатки.
Увидеть Кроноцкий заповедник можно двумя
способами: легально, т.е., имея разрешение от управления
заповедниками, и нелегально, отмахав 200 (двести)
километров от поселка Ключи. Затем все равно явиться к
егерю и, ублажив его, посмотреть окрестности «долины
гейзеров». Но в обоих случаях одно «но» - это хорошая
погода и затраты на перелет из заповедника, а в первом
случае вообще полет туда и обратно.
Короче говоря, нелегальное посещение мы сразу
отвергли и двинулись в управление.
Еще из опыта командировок в Москву, где нужно
было что-то решить в свою пользу, самым ударным и
пробивным аргументом была красивая большая узбекская
дыня, и, конечно, мы прихватили несколько штук с собой
из Ташкента. В добавление, у нас еще было письмо от
Академии Наук Узбекистана «о содействии нашей
экспедиции».
Вот с этими двумя, как мы предполагали, вескими
доводами поперлись мы на штурм управления
заповедниками. Директора не было, его замещал зам по
науке, не помню его имени, но хорошо запомнилась его
гневная физиономия, когда мы попытались преподнести
ему пару дынь, как дар нашего узбекского руководства.
Боже мой, какой он поднял крик, так что нам пришлось
быстро ретироваться.
Дыни я отдал секретарше, она изумленно смотрела на
нас ничего не понимающими, испуганными глазами и
бормотала: «Как, это мне? Отдайте лучше начальнику»,
на что я ответил: «Мы пытались, но он, придурок, не
берет». Вот так бесславно закончился наш вояж в
179
управление, остальные дыни мы с горя съели у них во
дворе.
Ну, не получилось, ну и бог с ними, когда-нибудь в
следующий раз, какие наши годы, в конце-то концов есть
первый вариант, и мы стали готовиться к походу на бухту
Жировская.
Но сначала по плану у нас восхождение на вулкан
Авачинский. Технически это совсем не сложно, идем по
четко набитой тропе вплоть до предвершинного склона,
вот он-то очень крутой и состоит из мелкой сыпухи, по
которой один шаг вперед, а получается два назад.
Главное, добраться до свисающей веревки, по которой,
подтягиваясь, взбираемся на верх гребня.
Увы, нам не повезло, плотный туман закрыл весь
кратер вулкана, так что спуститься туда до самого озера
нам не удалось. Но и наверху стоять долго тоже не очень-
то приятно из-за запаха сернистых испарений. В хорошую
погоду можно по тропе спуститься вплоть до озера, где
больше 15 минут находиться не рекомендуется, да и не
захочется.
Спускаемся по той же тропе, и тут потерялся Витя,
вот только что был здесь, и куда-то исчез. Виктор – это
тот еще фрукт, о нем можно много что рассказать, но
главным его кредо было одиночное хождение по горам.
Он так увлеченно об этом рассказывал, что и мне
захотелось как-то попробовать это ощущение человека
один на один с природой. Но меня хватило ненадолго,
видимо, с этим надо родиться.
И вот однажды я пошел в одиночку на пару дней в
верховье реки Угам до старых заброшенных разработок.
Где-то посредине этого маршрута решил заночевать
прямо у реки под зарослями алычи и боярышника.
Разложил свой нехитрый скарб, а штормовку накинул на
ветки дерева, под которым я так уютно устроился.
180
Загадочный свет луны, шелест листвы, переливы волн
реки - все это быстро унесло меня в сказочный мир сна.
Проснулся я среди ночи от какого-то непонятного шума и
ветра, надо мной в ветвях билась огромная птица,
пытаясь вырваться из опутывающих ее ветвей.
Я вскочил и стал орать «Кши, кши», махать руками,
пытаясь прогнать этого «птеродактиля». Сердце мое
билось, как у Данко, и тут я окончательно пришел в себя.
Что это было? – а, ничего, просто ночью поднялся
сильный ветер, и моя штормовка, висевшая на ветвях,
превратилась в порхающую птицу.
В другой раз я отправился в одиночку из поселка
Ходжикент до Чимгана и заночевал у родника. Под утро
стало прохладно, я зарылся в спальник с головой. И вдруг
чувствую, что рядом со мной стоит кто-то и в упор
смотрит на меня. Страх начинает овладевать всем моим
телом, мерещатся кошмары, конвульсивно сдираю с лица
спальник, и что же? Надо мной стоит корова и нежно на
меня смотрит. Слава богу, что она еще не замычала, а то
бы я точно остался заикой.
После этих экспериментов я навсегда бросил ходить в
одиночку, но зато понял Виктора: он жаждал острых
ощущений, и вот сейчас его, видимо, охватило острое
чувство свершения подвига, и он полез на соседний
вулкан.
Мы закончили подготовку к основному походу,
распределили продукты и снаряжение, купили для всех
огромные резиновые сапоги для прохождения мелких рек,
многочисленных ручьев и болот. Договорились с
водителем небольшого автобуса, на котором должны
доехать до поселка Буровиков, т.е. начала нашего
пешеходного маршрута. Но самое приятное и вкусное,
как добавка к скудному стандартному набору продуктов,
181
- это покупка вяленого палтуса и целого литра красной
икры.
Выехать должны были с утра, но эта старая колымага
где-то сломалась, так что только часам к двенадцати
карета была подана, а посему добрались мы до поселка
Буровиков только к вечеру.
Ночевали в какой-то общаге, не хотелось ставить
палатки под дождем, и вот наконец-то мы на тропе,
начался наш камчатский поход.
Преодолевая многочисленные притоки реки
Паратуньки, поднимаемся вверх к перевалу Поперечный
и затем спускаемся в верховья реки Вилюча. Вот где нам
нужны эти резиновые огромные «чоботы», в которых мы,
как танки, прем по воде.
К вечеру мы на перевале Жировской, ночевать на нем
не имеет смысла, нет воды, решаем спускаться, хотя
быстро темнеет.
Поначалу идет тропа, потом в темноте мы ее теряем и
идем визуально вниз по каким-то буреломам, валеному
лесу, в общем, наугад. Группа уже внизу, сил больше нет,
разбиваем лагерь и - спать, а наутро оказывается, что мы
на правильном пути, наши палатки стоят прямо на тропе,
сказался-таки опыт старых туристов.
Виталий прямо в восторге, как я ловко вывел их куда
надо. Рядом горячий источник, так что утренний моцион
в шикарных условиях, на тебе горячую и холодную воду,
«как в лучших домах Лондона», а завтрак с красной
икрой, ну что еще надо бедному туристу.
Два дня мы идем буквально по реке Жировская в
плотном лесу, ни шагу в сторону, правда, иногда
сбиваемся из-за многочисленных притоков, но
направление одно – Тихий океан. Вода в речке
кристально чистая и кишит идущей на нерест
«горбушей», которая, выпустив икру, слабеет и погибает,
182
как ей положено от природы, а жаль, столько ухи
пропадает.
Ближе к океану река становится глубже, и в сапогах
уже не пройдешь, но появились тропы, и мы идем по
суше через заросли шаломайника - местного тростника.
Идем плотно друг к другу, очень много медвежьих
следов, нас предупреждали об этом, так что нужно быть
осторожным, и мы на всякий случай шумим, чтобы
отпугнуть зверье, а на самом деле заглушаем свой страх.
Но вот уже, сначала потихоньку, а затем все слышнее
рокот океана. Выходим на широкую тропу, и далее
грунтовую дорогу, ведущую к бухте Жировская, там где
расположена рыбацкая артель.
Еще издалека увидели большой деревянный дом, он
стоял на другом берегу глубокой реки, так что вброд не
пройдешь. Однако нас уже поджидал, как оказалось,
бригадир рыбаков, и перевез на лодке к себе. Он был
один, вот уже несколько дней артельщики разъехались по
домам, в период нереста делать нечего, и они вернутся
только через пару недель, а посему наше появление его
обрадовало, есть с кем поболтать, да и водочку попить.
Мы быстренько устроились в доме, накрыли стол, и
начался «треп». Оказывается, мы здорово рисковали,
когда шумели в лесу, бригадир как раз был на охоте и,
заслышав топот и шум, решил, что это прет медведь, да и
не один. Он вскинул ружье и хотел дать залп в нашем
направлении, но, слава богу, услышал голоса. Вот так иди
знай, где рискуешь.
Три дня мы отдыхали у гостеприимного рыбака,
знакомились с окрестностями, ходили на скалы,
любовались и фотографировались на фоне океана. Как-то
я спросил хозяина, а заплывают ли киты в эту бухту? Он
ответил как-то буднично: «Да, и киты, и подводные
лодки».
183
Итак, сбылась мечта идиота, и мы омочили ноги в
великих водах, правда, искупаться никто не решился, уж
больно холодная вода. Мог ли я тогда подумать, что мое
изречение «Ребята, а ведь, может быть, когда-нибудь мы
будем стоять на том берегу», практически сбылось для
меня.
Всему приходит конец, вот и нам пора честь знать,
прощаемся с гостеприимным рыбаком, и в путь. На юг,
вдоль бухты Жировская и далее, по реке Фальшивая на
запад к вулкану Мутновский. Здесь идет четкая тропа, нет
густого леса, так что иди, любуйся природой. А через
несколько дней мы уже в районе вулкана.
Это не ярко выраженный конус, как вулкан
Авачинский, а так называемая «кольдера», т.е. огромная
вытянутая яма километров пять в длину и три километра
в ширину. Там в Кольдере течет река, с гребней
спускаются ледники, и на склонах торчат маленькие
дымящиеся вулканчики, в общем, необыкновенное
зрелище.
Вниз идет тропа, и через двадцать минут вы
попадаете в эту сказку с дурным запахом сернистых
испарений, где больше получаса быть невозможно.
Какая дикая красота, это ж прямо «ад», воспетый
Данте.
В нескольких километрах севернее расположен еще
один вулкан «Горелый», этот больше похож на
классический профиль, но с небольшим и крутым
гребнем. Поднялись на него, перед взором огромное
озеро бирюзового цвета. Это атмосферная вода
вперемешку с серной кислотой, так и тянет вас к себе,
чтобы погубить, но мы уже опытные вулканологи, и нас
не проведешь.
Огибаем вулкан Горелый и выходим на
заключительный этап нашего маршрута, к перевалу
184
«Поперечный».
Заночевали под перевалом, здесь открытое место, нет
ни леса, ни кустарников, одна трава да сыпуха. Выйти с
утра не удается, густой туман, ни зги не видать, надо
ждать, когда все развеется. Вот уже время к обеду, а все
еще торчим на месте.
Молодежь наша нервничает, каких-то десять
километров, и там поселок Буровиков, т.е. цивилизация, а
туман все никак полностью не проходит.
Но вот подул ветерок, появилась какая-то видимость,
и мы ринулись на штурм перевала. Нетерпеливая
молодежь буквально побежала вперед и заблудилась, так
как чем выше, тем туман более густой.
Целый час мы их ловили на склоне, пока не собрали в
кучу, дрожащих не то от холода, не то от страха.
Пришлось ждать еще, пока видимость не улучшится.
Ну вот, все как-то неожиданно быстро развеялось, и
мы спокойно спустились к поселку, видимо, Всевышний
решил испытать нас напоследок, и особенно «зеленую
поросль». Через день мы были уже в городе и опять
оккупировали «красный уголок». Теперь осталась
заключительная часть нашего путешествия – заготовки
рыбопродуктов. В первую очередь – красной икры, с чем
мы все преуспели, а некоторые даже очень.
Максим, который весь поход жаловался на боли в
спине и позвоночнике, просил его разгружать, а тут набил
рюкзак килограмм на пятьдесят, и ничего, понес его в
аэропорт с легкой походкой, как говорится – своя ноша не
тянет.
Закончилась эпохальная экспедиция на Камчатку, нас
уже нетерпеливо ждали в Ташкенте, и не обманулись,
всем что-то досталось.
185
Наш отчет был признан лучшим в классе пешеходных
маршрутов, и я надеюсь, остался в памяти всех
участников похода.
186
Петропавловск-Камчатский. На заднем плане вулкан
Авачинский. 1989 г.
Сборная команда «ТКТ» на вулкане Мутновский.
1989 г.
187
Это «чудо-юдо» - позвонок кита. 1989 г.
Эх, хорошо в горячей ванночке! 1989 г.
188
Тихий океан. Бухта Жировская.
189
Глава 8
ЧАТКАЛЬСКИЙ
ХРЕБЕТ
190
191
В конце апреля, когда в Ташкенте все цветет и
благоухает, мы традиционно собираемся в так
называемый майский поход. С учетом праздников и
отгулов набегает аж до десяти дней. За это время можно
забраться далеко-далеко. В нашем родном Юго-западном
Тянь-Шане, где уже греет солнышко, а если и попадаешь
под дожди и даже снежок, то все равно это к лету.
В основном, весенние походы являлись хорошей
подготовкой к основному летнему маршруту, который мы
планировали в разных горных районах той необъятной
страны и, конечно, на более длительный срок.
На этот раз горим желанием посетить прекрасный
район Чаткальского хребта, там, где расположен
знаменитый Чаткальский заповедник. Хорошо бы
спуститься по нему до реки Ак-Булак, но, во-первых,
нужно иметь разрешение от управления заповедника, а,
во-вторых, ранней весной, когда там шастают голодные
медведи, как-то идти туда не хочется.
В общем, мы остановились на таком варианте: из
Ташкента на рейсовом автобусе до городка Янги-Абад,
где прямо от автостанции и начинается наш маршрут к
перевалу Музбель (3053 м), что на восточном гребне
Чаткальского хребта. Затем траверс до турбазы Чимган с
попутным прохождением нескольких несложных
перевалов.
Это был уже второй весенний поход нашей
туристской секции «Зодчий», организованной в прошлом,
1978 году, и, как тогда, мы с нетерпением ждали начала
нашего путешествия.
Наконец-то закончились все приготовления, пора в
путь к заснеженным склонам Чаткальского хребта.
Шахтерский городок Янги-Абад раньше назывался
«Развилка» и был закрытой зоной. Добывали там уран на
многочисленных шахтах, которые со временем закрыли, а
192
сам поселок расстроился и превратился в уютный
городок.
Здесь в нескольких километрах от центра в красивом
ущелье на месте бывшего шахтоуправления появилась
турбаза с отличными корпусами и даже кинотеатром.
Название «Развилка» было дано по географическому
определению, так как поселок располагался на выходе из
двух ущелий, идущих от склонов Чаткальского хребта. В
данном случае нам надо уходить по левому из них –
Дукент-Саю, и минуя снеголавинную станцию, выходить
под перевал Музбель на самом хребте.
В первый же день приезда мы постарались как можно
ближе подойти к перевалу и заночевать там, на зеленых
полянах с цветущей алычой. Весь следующий день
преодолевали «затяжные» склоны, и только часам к
четырем вышли на широкий гребень хребта к перевалу.
Здесь много удобных площадок для стоянки, местами
лежит снег, но есть и травка, а вот на спуске склон весь в
снегу, но не крутой, так что завтра предстоит легкое
«глиссирование».
Но завтра наступило через три дня. Ночью пошел
снег, валил все три дня и ночи. Мы были в плотной
облачности, выходили из палаток только по нужде да
стряхнуть снег с крыши. На четвертый день небо
разошлось, но время ушло. Надо корректировать маршрут
и, конечно, ни о каком траверсе в сторону турбазы
Чимган уже не могло быть и речи, так что пришлось
спускаться в направлении к городу Газалкент.
Такой вариант у нас предусмотрен, как аварийный,
так что все идет по плану, господа.
За время вынужденной стоянки на перевал навалило
столько снега, что начинать спуск приходится, прорубив
надувной карниз, и затем пролезть через «окно» на сам
склон. Делимся на три связки по три человека и с
193
небольшой дистанцией начинаем спуск. В моей связке
Александр Борисович и Валентус. Мы – замыкающие, но
вот беда, нашего диссидента заклинило, схватил
радикулит, не может выпрямиться. Снимаем с него
рюкзак, и он, согнувшись, корячится по склону вниз,
благо мы прошли уже самую крутую часть спуска.
Наши ребята уже далеко впереди, но мы их криком
останавливаем, чтобы они дождались Валентуса. Они
встали, он подходит к ним, отдыхает, и, вдруг, что мы
видим: Валентус дальше уходит с ними уже
выпрямившись, а мы, как идиоты, тащим его рюкзак. От
такой наглости у нас дух перехватило: «Придурок,
негодяй, сволочь», что только мы ни кричали, чтобы он
остановился. Но товарищ прикинулся «чайником» и шел
дальше до морены в облегченном виде.
Ах, так, мы сели на его рюкзак и лихо скатились по
снежному склону. Подрулив к морене, водрузили на него
рюкзак, и он пошел, как ни в чем не бывало. Вот такой
человек был в нашем коллективе, скромный и
беспардонный. Много еще всяких «штучек» откалывал он
за время наших путешествий, но однажды и сам попал
впросак.
Как-то осенью в небольшом походике мы
остановились на ночевку, а у Валентуса в то время была
своя личная палатка. Обычно он спал в ней один, но на
этот раз я попросил его приютить девицу, которая
недавно пришла к нам в секцию. Была она худая, высокая,
с острым взглядом. И что-то аристократическое
проглядывало в ее поведении, от чего, видимо, прозвали
девушку «герцогиня».
Она гордо вошла в его палатку, а вот утром я стал
свидетелем этакой сцены: из палатки, осторожно
крадучись, выползает Валентус с красными от
бессонницы глазами, и с упреком спрашивает: за какие
194
такие грехи я подсунул ему эту ……. Всю ночь он
оборонялся от приставаний этой кошки, пантеры, суки.
В этот момент из палатки как-то величаво, закутанная
в простыню, выплывает «герцогиня» и, сверкая своими
зелеными очами, с презрением восклицает: «Тоже мне,
мужик – сволочь голубая», и царственно удаляется по
нужде.
Но это я отвлекся, а мы тем временем спустились с
марены по довольно бурному ручью и площадкам на
травке, вот тут и раскинем наши палаточки. На
следующий день дневка, надо хорошенько просушить
снаряжение после столь длительного пребывания под
снегом, ведь только тогдашняя перкалевая палатка во
влажном состоянии весила почти 5,5 кг.
Дневка – это всегда приятно после трудных дней
расслабиться, а на этот раз предстоит и фотосъемка
мужской части участников в подарочных красных трусах
от «Кутюрье» Наташи. Эти трусы я храню с тех пор, как
реликвию, талисман, дорогую память о наших походах, и
таскаю их с собой по всем странам и континентам, куда
заносит меня судьба.
Вот и сейчас они украшают интерьер нашей
квартиры, а недавно мне из Ташкента прислали еще одни
подобные трусы, так что я теперь дважды «трусеносец»
секции «Зодчий».
К вечеру с другой стороны ручья к нам подходит
группа туристов из Омска, они тоже идут в нашем
направлении, так что вместе и двинем.
Вообще-то с недавних пор в наши края по весне
повадились приезжать толпы туристов из Сибири, в
основном из Омска, Томска и даже Новосибирска. У нас
уже тепло, маршрутов полно на любой вкус. Так что –
налетай-торопись.
Омский авиазавод привозит своих туристов на
195
личном самолете, человек так 700 – настоящий десант, и
немудрено повстречаться с ними на туристской тропе. С
утра омичи умчались как угорелые, а мы спокойно, не
торопясь, шли буквально по их следам, и не зря. Через
пару часов выходим на первое мощное препятствие –
бурлящий по весне поток несет даже камни. Мы прошли
по их перилам, которые они навели ранее. Мораль – не
суетись! – как учила в анекдоте старая бандерша молодую
путану.
Траверсом выходим на перевал Ак-Тахта (2280 м).
Здесь стоит столб с указателем на территорию
Чаткальского заповедника, имеющего как бы два участка.
Первый начинается с поселка Пскент до Чаткальского
хребта, в районе вершины Бош-Кызылсай, а второй – от
нас, где мы стоим, идёт вниз такой подковой до реки Ак-
Булак.
Это очень большая площадь, а вот лесников явно не
хватает, процветает браконьерство. Тем не менее, дважды
я попадал к ним в руки за нарушение режима, или,
вернее, за нахождение на территории заповедника без
разрешения.
Первый раз мы с группой туристов решили покорить
вершину и подняться на нее со стороны Кызыл-Сая (это
восточная зона заповедника). А заехали мы сначала в
параллельное ущелье, где расположен дом отдыха «Су-
Кок». Там мы переночевали и с утра стали переваливать
за гребень в Кызыл-Сай. Дело это нудное, склоны
поросли кустарником, тропы практически нет. В общем,
мы намаялись за целый день, но к вечеру вышли к саю и
разбили лагерь прямо на берегу, напротив набитой
лошадиной тропы.
Мы еще с гребня видели какие-то беленькие домики в
верховьях, но как оказалось, не поняли, что это и есть
«кордон» заповедника.
196
Встал я рано и решил половить рыбку к завтраку,
благо были крючок и леска. Соорудив удочку, стою я на
бережке: «Ловись рыбка, большая и малая». Рыбка не
клевала, а вот с другого берега незаметно для меня
подъехал на лошади лесник, и ждет, когда же я что-
нибудь поймаю, чтобы с поличным прихватить за
браконьерство. В общем, нас «хомутнули», препроводили
до домиков кордона, там «обшмонали», забрали ножи,
топорик, составили грозный акт, и с позором выгнали,
пообещав сообщить в милицию и на место работы.
Где-то через год я снова оказался в тех местах, но уже
вдвоем с товарищем по работе. Шли мы именно на
«кордон» в целях пописать там этюды. Идем по тропе к
домикам «кордона» и думаем, что уж, так сказать,
художников лесники не тронут, а наоборот, будут
всячески приветствовать за инициативу запечатлеть их
дивные края.
Вечереет, мы подходим к домикам, где нас издали
уже заметили и машут приветственно руками, но,
оказалось, они перепутали. Как только стало ясно, что мы
не те, кого они ждали, нас, можно сказать, арестовали. А
так как было уже поздно и темно, оставили на «кордоне».
Заперли в комнате до утра, пообещав строго разобраться
с нарушителями государственной границы заповедника.
Но нам дико повезло. Утром приехал сам начальник
управления и дал высочайшее разрешение не только
рисовать, но и лакомиться всяческими ягодами и
плодами. Обалдевшие лесники кардинально изменились,
нам улыбались, кормили и ублажали. Да, Восток – дело
тонкое!
Вернемся к нашему походу, и теперь, не нарушая
никаких границ, мы спускаемся по так называемой
геологической тропе или, вернее, грунтовой дороге,
которую когда-то проложили тракторами. Правда, нам
197
трудно понять, для чего. Видимо, там была буровая
установка геологоразведки.
К обеду уже вышли к берегам реки Аксакатта, тут
много отдыхающих с машинами и даже небольшой
автобус, на котором мы доехали до города Газалкент, а
там уже на рейсовом – в Ташкент.
Это было наше первое путешествие в районе
Чаткальского хребта, а через год мы решили пройти в
этом же районе, но уже по правому саю от города Янги-
Абада, через турбазу на перевал Адамташ с выходом
опять же на перевал Музбель, и далее, по первому
маршруту.
Но самым интересным был все-таки поход на
Ангренское плато, с великолепным озерком Арашан,
через перевал Арашан Чаткальского хребта. Вот о нем я и
расскажу, а сначала – техническая характеристика.
Нитка маршрута:
Город Ташкент – большой мост через реку Чаткал
(рейсовый автобус Ташкент – Газалкент – Бричмула;
- бывшая зона отдыха Ау-Рахмат – река Пальтау –
мост через реку Чаткал;
- река Ак-Булак – кордон Чаткальского заповедника
(попутная машина) – река Акбулак – пер. Арашан – озеро
Арашан – Ангренское плато – пос. Камчик – река
Ангрен (попутная машина);
город Ангрен – город Ташкент (рейсовый автобус).
Протяженность пешей части – 115 км.
Маршрут наш начинается сразу за мостом через реку
Чаткал и вправо вдоль реки по грунтовой дороге, ведущей
прямехонько на кордон Чаткальского заповедника, его
западной части. Конечно, хорошо бы доехать до него на
каком-нибудь попутном грузовике, чем топать. Вообще,
лучше плохо ехать, чем хорошо идти по дороге.
Здесь, в принципе, всегда есть попутки, так как, не
198
доезжая «кордона» - действующий рудник, да и на
«кордон» едут для вывоза древесины, так что реально
имеем надежду прокатиться с ветерком. Ну не будем же
сидеть у моста и ждать у моря погоды.
Мы прошли до брода через небольшую речушку
Пальтау. Это здесь она тихая и неглубокая, а вот выше к
истокам есть огромный водопад высотой метров двадцать
в скальном гроте, грандиозное зрелище, а еще выше –
реликтовая березовая роща.
Оказывается, береза в Россию пришла в ледниковом
периоде именно из Средней Азии. Правда, на вид это не
стройные березки Подмосковья, а мощные разветвленные
стволы с невысокой кроной, но все остальное – листья,
белоснежная кора с черными полосами, общий вид как бы
плакучей, да и форма листьев – все настоящее.
Ближе к Чаткальскому мосту был когда-то поселок
Ау-Рахмат, который трансформировался в зону отдыха.
Сейчас там все пришло в упадок, павильоны разрушены –
остался только красивый фруктовый сад.
Но вот сзади урчит грузовик и, «везет же людям»,
едем прямо на кордон. Там в полный рост идут весенние
разработки древесины, а проще - «лес рубят». Лесник –
все тот же Махмуд, наш знакомый с первого похода
секции «Зодчий» в этом районе. Как и тогда, нам
презентуют целый деревянный барак, так что первая
полевая ночь со всеми удобствами.
Утром прошел дождик, а выше на склонах хребта
полно снега. В этом году, по рассказу лесника, выпало
больше среднестатистической нормы. Так что придется
«попахать». В нашей группе одна женщина, но зато
какая! Валя Колокольчик вполне оправдывала свою
фамилию. Ее звонкий непрекращающийся до отбоя
голосок действительно напоминает колокольчик на шее
козы или коровы. Тогда Валя была дама в теле при
199
фигуре, а пришла к нам случайно. Она смело ходила одна,
правда с собакой, но мы ее соблазнили рассказами о
наших необыкновенных путешествиях.
Сейчас, когда прошло много лет, она вернулась к тем
своим собачьим походам, да и не с кем больше ходить.
Еще один участник был с нами в первый и последний
раз. Это Эдик Жданов, наш старый приятель, один из
пионеров горного туризма в Ташкенте. Мы часто
сталкивались с ним в походах выходного дня (ПВД), где
он натаскивал юных туристов. Это он привел как-то к нам
трех смазливых девиц, на одной из которых споткнулся
Виталий Михайлович.
С утра прощаемся с гостеприимным лесником, и еще
3 км идем по дороге до лесоповала, а там уже тропа к
снежным перевалам.
На спуске с пер. Арашан обращаем внимание на
огромные темно-коричневые и рыжие пятна на снежных
склонах. Это осевший «смог» жизнедействия
человеческого разума с его промышленной
деятельностью в борьбе за светлое будущее. Нас всегда
учили, что это там, за «бугром», проклятые капиталисты
ради прибыли готовы сгноить весь земной шар. А как же
назвать это явление? Борьбой за благосостояние
советского человека, что ли? Да, лицемерие наших
вождей не знало предела. Но вся эта грязь наверху, а вот
внизу раскинулось озеро Арашан с родоновым
источником. Вот туда-то мы идем в быстром темпе.
Здесь у источника стоят две деревянные избы, правда,
заброшенные. Ближе к лету сюда приезжает местный
мулла и благословляет верующих на исцеление. Для
омовения сделана бетонная ванна на несколько человек, и
хотя она на открытом воздухе, в ней тепло порядка +45
гр. С. Сидишь голышом и обозреваешь снежные
вершины.
200
Отсюда начинается грунтовая автодорога по
Ангренскому плато, и далее – асфальтированная трасса в
город Ангрен. Ангренское плато – огромная долина, где
берет свое начало река Ангрен, которая впадает в реку
Сырдарья, а та в свою очередь впадала когда-то в
Аральское море. Но, увы, в погоне за миллионами тонн
хлопка воду из реки разобрали каналами для поливов
«белого золота». Река обмелела, и уже давно не доходит
до Арала, да и само море катастрофически высыхает.
Сейчас от него остались три лужи, и, видимо, недалек тот
день, когда оно вообще исчезнет с карты земли.
Но вернемся на Ангренское плато с уже цветущими
травами и главной достопримечательностью Зоны отдыха
известного колхоза. Председателя сейчас судят за
страшные преступления, вплоть до массовых расправ с
членами этого передового хозяйства.
В то время по всей стране гремели грандиозные
процессы над «выдающимися» деятелями партии и
правительства. Очень странно как-то умер наш первый
секретарь ЦК товарищ Рашидов. Говорят, что его
вынудили застрелиться, началось смутное время
перестройки.
Мы добрались до Зоны отдыха к вечеру, там пусто,
только старый сторож, видимо, весь состав
высокопоставленных отдыхающих уже спит на нарах.
На территорию нас не пустили, и мы раскинули свой
лагерь рядом, чтобы с утра воспользоваться грузовиком,
который должен проехать здесь с верхнего пастбища.
Действительно, с утра нас подобрала машина, и мы
катим по направлению к дороге с перевала Камчик, там
уже начинается настоящая асфальтовая трасса в город
Ангрен, и далее до Ташкента.
Поход наш закончен, до свидания, Чаткальский
хребет, и, видимо, навсегда.
201
Почётный эскорт в трусах от Натали. 1980 г.
На гребне Чаткальского хребта. Пер. Музбель. 1980 г.
202
Родоновый источник под пер. Арашан. 1980 г.
203
Глава 9
ОЙГАИНГ
204
205
В этой главе я расскажу вам о наших путешествиях в
верховьях реки Пскем, вернее, по ее левому притоку
Ойгаингу, который вместе с правым, Майданталом,
образует одну из самых коротких, но полноводных рек –
Пскем.
Как оказалось, это были мои последние горные
путешествия. К сожалению, так сложилась судьба, что
теперь долгое время я живу на равнине у моря, хотя и
Средиземного, но не то, не то. Судьба-злодейка так и не
дает мне вырваться из этого порочного круга. Даже во
время шестилетнего пребывания в Канаде поселились мы
не у скалистых гор, а на берегах великой реки Сент-
Лоран, в славном граде Монреаль. Но это все вместо
предисловия, а теперь о походах.
Между рекой Ойгаинг и рекой Майдантал
расположен Майдантальский хребет с очень интересными
перевалами разной категории сложности, что и
привлекает наших туристов.
Впервые этот район я посетил на вертолете. Дело
было так: я работал тогда в проектном институте
«Автодор», и нам поступил заказ на проект
снеголавинной станции в районе перевала Камчик, с
которого спуск в Ферганскую долину, а также подобной
станции в районе турбазы «Чимган». Заказчик
«Сарниигми» (Среднеазиатское отделение всесоюзного
института гидрометеорологии) имел только по
Узбекистану десяток таких станций в горах, одна из
которых стояла на реке Ойгаинг. И вот, так сказать, для
успешного проектирования, они решили показать
несколько объектов в натуре, и пригласили меня, как
главного архитектора проекта, прокатиться на вертолете
для ознакомления с видом таких станций.
Летали мы целый день, и вот тогда я впервые увидел
Майдантальский хребет, и даже фотографировал все
206
сверху, так что получилась полная картина района нашего
будущего похода. Кстати, снимать с вертолета одно
удовольствие – открыл окно, и щелкай.
На реке Пскем расположен поселок с одноименным
названием, который является последним населенным
пунктом в этом районе. Ведет к нему довольно приличная
дорога из городка энергетиков Чарвак. Оттуда ходит
рейсовый автобус два раза в день, так что добраться из
Ташкента не сложно. Сначала автобусом до Чарвака, и
пересадка на поселок Пскем, а по времени это занимает
порядка пяти часов.
Когда-то мы «крутились» в этом районе, делали
майский поход на р. Угам. Там через перевал Парда
сваливались в ущелье Кара-кыз-сай, что переводится, как
«Сорок девушек», и выходили к поселку Пскем. В общем,
на подступах к верховью реки Пскем мы бывали, а вот
попасть на Ойгаинг – это была мечта.
Специалистами по этому району оказались ребята из
когда-то знаменитой туристской секции «ОДО», можно
сказать, зачинатели туризма в Ташкенте. Впоследствии
все это трансформировалось в этакое нелегальное
общество свободных путешественников. Ходили они
везде, без всякой регистрации в клубе туристов, и это
тоже было своеобразным протестом против тогдашней
бюрократии.
Познакомился я с яркими представителями этой
вольной братии на квартире, можно сказать, «пионера»
туризма в республике, Алексея Ивановича Федорова, или
как его сокращенно называли «АИФ». Этим именем был
даже назван один из перевалов на Майдантальском
хребте. Жил он в девятиэтажке, построенной киевлянами
после ташкентского землетрясения, когда многие
республики помогали восстановить жилой фонд города. В
его однокомнатной квартирке всегда было полно
207
молодежи, и хозяин, несмотря на почтенный возраст,
всегда был рад посещениям, ходил с ребятами в походы
буквально до последнего своего дня.
Я даже поучаствовал в одной их вылазке на перевал
Бабай-Ульген (буквальный перевод «смерть старика»).
Действительно, это страшный перевал, на нем в разное
время погибло несколько групп туристов. Последней
была большая команда Авиазавода, которая в конце
ноября решила подняться на него со стороны ручья
Кулосья. Наверху их застал снежный буран, они
растерялись, разбежались в разные стороны, заблудились.
И в конечном итоге десять человек замерзли, не смотря на
то, что у них были палатки, примус, бензин.
Так вот, будучи на посиделках у «АИФ», я
разговорился с ребятами о нашем плане побывать на
Ойгаинге и Майдантале, в общем, в том районе. Как
оказалось, они эти места хорошо знают, а также есть
неплохая схема, которую мне и подарили. Теперь, когда у
нас сносная карта и снимки с вертолета, можно
планировать первое путешествие по Майдантальскому
хребту.
Составление маршрута – это, можно сказать, самый
творческий процесс, хочется пройти все, побывать и там,
и там, везде интересно.
Вооружившись картографическим материалом и
классификатором перевалов, начинаем прокладывать
нитку маршрута. В результате творческих мук
вырисовываются два варианта: из Ташкента на рейсовом
автобусе до города Чарвак, затем пересадка на местный
«ПАЗик» до поселка «Пскем», далее идет грунтовка вдоль
правого берега реки Пскем. Там стоит метеостанция, куда
довольно часто идут грузовики.
Затем вдоль реки Ойгаинг подняться километров 20
до слияния с ручьем Текеш, и по нему на перевал Текеш,
208
спуститься уже на реку Майдантал, и тут – или через
перевал «АИФ» выйти в Казахстан, или спуститься по
Майданталу вниз к метеостанции.
В действительности получился третий вариант, а,
забегая вперед, скажу, что мы, поднявшись на перевал
«Текеш», спустились обратно на Ойгаинг и ушли на
метеостанцию.
Почему так получилось, я еще расскажу, но,
впоследствии наши ребята проходили разные варианты,
правда, уже после моего отъезда из страны.
Мы разбили свои палатки за поселком Пскем прямо у
дороги, завтра с утра будем ловить попутку на
метеостанцию, а пока отдых. Здесь мы не одни, еще
несколько групп туристов, жаждущих приключений,
ночуют на этой же поляне. Ночью какие-то грузовики
прошли по дороге, но мы не стали суетиться и,
отоспавшись, утром двинулись по дороге вверх с
надеждой, что все равно какая-нибудь машина нас
догонит.
Действительно, километров через восемь слышим, как
сзади рычит мотор и, о счастье, грузовик идет прямо на
метеостанцию, и нас берут на борт. Правда, кузов
представляет из себя этакую оригинальную конструкцию,
смесь «ежа и ужа», т.е. он наполовину деревянный, а
сверху устроена пластмассовая крыша с люком. Вот через
этот люк мы пролезаем в кузов и, как лихие танкисты,
мчим по разухабистой дороге.
Наконец-то после долгой тряски въехали на
территорию метеостанции, которая расположена на
слиянии двух рек - Ойгаинг и Майдантал. Определить.
где какая река, очень просто – вода в Ойгаинге белесая, а
в Майдантале – кристально-чистая. Место красивейшее,
лесок, большая травянистая поляна, где мы разбиваем
свой лагерь и идем знакомиться с персоналом
209
метеостанции. По плану надо идти вверх по Ойгаингу, и
нам советуют с утра дождаться попутки, т.к. дорога идет
еще на верхние пастбища до снеголавинной станции. Нам
не надо так далеко, и где-то через километров 15 нужно
свернуть влево, в ущелье ручья Текеш, а там и на перевал
Текеш.
Утром мы свернули лагерь, часок подождали
попутной машины, плюнули, потом пошли вверх, и
правильно сделали. В этот день машин не было, так что
только к обеду мы вышли к ущелью «Текеш» и
расположились у ручья.
Здесь на уровне альпийских лугов целые плантации
«Золотого корня» (по-научному «Радиола розовая»), о
целебных свойствах которого я уже рассказывал. Это
замечательное тонизирующее средство, оно считается
вторым после женьшеня. Его можно заваривать с чаем,
делать настойку на спирту, но есть одно но – его нельзя
употреблять при повышенном давлении. Мы ринулись на
сбор урожая и, в нарушение своих планов, до вечера
пахали, как колхозники.
Естественно, с пополнением груза выходить на
Майдантал уже нецелесообразно, и решаем назавтра
налегке сделать радиальный выход на перевал.
С утра оставляем дежурного со всем барахлом, и по
морене вверх, затем начинаются фирновые поля и сам
ледник, в общем, со стороны Ойгаинга выход на перевал
несложный, ну и немножко страховки при продвижении
по фирну и льду.
К обеду мы уже в лагере, и, наскоро перехватив,
быстренько спускаемся на дорогу, там в зеленой
березовой рощице и заночевали. На следующий день,
вернувшись на метеостанцию, решаем изменить наш
маршрут, как-то не хочется идти обратно по дороге. Есть
интересный проход от метеостанции - через два
210
несложных перевала выйти на два замечательных озера,
одно из которых вытянутое, а второе круглое, как пиала.
В общем, так и порешили – все, завтра с утра начинается
вторая часть нашего обновленного маршрута, и надо уже
сегодня готовиться к этому тяжелому переходу.
Перевалы хоть и технически не сложные, но
находятся на большой высоте, порядка трех тысяч
метров. Нет там сейчас ни снега, ни льда, но жарко и, как
говорят туристы, «ишачка». Предстоит подняться сначала
по крутому гребню и перевалить в соседнее с
метеостанцией ущелье, что расположено вниз по течению
реки Пскем, а затем, практически не теряя высоты, выйти
на второй перевал, и вот с него уже начинается спуск к
озерам. Естественно, наш груз надо облегчить, и
половина урожая «золотого корня» безжалостно
выбрасывается, тщательно сушим палатки, веревки,
штормовки и даже чистим зубы.
С утра мы плотно завтракаем, и уже готовы вступить
на тропу. Но тут – о, небо! - бог сжалился над нами, и
послал свою лодку в виде вертолета. Как гром среди
ясного неба, на поляну садится «МИ-8», и мы бежим к
летунам выяснить, куда они, милые, летят, не в нашу ли
сторону. Да, они именно туда и летят, через полчаса там в
цирке, под какой-то не помню вершиной, куда и выходит
тропка с нашего второго перевала, работает бригада
геологов или топографов, в общем, их надо забрать
оттуда.
Теперь надо только договориться с летунами, и как
всегда и везде на необъятных просторах бывшей Родины,
разменной монетой является, ну конечно, «беленькая».
Начинается восточный торг: что даете за извоз? Да у
нас, вот, полбанки. Нет, это мало, - отвечает молодой
штурман. Наступает длинная пауза. Ну, мало, так мало, у
нас больше нет, и мы отходим. Тут не выдерживают
211
нервы у командира: «Эй, куда же вы, давай быстренько
садитесь, пора вылетать». Радости нашей нет предела,
хватаем барахло и буквально на ходу влезаем в
геликоптер.
Какая же все-таки прелесть летать на вертолете.
Плавно набирая круги, он поднимается вверх по ущелью,
иногда кажется, что он вот-вот заденет скалы, но крутой
вираж – и мы уже буквально через двадцать минут
садимся в цирке ниже нашего второго перевала. Помахав
ледорубами вслед нашему избавителю от тягот и невзгод,
начинаем спуск к озерам. К вечеру мы уже спустились к
основному вытянутому озеру, и еще сверху заприметили
юрту пастуха, там суетятся дети, женщина, собаки, вьется
вкусный дымок.
Ну, мы, конечно, резанули прямо к юрте, а там никого
нет. Видимо, увидев, они приняли нас за отряд басмачей,
мы же все как бы в форме, а ледорубы издалека, да еще
вечером, можно принять за ружья; вот они и попрятались.
Тогда уже начались перестроечные разборки между
узбеками и киргизами. Были случаи нападения на
пастухов, кражи скота, да и вообще, появились, как
сейчас говорят, «боевики».
Покрутившись у юрты, мы спустились пониже,
разбили палатки, надо готовить ужин, а дров здесь нет,
вообще одна трава и «кизяки». Собрали кизяки, какую-то
сухую траву, пытаемся раздуть костер, кашляем от
густого дыма. И тут приходит пастух.
Видимо, убедившись, что мы не какие-то разбойники,
решил, согласно восточному гостеприимству, пригласить
нас к себе, но мы вежливо отказались и только попросили
дров, он тут же сбегал к юрте и принес целую вязанку,
которой хватило нам на два дня.
Мы сидим у костра, пьем чай, приправленный
«Золотым корнем», идет неторопливая беседа. Али
212
Валиевич явно устал, проклинает Советскую власть, а
заодно и всех инородцев. Вот обидно за республику, ведь
у нас все есть: золото, хлопок, каракуль, а нас грабили 70
лет. Москва все забирала, перераспределяла, и, в
конечном счете, мы получали крохи, а вот теперь, когда
мы самостоятельны, заживем, как в Кувейте.
Забегая вперед, можно спросить, ну и что? До чего вы
дожили, все стали нищими.
Отдыхать на большом озере смысла нет, вода здесь
холодная, берег крутоват, так что лучше идти дальше ко
второму. Оно хоть и намного меньше, но с теплой водой.
Озеро это завальное, и возникло сравнительно недавно, от
землетрясения образовался завал, своеобразная запруда, и
вот – прекрасное озеро. Здесь следы явных стоянок
отдыхающих, которые, как мы потом узнали, прилетают
сюда на вертолете, вот какой сервис! Мы там балдели дня
три, накупались, наговорились, да я еще пописал
«акварельки».
Все хорошее быстро проходит, надо спускаться вниз,
лафа закончилась, дальше идти на своих двоих. Поначалу
тропа то видна, то куда-то исчезает, видимо, давненько
тут не бродили. Вот и первая после озера ночевка была на
довольно неудобном склоне.
Надо было спуститься пониже. Отсюда идет хорошо
набитая тропа, вплоть до дороги к мосту через реку
Пскем, на сторону поселка Пскем, недалеко от известного
нам Кара-кыз-сая. Здесь у «летовки» сказочная панорама:
в пастельных тонах растворялись контуры вершин, рек и
озер. Передать это в красках можно, но не нужно, лучше
все увидеть самому и всю жизнь вспоминать.
Вот так красиво и, как всегда, с приключениями,
закончился наш первый поход в верховья реки Пскем, по
Ойгаингу, а впереди не менее увлекательное путешествие
213
в этом районе, но уже в следующем году, так что до
новой встречи, дорогие друзья.
Наступили смутные времена, раскололась огромная
империя большевиков, республики стали государствами,
появились границы, таможни, блок-посты, в общем,
кончилась наша лафа, когда мы могли на халяву ехать в
любую точку и наслаждаться бескрайними просторами
великой и могучей.
Теперь тоже можем путешествовать, но в пределах
Узбекистана, а вернее, в районе юго-западного Тянь-
Шаня, и тут радостная весть облетает весь город, т.е.
туристско-альпинистскую общественность, что как-раз на
Ойгаинге, где мы были в прошлом году, открывается
альпинистско-туристический лагерь. Организаторами
сего явились известные альпинисты Анатолий и Нина
Шабановы. Они мастера спорта, члены Совета федерации
альпинизма, а Нина вообще долгое время работала в
туризме как штатный сотрудник городского клуба, а
потом вела отдел туризма при крупном ДСО «Мехнат». В
общем, мы с ней были давно знакомы и помогали друг
другу в части организации летних походов, ну и многое
другое.
Они сразу сообразили, как в этом бардаке сделать
маленький порядок. Вспомнив историческое прошлое,
когда до Великой Отечественной войны не было
разделения на туризм, альпинизм, а было «ОПТЭ»
(общество пролетарского туризма и экскурсий), вот
тогда-то существовали этакие смешанные базы (лагеря),
куда можно было купить или получить от профсоюзов
бесплатную путевку и провести поход или восхождение в
сопровождении инструктора.
Взяв это за основу, они быстренько организовали
этакий лагерь, который работал в три смены. Путевку
приобрести в принципе мог любой желающий, но в
214
основном они закупались группами туристов или
альпинистов, которые получали сухой паек, готовили все
сами и проводили свои мероприятия, т.е. восхождение
или поход под контрольный срок маленькой службой
спасателей, живущих на базе.
Все было прекрасно, и наша замечательная секция
«Зодчий» в почти полном составе приобрела путевки с 20
июля на две недели, а учитывая, что подвоз входил в
стоимость путевки, это был полный «атас».
Единственным «но» было то, что сесть на машины мы
могли только у моста через реку Пскем, в районе
Бричмуллы, куда все добирались самостоятельно на
рейсовых автобусах, сначала до города Чарвака, а затем
на «ПАЗике» до моста.
Добраться туда надо было к трем часам и ждать
лагерные грузовики идущие из Ташкента, груженые
продуктами и разным барахлом.
Уже в два часа, так сказать, досрочно, вся наша смена,
человек сорок, собралась у моста в ожидании транспорта.
Машины пришли в сумерки, и до полуночи мы
тряслись в кузовах по бездорожью, или, скажем так, по
условной дороге, но зато до самого лагеря. Приехали часа
в два ночи, и так как внешнего освещения там не было, то
устроились как попало, а с утра нашли удобную
поляночку в березовой рощице.
Еще в длинные зимние вечера мы распланировали
наш маршрут с учетом освоения левобережной части реки
Ойгаинг в районе снеголавинной станции. Там я побывал
еще раньше при облете Майдантальского хребта, о
котором я уже рассказывал. Нитка маршрута не сложная,
и состояла из двух колец.
Первое было рассчитано на неделю, затем
возвращение на базу, пару дней отдыха, и второе кольцо –
на перевал Текеш, дабы «добить» не пройденный в
215
прошлом маршрут со спуском на реку Майдантал и
выходом уже к метеостанции на слиянии Ойгаинга с
Майданталом.
Оттуда, не возвращаясь в лагерь, на попутках
добраться до поселка Пскем, и далее в Ташкент. Забегая
вперед, скажу, что и на этот раз пройти пер. Текеш мне
было не суждено, и я это знал заранее, так как шла
секретная подготовка нашего выезда из страны, но я
ничего никому об этом не говорил, не хотел
расхолаживать других участников.
Мы тащимся наверх по знойному ущелью, вверх к
заоблачным высотам, где-то там в снегах наш перевал.
Идем мы уже не по какой-то схеме, а по отличной
настоящей карте, выпущенной картографической
фабрикой в продажу населению, так как гриф
секретности с нее снят. Это чудо произошло потому, что
в то время предприятия перевели на вольные хлеба, и
зарабатывать они должны сами, кто как сумеет, вот и
стали продавать, кто на чем сидит.
Это, конечно, не помешало нам, как всегда,
запутаться при подходе к перевалу, где мы долго
спорили, «где же наш единственный среди
многочисленных дыр на гребне».
Целый день мы поднимаемся по этому выжженному
ущелью, стоит невыносимая жара, в обед пьем только
чай, кушать совершенно не хочется, только одна мысль
гложет – где бы приткнуться отдохнуть. Солнце стоит
прямо над головой, ни капли тени даже от высоких
валунов, так что засунул я голову прямо под камень, как
змея или скорпион.
Зато к вечеру выходим на совершенно изумительную
поляну, покрытую зеленой травкой и яркими желтыми
одуванчиками, здесь на высоте за три тысячи метров еще
весна. Посредине поляны лежит огромный камень, бог
216
весть свалившийся с какого склона и удачно вписавшийся
в сказочную поляну. Вот у этого валуна мы разбили наши
палаточки, врубили примус, и через час ужин готов.
Мы, размякшие после тяжелого походного дня,
полулежа, как апостолы, неторопливо вкушаем что бог
послал через дежурных. Наша самодельная палаточка
сделана из парашюта, тогда многие шили из него не
только палатки, «анарачки», но даже рюкзаки, а
доставали эти «купола» на военных базах у мордатых
коптерщиков.
Проползаем в палатку и, малость поворочавшись,
забываемся в томной дреме, у кого-то журчит транзистор
давно знакомыми голосами, сейчас их не глушат,
наступило время демократии или, как ее потом назовут в
России, – дерьмократии.
Наутро, плотно позавтракав, мы прощаемся с
гостеприимной поляной и уходим вправо на морену, там
среди открывшейся панорамы хребта находится наш
перевал. Но где он, еще надо найти, карта тут не
помощник, и мы делаем разведку, поднимаемся
несколько человек на правую, более высокую часть
морены.
Оттуда уже можно определиться, во всяком случае,
понятно, что наш перевал находится в левой части хребта,
и надо переходить на левую часть морены, а затем по
крутому фирновому склону подниматься на перевал.
Подъем затяжной, идем в связках, кое-где рубили
ступени, особенно при прохождении крутого гребня со
скальными выходами.
Но вот мы на перевале, дует ветерок, но не сильный, и
мы садимся на «перекус» с чаем.
Никакой записки на перевале нет, да и вряд ли сюда
кто-то ходит, хотя это самое удобное место спуска в
соседнее ущелье. Оно намного проще, все-таки южная
217
сторона, снега не так много, зато прекрасные снежные
галстуки, по которым мы, глиссируя, спускаемся на
зеленку. Еще сверху намечаем место стоянки, там ровная
полянка, но чтобы попасть туда, надо проскочить через
неглубокий сай. Тут множество ручьев, из которых ниже
формируется основной поток, впадающий в Ойгаинг.
Мы, конечно, устали, и в брод идем, не снимая обувь,
Виталий ворчит, но дальше идти нам не надо, завтра
дневка, все высушим.
Как все-таки прекрасны альпийские луга с их высокой
травой, ручьями, цветами, пьянящими запахами весны.
Целый следующий день мы наслаждались этими
прелестями, ходили исключительно босиком и вообще
готовы были снять с себя все, почувствовать единство с
природой, ан, нет, воспитание не позволяет, да и девочки
вокруг.
Хотя был случай в одной из туристских групп, где
ослабевших на маршруте парней девицы вдохновляли,
раздевшись догола и встав впереди, гордо покачивая
бедрами, заставили их воспрянуть духом.
На нашей карте спуск вниз обозначен четкой тропой
вдоль правого склона сая, но не все так гладко, что
начерчено, и в начале мы довольно долго искали эту
тропу, которая то появлялась, то исчезала.
Видимо, сюда давно не ходят пастухи со своими
отарами, тропа глохнет, и вообще она довольно
неприятная, резкие подъемы, затяжные спуски, опять
подъемы, заколебали нас в конец, так что только к вечеру
мы вышли на площадку, с которой открывается панорама
долины Ойгаинга.
Спуститься уже темновато, и на ночевку
располагаемся здесь же, благо, много ровных мест, а с
утра побежим вниз до самого альплагеря «четы
Шабановых», где нас поджидает наш «штатный
218
художник» Саша Нерозник, тот самый, который ходил с
нами на Алтай. Он пишет акварельки и ухаживает за
лагерными дамами для вдохновения своей творческой
души. И, конечно, тела. Есть у него и положительное
качество – он отлично готовит, как говорится, «пальчики
оближешь». Утром мы быстренько спустились к мосту
через Ойгаинг, недалеко от снеголавинной станции,
выкупались в ледяной воде - и ходу на базу, там нас
встречает Саша и фирменный «жаркоп».
Закончилось наше первое кольцо, и мне с Леной надо
уезжать в Ташкент, а Виталий проведет вторую часть
похода на перевал Текеш.
С нами ушла и Надя, сославшись на легкое
недомогание, явно что-то врала, да бог с ней, и нам не
скучно. Через день мы спустились к метеостанции и, надо
же, туда прилетел вертолет.
Мы сходу к летунам, прихватив «полбанки», и
начинается старый разговор: «Куда летите? – Да в
Ташкент. – Возьмите нас. – Что у вас? – А у нас вот что. –
Нет, этого мало. – Но больше нет»…
В конце концов, пустив слезу, наши дамы добиваются
своего, и мы летим.
Это была сказка, мы пролетели над озерами, где я был
в первом походе на Ойгаинге, затем над знаменитыми
Кок-суйскими озерами, куда я все время мечтал попасть,
затем через реку Чаткал вылетели в район озера Сары-
Челек, но, не долетев до него, свернули вправо, и через
Чаткальский заповедник прилетаем на Сергелийский
аэропорт Ташкента.
Вот так закончился мой второй выход на Ойгаинг и
вообще мои горные путешествия, кто бы мог подумать,
что я, матерый горняк, окажусь на равнинах, морях, ну
как тут не поверить старой истине: «Человек
предполагает, а Бог располагает».
219
Пик Текеш (со стороны р. Ойгаинг). 1992 г.
Майдантальский хребет.
220
В гостях у Нины и Анатолия Шабановых. Ташкент, 2003 г.
221
Глава 10
ЭПИЛОГ
222
223
Друзья вспоминают
минувшие дни
и тропы, где вместе
ходили они…
Дорогие друзья!
Поздравляем себя с тридцати-
летием секции «Зодчий».
Дай нам Бог здоровья, и мы
еще тряхнем стариной по го-
рам и долам.
Ваш Марк
2008, Netanya
224
Наташа – умница, красавица, зачинатель секции «Зодчий»
Марк Григорьевич – бессменный руководитель секции
«Зодчий» и большой любитель пожрать.
225
Виталий Михайлович (кликуха «Доцент») – бессменный
завхоз, но справедливый.
Равиль Зайнулович, блестящий фотограф, отличный походный
доктор, но хитрый.
226
Валентус (Валентин Николаевич), редчайший экземпляр
туриста и ярого диссидента.
Юрий Аронович, большой оригинал и ярый сионист.
227
Надя – просто красавица, но скромница.
Поход выходного дня.
228
Традиционная встреча участников секции «Зодчий» (ежегодно
в декабре). 2003 г. Стоят (слева направо): Венера, Ира, Марк,
Бахтияр. Сидят (слева направо): Валя, Алим, Виталий, Надя.
229
СОДЕРЖАНИЕ
От автора …………………………………………………....3
Глава 1. Секция «Зодчий» …………………………………5
Глава 2. Кавказ ……………………………………………19
Глава 3. Памир .……………………………………………53
Глава 4. Матча …………………………………………….93
Глава 5. Фанские горы ………………………………….111
Глава 6. Алтай ……………….…………………………..139
Глава 7. Камчатка ………………………………………..171
Глава 8. Чаткальский хребет ……………………………189
Глава 9. Ойгаинг …………………………………………203
Глава 10. Эпилог ….……………………………………...221
230
МАРК ГРИГОРЬЕВИЧ ШПОЛЯНСКИЙ
ТРОПЫ. Повесть
ИЗРАИЛЬ
2008
Свидетельство о публикации №209102600670
Лариса Салихова 23.12.2014 21:59 • Заявить о нарушении