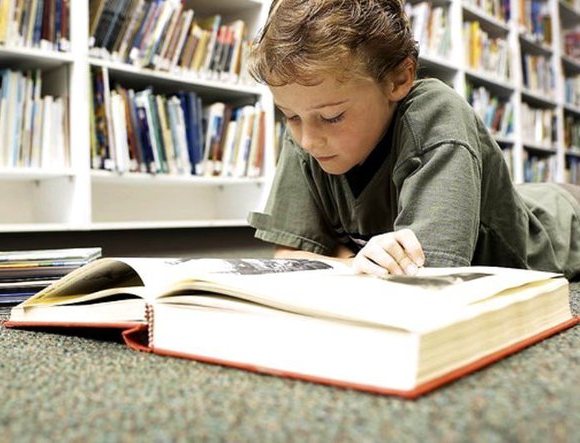Нужна ли взрослой России детская литература?
Данное высказывание сразу же отметает разговор о специфике вообще. Лариса Исарова выразила сходную точку зрения. Она отрицает специфику литературы для детей по той причине, что самые известные и великие произведения детской литературы были созданы авторами, которые “не приноравливают свою манеру под детей”, а дают жизнь подлинно художественным произведениям. Но при этом Лариса Исарова говорит про ненужность специфических особенностей детской литературы нелогично - в своих высказываниях она делает поправку о том, что возрастная специфика все же необходима в книгах для дошкольников и младших школьников.
Существуют ли отличия между литературой для взрослых и литературой для детей? И имеют ли они принципиальное значение? Тема об особенностях детской и подростковой литературы по-прежнему актуальна.
Несмотря на то, что существуют, казалось бы, абсолютно противоположные позиции относительно специфики детской литературы, есть обстоятельства их объединяющие – обе стороны “баррикад” стремятся защитить литературу для детей как имеющее право на жизнь искусство слова, спасти ее от упрощенности и схематизма. С этой точки зрения и нужно рассматривать высказывание Сергея Михалкова, призывающего примерить на детскую литературу общие законы искусства.
Конечно, специфика литературы для детей существует и произрастает она из особенностей восприятия детьми окружающей действительности, которое сильно отличается от восприятия мира взрослыми. Особенности детского восприятия, о которых идет речь, его возрастные качества, подразделенные на несколько типов, вытекают из особенностей антропологических форм сознания детей (как неоднократно подчеркивалось в трудах Л. С. Ваготского, А. Т. Парфенова и других не менее известных и авторитетных авторов). При этом сознание ребенка зависит не только от психофизиологических факторов, которые носят объективный характер, но и от обстоятельств социального характера.
Ребенок, также как и взрослый, существо общественное. Однако социальная основа, на которой развивается его общественное сознание, имеет серьезные отличия по сравнению с социальной основой зрелой личности. Взрослый человек непосредственно воспринимает социум и взаимодействует в нем, в то время как ребенок нуждается в посреднике в виде взрослого. Парфенов, написавший в свое время статью “О специфике художественной литературы для подрастающего поколения” говорил о том, что принципиальная разница в сознании взрослого и ребенка заключается в том, что подавляющее большинство жизненных потребностей удовлетворяются (а равно формируются) взрослыми. Это не может не оставить определенный отпечаток на косвенном и непосредственно приобретенном опыте детей и подростков. Чем старше ребенок, тем меньше его потребность во взрослом в общественных отношениях, соответственно, меньше и доля специфики детства в социальной сфере.
Период взросления человека подразделяется на этапы. Известно (по горьковской классификации) – это детство, отрочество, юность. На каждой из этих стадий у детей складывается качественно своеобразный тип сознания. Между указанными этапами существуют и промежуточные стадии, переходные этапы, в которых сочетаются элементы двух типов сознания. Например, между детством и отрочеством, между подростковым периодом и этапом, на котором человек становится юношей или девушкой.
Так как социальные основы, заложенные в сознании, у взрослого человека и ребенка качественно иные, то и эстетическое отношение к жизни, реальному миру у детей принципиально отличается. Дело в том, что эстетическое отношение к тому или иному предмету является одним из видов общественного сознания и образуется на базисе социальной практики. Поэтому нельзя согласиться с фразой Андрея Нуйкина: “Нет эстетики отдельно взрослой, отдельно детской. Есть одна человеческая эстетика”. Это суждение также противоречит доказанному Николаем Гавриловичем Чернышевским классовому характеру эстетики, а не общечеловеческому.
Чем младше читатель, тем детская специфика проявляется контрастнее, тем более особенной должна быть книга. И, наоборот: для читателей чуть старше, не требуется литература, содержащая специфические характеристики, необходимые для детского возраста. Но и детство не остается без изменений – оно меняется вместе с социальной средой и активностью в ней.
Границы возрастных стадий, о которых говорилось выше, сдвигаются в зависимости от тех или иных факторов. Поэтому их нельзя воспринимать как нечто устоявшееся, статичное. В настоящее время мы можем наблюдать акселерацию детства. Надо признать, эта стадия проходит быстрее, нежели в прошлом столетии. Это связано в большей степени с бурным движением научно-технического прогресса и растущей информатизацией.
Бесспорно, изменения в специфике детства в свою очередь влекут изменения в детской литературе – она взрослеет. Но в любом случае, детство продолжает существовать, а значит и специфика детской литературы остается.
Итак, можно выделить главные черты детской литературы. В первую очередь, это информационная и эмоциональная насыщенность, своеобразие формы и необычное сочетание художественного и поучительного. Ярким примером такого причудливого сочетания является произведение Константина Георгиевича Паустовского “Теплый хлеб: “Ты брось реветь! – строго сказал Панкрат. – Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил – сейчас в рев. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет, и воды нет, и что нам придумать – неизвестно. – Чего же мне делать, дедушка Панкрат? – спросил Филька. – Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины”.
Поучительность является важным, если, пожалуй, не главным элементом детской литературы. Литература, написанная для детей, должна учить доброте, ответственности, прививать чувство долга. И эти качества не должны исчезать из детской литературы, они не устареют, не потеряют своей актуальности никогда. Даже наоборот, сейчас, когда в телевизионном эфире преобладают кровавые боевики, откровенные телешоу и жуткие фильмы ужасов, в литературе должно особое внимание уделяться воспитательному элементу. Книги становятся практически единственным источником, способным привить еще не сформированной личности общечеловеческие ценности.
Если не будет детской литературы, чему сможет научиться ребенок? Ни для кого не секрет, что большое влияние на развитие внутреннего мира человека, на формирование его мировоззрения оказывает среда, в которой он воспитывается. Если вокруг детей будет только злость, жадность, разврат и другие пороки, которыми наполнено TV, страшно подумать, что станет с детьми, когда вырастут, во что они будут верить и к чему стремиться...
На современном этапе в детскую литературу наряду с новыми жизненными реалиями и новыми героями входит и новый язык. Например, ”И весь, как щенок: кипишит, прыгает, мягкий, гибкий, как говорит моя подруга Волкова - охота потискать” (Ирина Денежкина “Дай мне!”). Для современной детской литературы характерно размывание граней между языком литературным и разговорным. Точнее, разговорный язык проник в литературу, где продолжает активно использоваться. Разумеется, такое новое стилистическое решение неизбежно влечет применение в литературе новых слов. К сожалению, эти слова не всегда несут позитивные нотки.
Одновременно с иностранными заимствованными словами в детских книгах начинают встречаться просторечия и жаргонные слова: ”Привет, Красная Шапочка, – писал внук бабушке, – Извини, что долго не чиркал. Мусора на хвост сели и пасли плотно. Я хотел когти рвануть, но меня замели с мечеными бимбарами. Пришили дело на треху. И поплыл я по статье в особняк…” (Валерий Роньшин, ”Охота за Красной Шапочкой”).
В настоящее время в детской литературе стали появляться синтаксические обороты, которые ранее применялись исключительно в разговорной речи - неполные предложения, повторы, инверсии. Такие новаторские процессы запустились не сегодня, однако, если ранее в детской литературе можно было встретить слова и конструкции, характерные для детской речи, то сейчас язык, которым написаны книги для детей, практически не отличается от разговорной речи взрослых. Данное явление, с одной стороны, говорит о наличии определенных процессов в обществе, а с другой, меняет сознание юного читателя - дети стали говорить на языке взрослых, в большой степени благодаря литературе последних лет.
Это касается не только литературы. Известный всем еще с детских лет “Ералаш” – сатирический киножурнал, в последние годы изменился до неузнаваемости. В него проникли не только сленговые слова, но и другие “атрибуты” современности, сделавшие “Ералаш” пошлым, недобрым и порой очень глупым.
Конечно, время, технический прогресс, глобальная информатизация не стоят на месте. Этим изменениям отдает дань и литература, но при этом она не должна деградировать. Произведения для детей и подростков не может быть поверхностными, их персонажи обязаны переживать, страдать и получать жизненные уроки, ненавязчиво воспитывая учить. Детская литература должна развивать разум юного читателя, проникая в его сердце и душу, прививая и упрочивая общечеловеческие ценности.
Свидетельство о публикации №212053001120
Вспоминается Ж. Верн, М.Рид и др - явно ДЛЯ, но не О. И Приставкин - О, но не специально ДЛЯ.
Грамадзяне 31.05.2012 14:06 • Заявить о нарушении
Критикесса Великая 31.05.2012 14:39 Заявить о нарушении