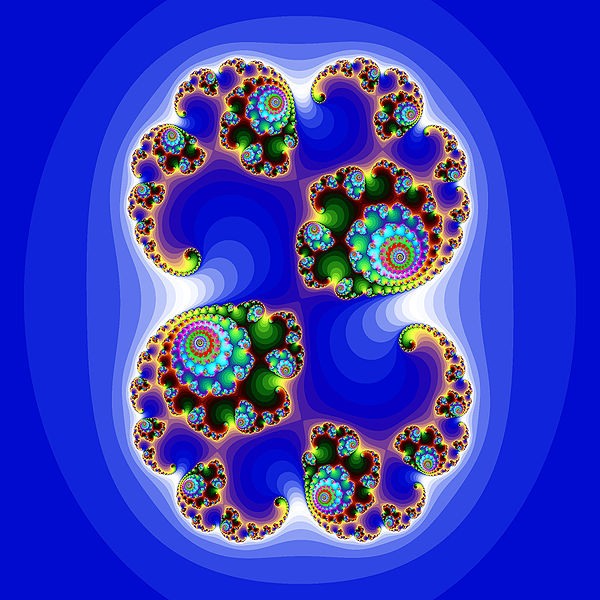Сто историй любви
ЛИЦА СТРАСТИ
СОНАТА ДЛЯ СКРИПКИ
В суде пятый день длилось разбирательство по делу Иннокен-тия Ириниловича Преловского. С самого начала он не только не отрицал, а, наоборот, настаивал на своей виновности в гибели Адели Алексеевны Озариной. Судья уже приступил было к чтению приговора, которым предусматривалось тюремное заключение сроком до 13 лет, как вдруг возникли новые обстоятельства.
Прокурор представил суду письмо Озариной, отправленное за несколько дней до смерти. Его зачитали тут же, так как оно адресовалось подсудимому.
«Даже не верится, что впервые увидела тебя двенадцать лет назад. Тогда был солнечный день. Ты сидел в парке на лавочке и листал книгу. Спортивная фигура, высокий лоб и черные вьющи-еся волосы напомнили мне отца, который нас бросил. Я стояла невдалеке, прислонясь к старому клену, и наблюдала за тобой. По губам, что шептали неясные фразы, поняла - студент, зубришь какой-то предмет. Захотелось чем-то удивить. Я сорвала на клумбе розу и с ней продефилировала перед тобой в одну сторону, затем - в обратную. Но твои большие глаза безразлично скользнули но мне и опять уткнулись в учебник. Это как-то особенно раздразни-ло. Решила: подойду, положу на книгу розу и скажу: «Поцелуй меня».
Но эту «феминистскую» фантазию осуществить не успела. Неожи¬данно к тебе подбежала броского вида девушка. Ты вскочил, протянул руку для приветствия. Она назвала тебя Кешей, ты ее - Лелей,и, дружески беседуя, вы быстрым шагом стали удаляться.
Я, как загипнотизированная, пошла следом. Оказалось, живете недалеко от парка - в институтском общежитии.
После вечерами наведывалась сюда в течение лета и осени. Но Бог не сводил нас. Только по ночам во снах ты приходил ко мне. И в этих снах все больше и больше свыкалась с твоим, как тогда представлялось, «весенним образом».
Забыть его не удалось ни через год, ни через два. Потому что в личной жизни преобладала неопределенность. Парни избегали моего общества, девушки тоже. Я, наконец, в 23 года поняла, что очень некрасива: длинные ноги, узкий таз, непропорционально высокие груди, а на вытянутой шее маленькая, почти «лебединая» головка со вздернутым, как у той же птицы, носом... Рецепты превращения «лягушки в царевну» искала, но никак найти не могла: ни у косметологов, ни у экстрасенсов, ни в хитромудрых брошюрах.
Не знаю, что было бы дальше... Но в один зимний вечер увидела тебя с Лелей на остановке «Институтская». Подходит трамвай, помогаешь подруге взобраться на ступеньки, она уезжает, а ты, какой-то растерянный и вроде униженный, остаешься.
Что сделать? Подойти, заговорить?
Не успеваю что-либо предпринять - ты уже устремляешься к встречному трамваю, быстро садишься. Бегу следом и в последнюю секунду все-таки изловчаюсь и запрыгиваю в «твой» вагон.
Кроме нас, пассажиров нет. Ты проскакиваешь в тамбур, следишь за хвостом трамвая, уносящего Лелю... Трогаю тебя за плечо:
- Не найдется закурить?
- Извините, некурящий.
- Я - тоже. Но очень волнуюсь. Хочу познакомиться с Вами, а не знаю, как...
- А зачем?
- Не поверите - но уже два года все время думаю о Вас.
- Ну и думайте себе на здоровье.
- Так это ведь связано с любовью...
- С любовью? Разве это возможно, если впервые вижу Вас?
- В позапрошлом мае Вы готовились в парке к экзаменам - и там...
- Не помню... Хотя могу допустить... Но чем можете дока-зать, что до сих пор, то есть и в настоящую минуту продолжаете испытывать ко мне приятные чувства?
- Готова хоть сейчас пойти с Вами, куда скажете, выполнить все Ваши желания - и ничего взамен не потребовать...
И ныне кружится голова, когда вспоминаю те мгновения. Ты не отшил меня, не нагрубил. Твоя мягкая податливая натура позволила мне завладеть инициативой. Я интуитивно уловила, что Леля не все тебе позволяет. А мужик ты уже созревший. Потому надо быть более напористой и более покладистой, а главное - не ставить никаких условий. Чтобы все походило на романтиче-ское приключение.
Ты привел меня в тесную клетушку полуподвала, которую снимал после окончания института. Когда зажегся свет, по лицу заметила, что колеблешься, не испытываешь того чувства, которое наполнило энергией мое тело. Потом уловила, как сошлись на переносице густые брови, как весь съежился. Но я не дала востор-жествовать твоей нерешительности, опередила ее. В мгновение ока «вырубила» свет и потянулась руками к твоим брюкам, сорвала ремень...
Прости, что взяла тебя почти силком. Спасибо, что сдался, покорился. От близости с тобой я испытала не только наслаждение - моя душа как бы раскрепостилась, оставила позади сковывавшее ее уныние, вошла в полосу трепетного умиротворения. В свою очередь, моя девственность помогла тебе ощутить себя мужчиной. В постели мы очень подошли друг другу. Когда мои руки-лебеди плыли по твоему телу, ты вновь и вновь возбуждался, требовал самых невероятных ласк, доводил и меня и себя, если можно так сказать, до белого каления.
А чуть забрезжил рассвет, я потихоньку выскользнула из по-лу¬подвала. Воспользовалась тем, что ты крепко уснул, - и исчезла. Боялась: проснешься, увидишь мое «птичье» лицо - и прогонишь, как последнюю шлюху.
Через неделю подстерегла тебя у каморки. Ты, видимо, сви-данничал с Лелей, вернулся поздно - а тут я, принесла кастрюлю борща, пироги.
Ни о чем не спрашивая, вслед за тобой прошла в клетушку. Не включая лампочки, постелила постель, разделась и нырнула под белую простыню. На сей раз побуждать к интиму тебя не пришлось. Ты без промедления прыгнул ко мне в кровать... Эта ночь была еще более бурной.
Так в течение пяти месяцев я раз в неделю «сексовала» в тво-ем полуподвале. Приходить чаще не решалась - чтобы не пресы-тился. В постели выполняла все твои причуды и фантазии. И чем больше их было, тем сильнее радовалась. Ибо приятное для тебя было вдвойне приятным для меня.
Разговоров у нас почти никаких не было. Хотя ждала твоих обнадеживающих слов. А коль ты их не произносил, то делала вывод: любишь ту, другую. А то, что я знала о Леле, а она о моем существовании даже не догадывалась, никакого преимущества мне не давало. Ибо в конечном счете не ее, а меня ожидала разлука.
Вру. Не все обстояло так печально. У меня все-таки был день восторга. Полного. Безраздельного. Это когда узнала, что понесла от тебя.
Помнишь, что в связи с этим сказала?
- Спасибо, что дал утешение, что не отказался от моего тела. Душой, знаю, не принял. Там крепко засела Леля. Да иначе и быть не могло. Разве пара я тебе, высокому, стройному, с такими солнечными глазами?.. Но подари мне право родить на свет твою кровинку. Я окончила техникум, зарабатываю прилично. Еще имею специальности швеи и крановщицы. Ребенка смогу вырастить. От помощи с твоей стороны заранее отказываюсь. Тебе ни к чему этот ребенок, а для меня - это часть тебя. Всю ответственность за его судьбу беру на себя. Ты фактически и юридически не можешь иметь каких-либо обязательств. Зато предъявить права разрешаю в любой момент.
Как я тебя благодарила, как ласкала, как целовала за то, что не перечил моему желанию. Еще на протяжении нескольких месяцев мы продолжали наши отношения. Расстались, когда ты женился на Леле.
Ваша свадьба состоялась сразу же после того, как вы, аспиранты, оба защитили кандидатские диссертации. Молодой семье выделили отдельную комнату в институтском общежитии. Полуподвал остался пустым. Какое-то время я еще появлялась возле него, надеясь на встречу с тобой, но мои иллюзии остались иллюзиями. А реальность вскоре привела меня в роддом. На свет появился Иванко, весом 3 килограмма 150 граммов, ростом 51 сантиметр. В его облике я сразу же уловила твои черты. Нахлынули воспоминания, которые, казалось, имели запах мяты: они успокаивали, вливали в душу предчувствие новых приятных впечатлений.
И они действительно пришли в день выписки из роддома. Вместе с моей мамой (она все знала о наших отношениях и разделяла мои взгляды на них) за ребенком, чего я никак не ожидала, явился и ты. Мы поехали в ЗАГС, где зарегистрировали его как твоего сына. Иванко (имя твоего деда) получил отчество Иннокентьевич и мою фамилию - Озарин. Это означало, что ты не отказываешься от отцовства, но с обоюдного согласия я остаюсь матерью-одиночкой и беру на себя все обязанности по содержанию и воспитанию ребенка. На последнем условии настояла я. Убедила тебя также в том, что мне надо поменять место жительства, чтобы в минуты супружеских огорчений, а они неизбежно будут, твоя душа не раздваивалась. Так я позаботилась о крепости ваших с Лелей семейных уз. Для меня превыше всего было видеть тебя счастливым, свободным и с той шевелящейся в зрачках юморин-кой, которая, как игла, прокалывает пелену обыденности и входит в сердце щемящим чувством силы и красоты.
Я уехала в южный городок, поселилась у маминой тети, ко-торая имела небольшой частный дом. Тогда ей было под семьдесят (она уже умерла - царство ей небесное). Старушка встретила нас с Иванком как избавителей от тоски и одиночества. Я устроилась на местной фабрике швеей, сына определила в ясли. Перед тем, как покормить малыша грудью, всякий раз подносила его к твоей фотографии, что висела над колыбелью, и говорила: «Это твой папа. Он любит тебя».
Мои слова подтвердились. 3 июля - в день рождения Иванка - ты приехал к нам и привез массу подарков. Он поначалу побаивался тебя. Но я взяла то фото и, удерживая его на уровне твоего лица, сказала: «Папа! Папа!». Ребенок улыбнулся и стал поглядывать на тебя. Ты взял его на руки, нежно подбросил вверх. Постепенно вы привыкли друг к другу. К вечеру уже вдвоем кувыркались, веселились.
Спать тебе постелила в отдельной комнате. А когда ты лег, пришла что-то спросить. Но только увидела глаза с поволокой, мускулистые плечи - меня пронзила прежняя страсть. Я буквально сорвала с себя одежду - и горячей грудью упала на твою обнажен-ную грудь. Мои губы, как присоски, прошлись по твоим плечам и шее, приводя твое тело в сексуальное, как ты потом выразился, бешенство. Ты обхватил меня руками и ногами, дрожал и плакал. Как и 15 месяцев назад, мы снова погрузились в сон инстинктов.
Утром ты объявил, что, если не возражаю, останешься у меня до конца отпуска - на целый месяц. Леля не захотела отдыхать на море, предпочла какой-то симпозиум в Австрии - поэтому у тебя есть «окно».
Сердце трепетало от радости, что это «окошко» даришь мне. Еще ты вывалил на стол кучу денег. Не сказал, но душой ощутила, что собирал весь год втайне от жены, чтобы передать на нужды Иванка. О сыне ты помнил, и теперь, видя, какой он шустрый и лицом копия отец, проникся к ребенку новым чувством. Оно освещало изнутри твои глаза, когда целовал дитя.
Раем мне показался тот летний месяц. Я тоже взяла отпуск. Днями мы втроем купались в заливе, слушали привезенные тобой в кассетах: «Альтовый концерт», «Сонату для скрипки и фортепиано» (не помню автора), песни Боба Дилана, среди которых мне особенно нравились «Господин с бубном», «Избавление», «Нужно служить кому-то». Ночами я воспринимала тебя как цветок: вдыхала твой запах, лелеяла, пьянела от прикосновений. Порой казалось, уплываю с тобой к такой невообразимой высоте, откуда нет пути назад... Ты становился для меня и всем сущим, и всем «небесным», и всем греховным.
А уехал - прекратились месячные. Опять обрюхатела. Упала на колени перед изображением Марии Магдалины - но будто не она, а ты мне шепнул: «Не убивай сладкий плод...». Долго терзалась мыслями, потом написала письмо «до востребования», попросила у тебя совета. Ты отмолчался, и я родила Оксану.
Ты и этому ребенку дал свое отчество. Забирая меня из нашего районного роддома, не упрекал, не высказывал обид и претензий. Только сказал, что вся ответственность за детей лежит на мне.
Может, не стоило осложнять свою жизнь рождением второго ребенка? Но и Иванка, и Оксану я воспринимала как небесных ангелов. Да и тебе, любимый, дети были в радость. Регулярно посылал им деньги. Я возражала, но ты убедил меня, что они не во вред, а главное - от всей души. На дни рождения малышей обязательно приезжал, обнимал их, с удовольствием слушал, как поют и читают стихи. И сын, и дочь гордились тобой, называли «самым умным», «самым добрым». Твое отсутствие в семье я объясняла характером работы: приписывала тебе специальность экспедитора по перевозке важных грузов на железной дороге. Дети часто тайком пробирались к твоей фотографии, что висит в горенке, касались лицом твоего лица и что-то напевали. Эти их «ангельские молитвы» доводили меня до слез умиления.
А вот теперь я плачу по-настоящему. Изгореванная душа идет на разлом. В те давние мои 23 года (ныне имею 34) я пере-оценила свою устойчивость. Может оттого, что тогда и намека не было, что страну охватит кризис. Откуда мне было знать, что остановится наша фабрика, что в другом месте, куда устроилась крановщицей, зарплату тоже станут задерживать?.. Правда, не это главное. Все нутро горит, тоскуя по тебе - вот главное. Просчи-талась я и умом и сердцем. Полагала, смогу прожить без тебя, найду успокоение в детях, в служении им. Но вышло иначе. Го-ды усилили тягу к тебе. Эта любовь, поверь, эта безумная страстная любовь разгорается во мне, клокочет. Как наваждение. Как обре-чение. Не могу ее сбросить, не могу от нее уйти. А ты уже более года не приезжаешь - с того времени, как Леля в свои 33 родила тебе дочь. Ты продолжаешь высылать деньги, но они не могут заменить мне твоих глаз, твоей улыбки. По ночам со мной творится что-то неладное. Вынимаю из шкафа твои вещи, прижимаю к груди, вдыхаю их запах - и как бы тело твое ощущаю, твои при-косновения чувствую. А как-то вечером вышла на улицу - и по-брела к заливу, нашла на дамбе тот камень, на котором с тобой загорали, легла на него и проспала до самого рассвета. В нашем саду ты любил взбираться на черешню, бросал оттуда детям ягоды. Я на это дерево вчера вскарабкалась. Осенью плодов и даже листьев на ветках нет, а я к стволу припадаю - в том месте, что ты однажды в шутку обнимал...
Дети чувствуют мое смятение. Только на порог - Иванко бе-рет за руку, тянет к письменному столу, на котором лежит раскры-тый дневник. «Смотри, - говорит, - сегодня опять получил пятер-ку...». А Оксанка, ей еще семи годков не исполнилось, к моему возвращению с работы во всех комнатах уберет, полы помоет... Обнимаю крошек, целую - а по щеке слеза катится, они след ее слизывают, а потом и сами начинают реветь. Приезжай, спаси меня. Иначе погибну. Только не думай, что упрекаю. Я сама себя загнала в тупик. Ты же, как и прежде, останешься светлым пят-нышком над моей бездной. Приму смерть с твоим именем на устах. В эту последнюю минуту твой образ будет светить мне до-рогу, согревать душу, вместо священника отпускать грехи. Я не похожа на падающий камень - как в песне Дилана. Я крошечная искорка, которая питается твоими лучами...».
Адвокат:
- Мой подзащитный возражает против приобщения этого письма к судебному протоколу. Оно сугубо личное и не имеет отношения к разбирательству.
Прокурор:
- Еще и как имеет! Гражданин Преловский явился в милицию с повин¬ной и заявил, что это он умертвил Озарину... А так ли это?
Преловский:
- Так. Я приехал ночью. Ключом, который всегда имел, открыл входную дверь. В спальне увидел спящую Адель. Она была одна, детей, видимо, отправила к маме. Воспользовавшись ситуацией, я бесшумно пробрался на кухню, открыл краники газовой плиты...
Прокурор:
- Мне, представителю обвинения, впервые приходится сталкиваться со случаем, когда подсудимый оговаривает самого себя... Ответьте, гражданин Преловский, что вы делали после того, как включили газ?
- Вышел на улицу. Около часа бродил по берегу залива. Затем вернулся в дом.
- И что?
- Убедился, что Озарина мертва.
- Во-первых, мы провели экспертизу и установили, что в комнате, где находилась Озарина, удушение от газа наступает только через три часа. Во-вторых, на ручках краников - ни на одной - не обнаружены отпечатки ваших пальцев. Не маг же вы, чтобы, не прикасаясь, поворачивать вентили?..
Преловский:
- А на верхней задвижке отпечатков тоже нет?
- Там есть. Это значит, что, приехав, вы застали Адель Озарину мертвой. Услышав резкий запах газа, бросились на кухню и до отказа зажали верхнюю задвижку. А краники плиты не тронули. Они так и остались открытыми. И на них - отпечатки пальцев одной Озариной. Это свидетельствует: открывала их именно она - то есть сама себя сгубила.
Данные факты установлены дополнительным расследованием, экспертными оценками, а также вещественными доказательствами. Подтверждает это и письмо Озариной.
Преловский:
- Но если не было физических усилий, разве моя духовная вина может остаться безнаказанной?
Прокурор:
- Это в компетенцию правоохранительных органов не входит.
...Суд вынес по делу Преловского оправдательный вердикт. Инно¬кентий Иринилович протестовал, но с него сняли наручники. Так что Адель Алексеевна своей любовью и после смерти смогла уберечь его от возможных невзгод и страданий.
ЛИЦА РАЗВРАТА
ЛЯЛЯ-ЛЯЛЕЧКА
Я увидела ее в парке Пушкина на игровой площадке. Эта девочка лет пяти самостоятельно взбиралась на горку и так рисково съезжала вниз, что у меня дух захватывало. Я сидела на лавочке под каштаном – и неволь¬но любовалась выкрутасами этой искус-ницы. Потом она оседлала качели и раскачала их так, что взлетала к вершинам берез. В ту минуту мне и бросилось в глаза, что отчайдуха чем-то напоминает меня в детстве. Те же быстрые взмахи руками, те же резкие повороты шеи. Подойдя ближе, обна¬ружила, что и глаза у нее мои – серые и чуточку навыкате. И носик, как у меня, приплюснутый. Только уши несхожие: крупные, оттопы-ренные. Хоте¬лось заговорить с девочкой. Но откуда-то возникла молодая женщина, схватила ее в охапку и унесла из парка.
Это событие вскоре забылось. Но спустя недельку девочка почему-то явилась во сне. В том сне мы вдвоем с ней заблудились в пещере ледяной горы. Когда наконец-то выбрались на поверх-ность, девочка метнулась на лужайку, нарвала букетик синих фиа-лок и протянула мне. «Это за то, – говорит, – что ты, мамочка, вывела меня изо льда на солнце...»
Пробудилась я в горячем поту – и до утра не сомкнула глаз. Почувство¬вала себя паскудой, плакала, проклинала свое прошлое.
На то была причина. Вспоминала себя семнадцатилетней, вертлявой, как обезьяна. Тогда главным моим возлюбленным было зеркало. А сердце под полурасстёгнутой блузой билось для каждого встречного. Количество свиданий исчислялось количеством прихотей. Любила повторять: «Жернова мельницы изнашиваются от недостатка зерна, а я теряю красоту от недо-статка поклонников. Влюбляться надо шутя, на один день».
Однажды я приклеилась к женатику только потому, что его го-лова напоминала голое колено, а его губы уморительно обцеловы-вали мои туфельки. Когда с ним трахалась – душил хохот, еще чуть-чуть – и я бы лопнула от смеха, а осколки смеха ранили его бритую голову. Для меня любовь была вещь дешевая, и я рас-ходовала ее, не задумываясь. Повстречалась недель¬ку – и бросила.
Но от этого нелюбимого некрасавца я забеременела. В резуль-тате мной овладела та тягучая грусть, которая в таких случаях настигает всякую студентку (тогда я училась в техникуме), сжимая душу, как обручем. Что делать? Аборт? Останусь на всю жизнь бездетной. Довелось рожать. Я дала ребенку имя Ляля – и оставила кроху в роддоме.
И вот теперь, спустя пять лет, когда работаю, имею деньги, и моз¬ги повзрослели – снова увидела мою девочку. Точнее, в тот момент было только предположение. Но подспудно оно уже ударило по сердцу, заставило терзаться.
Выпадет свободный день – бегу в парк с надеждой хоть мельком взгля¬нуть на Лялечку. Но целое лето это не удавалось. Лишь в ноябре, ког¬да желтые листья зашуршали под ногами, я застала малышку на качелях. Ее опекала все та же женщина. На сей раз я выследила их, узнала мес¬то жительства. Стала наводить справки – и окончательно убедилась: этот ребенок рожден мной. Я узнала, что из роддома Лялю передали в Дом ре¬бенка. Затем в возрасте одного года ее удочерили бездетные супруги Олег и Ольга (фамилии называть воздержусь).
Дальше мои действия определяла интуиция. Имея броскую жен-скую фактуру, решила соблазнить Олега. Подстерегла, когда вече-ром зашел в кафе выпить пива, села за соседний столик со своим кавалером (в мой за¬мысел его не посвятила) и несколько раз обво-локла «объект» бархатным взглядом. Олег клюнул: пригласил меня на танец. Руки, чувствую, у мужи¬ка цепкие, азартные. Всплакнула – и прошу «украсть меня у жениха, с которым завтра вынуждена идти под венец». Олег заглатывает и эту на¬живку. Мы, улучив момент, когда мой кавалер на что-то отвлекся, исче¬заем из кафе. И в том же парке Пушкина в темном месте предаемся любви.
В последующие вечера углубляю наши отношения призна-нием в безум¬ной страсти. Затем снимаю квартиру, приглашаю Олега на чай – и он ос¬тается жить у меня.
Ольга никак не хочет потерять мужа, бегает за ним, унижается. Но я применяю весь арсенал любовных интриг. Не выпускаю Олега из слад¬кого сада похоти – и он оформляет развод. Он – мой, выполняет все мои капризы и, кстати, как тот обрюхативший меня чудак, обцеловывает мою обувь.
Я хозяйка положения. Но душа не на месте: какой будет встреча с Лялей?
И вот девочка на пороге. Олегу удалось взять ее у Ольги на два выходных дня. Конечно, на ребенка повлиял разлад между матерью и от¬цом. Малышка переступает порог подавленной, тихой, несмелой. Зато я стою посреди комнаты радостная, цветущая. В меня вселяется какой-то дьявольский восторг. Под наплывом чувств включаю музыку, танцую и пою. Олег с удивлением посматривает на меня. В такт мелодии обнимаю Лялю, нежно шепчу на ухо:
– К нам пришла, если говорить чуточку по-английски, гламурная де¬вочка! Какие у нее перламутровой белизны ручки! Какие лучистые, слов¬но фонарики, глаза! Ты у нас не просто гос-тья – ты к нам с какой-то звезды прилетела, как прилетают ино-планетяне. Специально для тебя я испекла медовые пряники. А это – смотри! – торт с названием «Ляля». Попробуй ломтик!
Усаживаю кроху за детский столик, который приобрела исключительно для нее. Открываю красочные коробки, где ждут ее рук самые изысканные сладости.
– Угощайся! – приглашаю. – Все эти лакомства твои...
К следующему гостеванию Ляли я связала ей белые рукавички, зеленые носочки, красную шапочку. В тот первый визит девочка достаточно освоилась в нашей обстановке. Поэтому в этот раз де-ловито примеряет вещи перед трюмо. Помогаю ей застегивать пуговицы на юбке, которую для нее сшила, на кофточке, куплен-ной в магазине.
Правда, за обедом дочка, надумав что-то спросить, неожиданно осе¬кается, краснеет. Заметив это, прихожу на помощь:
– Ты не знаешь, как меня называть?
– Да.
– Зови тетей Зиной.
– Нет, – возражает Олег. – Я и Зина любим тебя сильнее, чем мама Оля. Поэтому я для тебя отец, а Зина – твоя вторая мама.
– Ура! – повеселела Ляля. – Теперь у меня две мамы?
– Такого нет ни у кого из твоих подружек, – с серьезным лицом объ¬ясняет Олег. – Только у тебя две мамы. Радуйся и гордись.
Этот разговор между отцом и дочерью зазвенел в моем сердце, как колокол. Я моментально сообразила, что необходимо как можно быстрее отлучить Лялю от Ольги. Ведь она девочке чужая, а я – родная. Пусть отдаст ребенка нам. Бездетной легче найти нового мужа.
Однако после переговоров с Ольгой Олег сообщил, что та ни за что не желает расставаться с Лялей. Когда же узнала, что девочка назы¬вает меня мамой – едва в обморок не упала. Заявила: «Никому не отдам мою дочь! Отныне ноги ее у вас не будет!»
И действительно запретила Ляле приходить к нам на побывку. Ме¬ня это повергло в отчаяние. Видя, как я страдаю, Олег подал на бывшую супругу иск в суд. На заседание и меня пригласили. Судья (женщина) спрашивает:
– Олег Дмитриевич, Ваша бывшая жена Ольга Ивановна, с которой Вы удочерили Лялю, не позволяет Вам видеться с дочерью?
– Позволяет, но только в ее квартире и в ее присутствии.
– А почему, – судья поворачивает лицо к Ольге, – не разрешаете отцу на выходные брать девочку к себе домой?
– У него нет своего дома. Он квартирует у сожительницы. А та разв¬ращает ребенка подарками. Заставляет называть себя мамой.
Тут я не сдержалась, прокричала на весь зал, что Ляля является моей кровной дочерью, и моментально положила на стол судье доказатель¬ства – анализы ДНК. Я не сомневалась, что, открыв свою тайну, трону сердца участников заседания, – и все встанут на мою сторону. Но приз¬нание сработало против меня. На мою искренность они отреагировали как быки на красное. Со всех концов посыпались обвинения: «Не та мать, что родила, а та, что вырастила», «Ребенок не камень, который можно отшвыр¬нуть, а спустя пять лет положить в фундамент своего дома», «Кукушка!»
Суд вынес постановление, которым запретил мне общаться с Лялей. Но еще больнее ударил по мозгам Олег. Дома с фотографи-ями в руках сожитель продемонстрировал, что он и тот мой любов-ник с бритой голо¬вой – одно и то же лицо. Словом, Олег – кровный отец моей девочки. В тот краткий период, когда семнадца-тилетней встречалась с ним, он по уши втюрился в меня. Поэтому в последующее время шпионил, и когда про¬ведал, что родила дочь и та находится в Доме ребенка, взял Лялю в свою семью.
Открывая эти подробности, Олег надеялся, что оценю его поступок. Оценю то, что с первой минуты узнал меня, смело пошел на новое сближе¬ние, без колебаний развелся с женой.
Но меня его преданность не согрела. Я созналась, что даже в ми¬нуты зачатия Ляли его не любила (поэтому не запомнила, не узнала). Ныне без Ляли он мне тоже не нужен. Я феминистка: сегодня дарю ключи от сердца, а завтра – меняю замок. Ему ничего не оставалось, как вер¬нуться в семью.
Мне же осталось мое одиночество. На мужчин не могу смотреть. Та¬кое ощущение, что сама разрезала свою душу на дольки – и уже не в сос¬тоянии их соединить. От этого нутро болит невыносимо.
Да, я виновата, виновата перед всеми. Но как жить дальше? Как мне забыть Лялю-Лялечку? Как, если она снится каждую ночь? Как, если каждый день хочется видеть ее? Как, если приближаюсь к ее группе в детском садике и когда девочка намере-вается подойти – убегаю, боюсь встретиться глазами в глаза? Что ей скажу? Что, родив, предала, отдала родной теплый комочек в чужие холодные руки? А сама жирела, продолжа¬ла трахаться с кем попало?
Неужели я действительно монстр, бездумное животное, кото-рое не знает, ради чего живет на белом свете? При этой мысли возникает желание наказать себя смертью. Но нет! Я буду жить. Я докажу Ляле, я докажу всем, что ошибки молодости – это не клеймо. Их можно исправить. Только как? Как? Подскажите, добрые люди!
ЛИЦА ВДОХНОВЕНИЯ
МАЛИНОВЫЙ ШАРФ
Судья:
– Вы приехали из далекого Ставрополя ради того, чтобы лишить жизни любящего Вас мужчину?
Подсудимая Лариса Никитична Чебрецова (ее душат слезы):
– Мне трудно говорить. Я обо всем написала. Вот…
Передает текст адвокату. Тот читает:
«Осенью 1959 года мы, студенты филфака Днепропетровского университета, работали в Никопольском районе на уборке кукурузы. Нашу группу расселили в селе Павлополье. Как-то все собрались у костра, огонь тихий, располагает к общению. Борис Христич расправил бумагу, читает стихи. Об огромных глазах, что очаровали его и поманили в свою глубину. Он достиг их дна, а там, как в сказке, начал видоизменяться. И в конце концов превратился …в осьминога. Юмор воспринят, хохочем.
А Боря тот лист складывает вчетверо и незаметно всовывает в карман моей фуфайки. Я ловлю его руку, и так со сцепленными руками выходим в поле. Там взбираемся на самую верхотуру скирды, ложимся на солому и рассматриваем небеса.
– Тайна звезд, – говорит, – сродни тайне человеческих чувств. Непостижимы и те, и другие.
– А я знаю, чего желаешь.
– Вряд ли.
– Моей любви.
– Нет, хочу, чтобы непрерывно побуждала к стихоплетству.
Потихоньку придвигаюсь и губами ловлю его губы. Он мягко обнимает. Более часа длится этот наш первый поцелуй. А после него Боря вдруг скатывается со скирды и… исчезает.
Ирония по отношению к себе, ко мне, да, можно сказать, и ко всему окружающему – питала душу Христича.
Но мне он нравился. Его неожиданные выходки, шутки и многообразные издевки веселили и взбадривали. От острых фраз я не тушевалась, на них всегда отвечала такими же хлесткими словечками. Он мог ночью в степи оставить меня одну, а утром к хате, где квартирую, положить охапку ярких луговых цветов. Не-предсказуемость у него сочеталась с ребяческой шалостью. В шутку подарил мне свой малиновый шарф, сказал, чтобы всю жизнь его хранила. А через пару дней, когда потеряла его, – ни капли не возмутился. Правда, в тот день был сверхсерьезным, говорил, что для любви, как и для поэзии, необходим талант. Вообще, глубина его суждений поражала взрослой выверенностью, трезвостью. Ря-дом с ним я ощущала себя маленькой, ничего не смыслящей пер-воклашкой. Но моим мнением о его стихах, где сатира переплета-лась с лирикой, Борис дорожил. И в моем присутствии как бы расцветал. Становился и самим собой, и даже чуточку ребенком. Я чувствовала, что необходима ему, как воздух.
Это ощущение не исчезло и в Днепропетровске. На лекциях он не садился рядом со мной, но передавал юморные записки, над которыми мы с моей подругой Азой обхохатывались. Как-то вечером бродили с ним вдвоем по берегу Днепра, он обнял и грубо завалил меня на траву. Я высвободилась и спросила:
– Предлагаешь стать женой?
– Если когда-нибудь и женюсь, то только на тебе, – сказал он. – А вообще-то для меня женатый мужчина – это полмужчины.
Фраза врезалась в память и стала своеобразным предостереже-нием, когда оставались наедине. Христич днями просиживал в библиотеках, запоем читал. Вечерами бродил в ближнем парке, нашептывал, сочиняя, стихи. На меня отвлекался ненадолго. Но верность соблюдал.
Вдруг узнаю: приказом ректора Мельникова Борис… отчислен из университета.
Стоим с Азой у доски объявлений, читаем эти самые строчки – и мое лицо заливают слезы.
На комиссии по распределению Христич заявил: никуда, кроме поселка Красногригорьевка Никопольского района, работать учителем не поедет.
– Почему? – спросили.
– У матери рак печени, жить осталось считанные месяцы. Я должен быть рядом.
– В таком случае, почему не взяли медицинскую справку, не оформили все документально?
– А вы что, бюрократы, что мне не верите?..
Слово «бюрократы» оказалось роковым. И в подтверждение, что он ему соответствует, профессор Мельников тут же вышел в приемную и продиктовал секретарше: «Христича Бориса Александ-ровича отчислить…»
Мы с Азой на этом приказе поставили «визу»: «Несправед-ливо!» Борю я уговаривала съездить за справкой, попросить группу об опеке. Но он наотрез отказался что-либо предпринимать, сказал: «Знания я получил, а диплом – это своего рода обуза…»
Не воспринял Борис моей тревоги и когда летом приехала к нему в Красногригорьевку. Устроился где-то электриком, присмат-ривал за больной мамой. А о том, что разваливается наша общая судьба, – у него никаких мыслей не было. О женитьбе даже не заикнулся.
Только после смерти матери, а она упокоилась через год, Хрис-тич приехал ко мне в Дубровку Васильковского района, где я в то время учительствовала. Привез «Киевский» торт, бутылку вина. Пьем, закусываем. Ожидаю – вот-вот предложение последует. Боря анекдотами сыплет, видать сам насочинял. А о том, что гнетет мне душу, – ни слова. Не улавливает, что хочу иметь семью, детей.
Что мне оставалось? Вышла замуж за другого. А из Красногри-горьевки продолжают приходить стихотворные послания. Скла-дываю их, окрапываю слезой. Дочь родилась. Потом сын. Супруг натолкнулся на тайник, где хранила переписку, предъявил ульти-матум: «Или я, или он!» Я сообщила об этом Борису, попросила навсегда оставить меня в покое. Вскоре моя семья переехала в Ставрополь. Приобрели дом. Я пошла работать воспитателем в детский сад.
Аза тем временем сообщала, что Христич живет один, что я по-прежнему в его сердце. Но переписку мы возобновили только через семь лет. А встретились через четырнадцать.
Тайно свиданничали вначале в Ставрополе. Потом я с детьми на десять дней вырвалась на Черное море. Вместе купались, заго-рали. Здесь же впервые вошли в интимную близость. Его ласки, поцелуи, не понимаю как, полностью воскресили во мне юность. Ему 38, мне 37. Но происходило то, что должно было быть много лет назад. Касались друг друга – и краснели. Соединив руки, ча-сами безмолвно глядели глаза в глаза. Порой он сажал меня к се-бе на колени и укачивал, как ребенка. А то возьмет ложку – и кормит, словно младенца. Что-то таинственное стало возникать между нами. А во время объятий слышали непроизнесенные вслух мысли друг друга. Он мысленно попросит: «Проведи рукой по моим волосам», – и я провожу. Я только подумаю: «Возьми меня на руки и понеси в постель», – он тут же берет и несет, да еще и озвучивает мои мысли.
В то лето я ощутила, что являюсь для него воскресшим ангелом, дарительницей счастья… А стихи! В ритме строф улавливала запах жасмина, трепет незабудок и нежность лилий – всех тех цветов, что дарил еще в студенческие годы, а теперь снова ими осыпал.
Двадцать лет Христич на период своего отпуска приезжал ко мне в Ставрополь. Магическое притяжение, которое возникло еще в университете, усиливалось, дополнялось каким-то внутрен-ним сиянием. То светились наши души. Их лучи не иссякали ни днем, ни ночью.
Все, что Борис узнавал о моей жизни, вкрапливал в стихи. Снимок, где мне пять лет, назвал своим талисманом. Сознался, что еще во время учебы в вузе, выдернул его из альбома и хранил как зеницу ока. Именно с момента, когда увидел фото, – и полюбил меня. Подтрунивание, что присутствовало при описании этого и других фактов, меня не обижало, напротив, разгоняло грусть. Как-то пожаловалась, что протекают калоши, в которых работаю на огороде. Через минуту Боря занял у меня червонец, купил эту обувь, преподнес в подарок – и тут же порадовал куплетом:
Для моей Лолоши
Я купил калоши…
За ее же гроши.
И ныне смех разбирает, как вспомню тот случай.
Под наплывом чувств я часто говорила Борису, что готова хоть сейчас бросить мужа. На эти мои слова он вроде не реагировал. Но в его дневнике, находясь в гостях в Красногригорьевке, прочитала: «У Лоры – дети, лишать их отца не имею права… Другое дело, если сама разорвет брачные цепи…»
Но без побуждений с его стороны я на такой шаг не решилась. Только, когда выдала дочь замуж и женила сына, – заявила мужу: «Еще раз придешь пьяным – в дом не пущу!» Он правильно сориентировался – и ушел к женщине, которая лакала с ним водку.
Спустя месяц даю Христичу телеграмму: «Свободная – приезжай!»
Однако к тому времени мы оказались в разных государствах. У него возникли проблемы с деньгами. В организации, где работал, в течение трех лет не выдавали зарплату. Борис получал аванс в размере не более 50 гривен. Узнав об этом, я выслала ему на дорогу небольшую сумму.
Встретились радостно. Двадцать дней он гостил у меня. Почи-нил крышу, перекопал огород, обрезал деревья. Вечерами хватался за книги, что-то писал. Но от дневной нагрузки его клонило ко сну. Я как-то заикнулась, чтобы как можно скорее навсегда переезжал ко мне. Он подошел ближе, поцеловал в губы и с саркастической улыбкой спросил:
– А кто мне в Ставрополе пенсию начислит, если у меня украинский стаж?
Решение вопроса отложили на год. В этом ноябре Христичу исполнилось 60 – вот я и примчала в Красногригорьевку. И опять свою линию гну. Он в растерянности.
– Мне начислили, – говорит, – очень мизерную пенсию. Ни в Украине, ни в России на такие деньги не проживешь. Садиться на шею тебе не хочу. Буду здесь пахать, пока сил хватит.
Но он лукавил. Истинная причина заключалась в нежелании жениться. Он не решался стряхнуть с себя холостяцкую перхоть. Так привык к уединению, что любой человек рядом – помеха. И еще кое о чем я узнала из тех же дневников. На сей раз три дня их искала. Зато после прочтения расшорились глаза. Все эти годы Борис, оказывается, имел, если можно так сказать, партнершу по имени Вера. Отдал ей предпочтение (выходит, были у него и другие женщины?) из-за того, что живет вблизи «моей» Дубровки, и тоже педагог. Она безропотная, ничего от него не требует. К ней раз в две недели ездит удовлетворять физиологическую потреб-ность, чтобы не перестать быть мужчиной. Этой даме не посвятил ни единого стиха. Все предназначено мне. Исписал более десяти толстых тетрадей. К изданию ничего не предлагал. «Все, что пишу сейчас я и пишут другие, – твердил, – повторение давно написан-ного, при этом не в лучшем варианте». То есть все сочинял только для нас двоих. А Вере отдавал предпочтение в другом. «Умерла ее старуха-мать, – фиксирует в дневнике, – и она стала, как цып-ленок, беспомощная, слабая… Брошу – погибнет…»
Как же это получается? Меня любит, а с ней спит? Душа со мной, а тело отдает ей? Неужели все сочинители выдумывают се-бе божество, чтобы им вдохновляться, посвящать ему свои творе-ния, умирать с его именем на устах, но если оно опустилось на землю, захотело непрерывно быть рядом – от него отрекаются?..»
Судья (обращается к адвокату):
– Прервите чтение. Вы, Лариса Никитична, уже, вижу, успокоились. Расскажите суду о последнем дне Христича.
– Мы приехали в Днепропетровск к сестре Бориса. Обошли все святые для нас со студенческих лет места: берег реки, парки… Перед тем, как расстаться, понежились в постели. Последние поце-луи прямо во внутрь ожогами входили… Потом откуда-то появился малиновый шарф. Оказалось, в Павлополье я его не посеяла. Бо-ря тогда припрятал его и сохранял… сорок лет… Христич обернул шарфом мою шею: «Это тебе повторный подарок». И опять припал губами, целует. А мне так горько стало. «Зачем, – плачу, – мне твой шарф, если прощаемся навсегда?» Он улыбается: «Чтобы помнила». Я эту малиновую ткань срываю с себя, обматываю во-круг его горла и с каким-то шипением бросаю: «Задавила бы тебя сейчас!» «А ты давай! – слышу в ответ. – Мне нет большего счас-тья, чем сконать от твоего гнева». Его слова восприняла как издевку. Хватаю концы шарфа и душу. «Смелей! Смелей!» – поощряет. Прилагаю все больше усилий, а его крик в ушах не исчезает: «Еще! Еще нажми!» Какое-то буйство охватило, сдавливаю, что есть мочи. А он вопит: «Тяни крепче! Тяни веселей!..»
Опомнилась, когда голова Бориса наклонилась набок, а лицо посинело. Мгновенно осознала: он не кричал, это мозг принимал сигналы от его мозга и превращал их в слова. Борис хотел умереть – и это произошло. Помимо моего желания я погубила любимого человека.
Судья:
– Но ведь перед этим в вашей душе кипела ненависть?
– Не к нему, а к его решению не вступать со мной в брак, не ехать в Ставрополь. Я не могу одна в доме: невроз, страх.
– После гибели Христича появилось удовлетворение, что отомстила?
– Напротив, сжало отчаяние. Негодовала на себя. Обнимала тело Бори, рыдала. Я бы и на себя наложила руки, но в этот момент в квартиру (дверь мы не заперли) вошла сестра Христича…
Суд приговорил Л. Чебрецову к трем годам лишения свободы условно. Она более года ходила в трауре. Продала полдома на улице Щаденко в Ставрополе и на эти деньги намеревалась издать стихи Христича. Будущую книгу озаглавила «Ло плюс Бо». Пре-дисловие, которое написала собственноручно, заключила словами: «Я грешна любовью»… Однако книга в свет не вышла. На ее издание средств Ларисы Никитичны оказалось недостаточно.
ЛИЦА НЕДОВЕРИЯ
КОЛЬЕ ДЛЯ ЖЕНЫ
“Рая, Рай – ты мой рай!” – без конца рифмовал Мстислав. Невысокий, щуплый, но очень подвижный и находчивый, он был душой компании, в которой девушка проводила вечера. Поэтому ей польстило, что именно её выбрал в жёны. Окончив техникум, вышла за него замуж, родила сына. И только когда после двух лет совместной жизни муж внезапно исчез, поняла, что судьба уготовила ей нелёгкие испытания. Правда, в письмах, что приходили со штемпелем Москвы, не было слов о разводе. Отъезд без предупреждения, без каких-либо согласований супруг объяснил бедой, в которую попал старый друг и которому понадобилась экстренная помощь. Дальше – больше. Попросил выслать денег. Раиса залезла в долги, наскребла сто долларов. Отослала, как он просил, на главпочтамт, до востребования. В ответ получила благодарность. Однако на вопрос:”Когда вернётся домой?” – не ответил. Продолжал жаловаться на непредвиденные обстоятельства, что настигли его, на какую-то женщину… А месяц спустя уведомил, что больше переписываться не к чему. Однако требовал сохранить супружескую верность и обязательно дождаться его возвращения. А он привезёт ей дорогое колье.
Не успела Раиса выплакаться над этим последним письмом, как пришёл хозяин квартиры за квартплатой. Нанимал жильё муж, он же за него и расплачивался. Теперь предстояло самой искать средства.
- За сколько месяцев мы задолжали? – спросила плечистого мужчину, что никак не решался зайти в прихожую.
- За полгода…
Заплакал ребёнок. Женщина побежала в комнаты. Возвра-тилась, прижимая к груди годовалого сына.
- Муж уехал на заработки в Москву, – соврала. – Вот-вот пришлёт перевод. А пока я и моё солнышко Роман, – показала лицом малыша,– не имеем денег даже на детское питание.
Неожиданно для женщины мужчина вынул из кармана стогривневую купюру и вложил в ладошки ребёнку, который тут же сжал её в кулачке.
- Я удачно продал две картины, - объяснил гость свою щедрость и торопливо удалился.
Снова он появился как раз в тот день, когда квартирантка израсходовала последнюю гривню из его неожиданного “ подарка”. Ничего не спрашивая, Василий (так его звали) опять дал сотенную. А узнав, что Раиса нигде не может найти работу по своей специальности медсестры, предложил заняться продажей его картин. Она к тому времени уже отнесла сына в детские ясли, имела свободное время. Поэтому, приняв предложение, пошла за Василием в его мастерскую.
Это было ветхое строение с очень убогой обстановкой. В зале, где работал художник, стоял всего один расшатанный стул и такой же допотопный мольберт. В комнате, что одновременно служила и кухней и спальней, находились электроплита, потрёпан-ная раскладушка да без одной ножки стол. Полотна в полутёмных помещениях выглядели блеклыми и малопривлекательными.
Василий без лишних слов взгромоздил на плечи подготовлен-ную связку картин и отнёс на местный “арбат”. Расставляла их уже сама Раиса. Одну, миниатюрную, сходу купила пожилая дама. Потом часа три никто ничего не спрашивал. А когда пришло вре-мя упаковывать холсты – нахлынул народ, удалось сбыть ещё три вещи. В те минуты ей и впало в око полотно, на котором изображена сирень. Цветы были как живые. И она решила украсть этот “ кусочек природы”. Все оставшиеся картины отнесла Василию, а эту оставила дома, соврав, что продала. Художник ничего не сказал. Да и с выручки взял только двадцать гривен, а остальные деньги велел использовать “для прокорма Ромы”.
Уворованную “Сирень” полюбил и сын. Мать приставила картину к стенке, и малыш часто подползал к ней, ощупывая цветы пальцами. Они прямо-таки завораживали его.
Соседка, столкнувшись на лестнице с Василием, сразу же поспе-шила к Раисе. “По секрету” сообщила, что жена художника работа-ла бухгалтером в солидной фирме, всем обеспечивала семью. Ва-силий же приревновал супругу к шефу, на этой почве стал пить. А тут 17-летняя дочь вздумала выйти замуж за его сына. Возник конфликт. Жена, оставив мужу квартиру, в качестве компенсации взяла двадцать его лучших картин – и с тем же своим боссом живёт теперь в соседней области. Имеют свой бизнес, роскошный дом. В нём поселились и их дети. А Василий за истёкшие четыре года скатился в самый низ. Всё, что ни нарисует, меняет на водку.
- Ваш муж, Мстислав, - заключила соседка, - принёс художнику бутыль самогона и по дешёвке взял у него в наём эту квартиру, а его пристроил в мастерскую. Там Василий и живёт, там и пьёт.
После беседы с соседкой у Раисы возникло чувство недоверия к художнику. Однако из-за безденежья продолжала продавать его картины. При этом наловчилась выторговывать немалые день-ги, часть из которых присваивала (погасила долги, кое-что отложи-ла на чёрный день). А Василию говорила, что идёт всё за бесценок, ибо полотна – обыкновенная халтура. Её слова он воспринимал болезненно. После таких “оценок” с каким-то неистовым упор-ством возобновлял работу. Нередко ночи напролёт простаивал за мольбертом. И что удивляло Раису? В мастерской не было запаха спиртного. По нескольку раз на день она прибегала сюда, чтобы поймать его “на горячем”. Но ничего такого не обнаружила. Как-то к еде, которую ежедневно приносила ему, прихватила чекушку водки. Но он отверг спиртное.
- Я своё уже выпил, - сказал, улыбаясь.
- И давно на “сухом законе”?
- С той минуты, как увидел женщину с ребёнком на руках и понял, что они нуждаются в поддержке…
Раиса поначалу не уловила, что речь идёт о ней с Ромой. Когда же, наконец, осмыслила сказанное, расстерялась… Уже ми-нуло около года, как они общаются. Но до сих пор он ни разу не выказал ей мужского внимания. Не попытался хотя бы чуть-чуть поухаживать. Да и ни одним словом не намекнул о её зависимости от него. Вёл себя так, вроде не его, а её талантом создавался их общий достаток.
Первого декабря, продав картины, Раиса по привычке загля-нула в мастерскую. Василий, укутавшись в одеяло, лежал на раскла-душке, его знобило. Термометр, что висел на стене, показывал плюс пять градусов. Женщине стало не по себе. Владелец кварти-ры, где они с детём живут в тепле и уюте и фактически за его счёт питаются, мёрзнет в неотапливаемом помещении. Мало того, от холода простудился… В тот же день она заставила художника перебраться к ней, отвела ему отдельную комнату.
- Тут и писать натюрморты удобнее, - молвила.
На правах”казначея”купила ему раскладной мольберт, новый этюдник с красками и несколько загрунтованных холстов. По-правив здоровье, Василий сразу же взялся за кисть. А когда немного освоился в “семейной” обстановке,изъявил желание нарисовать Раису. Усадил её в кресло, которое она приобрела для его комнаты. Подобрал фон. Но едва принялся делать набросок, как к маме на ко-лени залез Рома. Она хотела отнести сына к игрушкам, но художник рукой дал знак: пусть остаётся. Так вдвоём они и позировали длин-ными зимними вечерами – до тех минут, когда маленький “натур-щик” не засыпал, прислонив головку к мягкой маминой груди.
Около месяца продолжались приятные для обитателей квар-тиры сеансы “творчества”. В эти часы у женщины и мужчины появилась возможность в непринуждённой обстановке рассмат-ривать друг друга. И им не надоело постоянно глядеть глаза в глаза. Раиса изучила у Василия каждую складку на коже, каждый жест. Её встревожило, что облик художника как бы сжат клещами неодолимых внутренних мук. Как их уменьшить? Попыталась свои мысли и чувства направить к его мыслям и чувствам. Потом вообразила, что, взявшись за руки, идут горячей пустыней. Тела изнурила жажда, сердцами завладела безысходность. И вдруг – оазис, вода… Радость, заметила, охватила не только её, но и художника. Мгновенно поменялось выражение лица. Как-то по-детски засияли глаза. Порозовели щёки… Раиса торжествовала: её переживания передаются ему…
И вот кисть сделала последний мазок. В нижней части холста выведено название картины “Раиса и Рома”.
Они ничем не отметили это событие. Но женщину три ночи мучила бессонница – пока, наконец, она не решилась войти в комнату, в которой спал мужчина…
А утром их разбудил звонок. Женщина открыла дверь и увидела… мужа.
Он без приглашения переступил порог, разделся и сразу же прошёл в кухню. Там из дорожного саквояжа вынул водку, колбасу, сыр. Добавив продуктов из холодильника, накрыл стол. Позвал Раису и Василия.
Они оба от выпивки отказались. Тогда он в одиночку осушил один стакан, второй, третий…
- Рая, - сказал, - я прощаю твою измену. Только после страданий, в которые ввергла меня другая женщина, мне высветилась твоя доброта. Я не привёз колье, но зато вернулся в семью, где Роман?
Раиса отвечала на вопросы мужа, находясь под гнётом душев-ного потрясения. Она не заметила, как Василий выскользнул из кухни, оделся и ушёл. Спохватилась только после того, как Мсти-слав под воздейстием водки и усталости вдруг откинулся на спинку стула и… захрапел.
Она потёрла себе виски, хлюпнула в лицо воды. Но оцепене-ние не прошло. Слишком неожиданно и подло явился муж. Она должна догнать Василия, сказать, что любит его, что теперь он её супруг… Но перед ее мысленным взором, словно из тумана, всплы-ла украденная у художника картина с нарисованной сиренью. После его переезда к ней она спрятала “свой грех” за платьями в шкафу. Надо возвратить холст, извиниться...
Побежала в спальню. Вытащила из “схованки” и увидела… пришпиленную к полотну дарственную. Василий, оказывается, ещё в первые дни их знакомства, это видно по дате, переписал на её имя свою трёхкомнатную квартиру: “ Выходит, он знал, что я “заныкала” холст. Но вместо разоблачения – вознаградил. При этом оставил себя без жилья. Какая же это должна быть не от мира сего любовь, чтобы отдать последнее?.. У художника тонкая ранимая душа. Она, как сирень на картине, притягивает. Но разве я, поступавшая нечестно, смогу встать в ровень с этой красотой? Под силу ли мне сделать счастливым человека, если к нему тянется сердце, а рассудок перечит? Буду ли верной женой мужчине, который старше меня на 17 лет? Да и удастся ли ему заменить Роману родного отца?.. Неужели я та, что украла его любовь?..”
Раиса остановилась в раздумье…
P. S. Вот такая невыдуманная история. Ныне на каждую сотню благополучных семей приходится двести неблагополучных. Оставить жену на год, два, уехать в Россию, Чехию или Германию – это обычное явление. Хорошо ещё, если супруг возвращается с деньгами. Но чаще ведь с пустым карманом и пропитым лицом. Не удивительно, что такие отлучки нередко завершаются разводами. И страдают от этого, в первую очередь, дети.
«Днепр вечерний».
ЛИЦА ТЕРЗАНИЙ
АХ, ЛЕБЕДИ, ЛЕБЕДИ!..
“Как решётки сжимают!.. Как давит потолок!.. Неужели в тюремных застенках пройдут мои лучшие годы?..
А жена ведь верной была. И ныне от осужденного не отреклась. А я ревновал её ко всем друзьям, ко всем мужикам. Вот сосед и дал совет: измени – легче станет.
В том июне я поехал в командировку в один из районов. Мне, как инспектору по качеству сельхозпродукции, для поездок выделили газик. Сажусь в него, а на заднем сиденье уже сидит пассажирка – практикантка из столичного вуза. Ей всё равно куда ехать, поэтому подсадили ко мне. В течение дня мы исколе-сили до десятка хозяйств, а под вечер газик подкатил к ресторану.
После застолья мы с Любой, так звали девушку, направились в гостиницу. Тут я вспомнил совет соседа и пригласил напарницу прогуляться по незнакомому райцентру. Мы переоделись и медленным шагом пошли в сторону солнечного заката. Миновав пустырь, попали в яблоневый сад. Плоды ещё не созрели. Но привлекли глаз синие колокольчики. Раскладным ножом я принял-ся срезать их и передавать Любе. Под конец и себе набрал букет. А только выбрались из сада – навстречу свадебный кортеж. Не раздумывая я преподнёс свои цветы жениху и невесте. Нас приняли за родственников и добровольно-принудительно завели во двор, где за свадебным столом налили по штрафной.
В гостиницу мы возратились ближе к полуночи. Люба сказала, что в её комнате не во что поставить цветы. Зашли в мой ”люкс”. Набрали в вазу воды – и её букет засиял. И как бы по-новому осветилось девичье лицо, а в синих глазах будто зазвенели коло-кольчики. Я взял гостью на руки и понёс в спальню, где стояло две кровати.
Ночь не была бурной. Тело не хотело изменять, я заставил его.
Поэтому даже не подумал заговорить с Любой о последующих встречах.
Однако на третий день после возвращения в областной центр она сама позвонила мне.
Увиделись сразу после работы. Поужинали в кафе. Где уеди-ниться?.. Люба предложила поехать на кладбище. Прошли в глубину аллей. Три жёлтые розы, что накануне подарил ей, она положила к ближнему обелиску. Затем вынула из сумочки коврик и расстелила на мягкой траве… Объятия среди могил как бы обожгли, пробудив страсть, которую прежде не знал в себе. Она заставила забыть о грехе.
А чтобы удовлетворить возникшую тягу друг к другу, и я, и Люба спланировали каждый в своей организации череду команди-ровок. Первая совместная поездка была в самый отдалённый район. Там, в глухом селе, сняли времянку. Купались в пруду, ходили за грибами в ближний лес. Потом совершили “командировки” ещё в несколько глубинок. Я почувствовал, что всё больше привя-зываюсь к Любе. А как-то вечером, глядя в её лучистые глаза, высказал желание соединить наши судьбы. С тех пор она называла себя моей женой. Я написал письмо однокурснику по институту, который возглавляет солидное хозяйство в Крыму, напросился к нему агрономом. Он пообещал обеспечить нас работой и жильём.
Тем временем у моей подруги завершилась практика. Она отбыла домой в село Немировку соседней области. Мы стали встречаться там. Её мать, учительница, находилась на отдыхе в санатории. Так что для нас было приволье. Все выходные я проводил у Любы.
Но однажды, провожая меня к трассе, где мне предстояло сесть на проходящий автобус, Люба сказала:
- Больше не приезжай. Мне надо учиться, а тебе растить сына. Сколько ему лет?
- Шесть.
- А тебе?
- Тридцать.
- Мне 23. Я выросла без отца и, кстати, уже побывала замужем. Вот посвящённые тебе стихи, - она вложила мне в руку конверт.
- Прочитаешь – и всё поймёшь.
Остановился автобус. Я вскочил в распахнувшуюся дверь и отбыл.
Однако Любины стихи меня не успокоили. Наоборот, вызвали бурю. Вот она говорит, что зажечь огонь от огня – значит не от-нять, а прибавить к нему. И тут же эту мысль перечёркивает фразой: “ Когда огонь сливается с огнём – близка их гибель”. Ну где же логика?.. А прозаической припиской “ Я встретила парня без огня, в нём моё спасение”, – вообще добила меня.
Словом, мой “огонь” в следующую пятницу усадил меня в красный “Икарус”, и автобус, как обычно, с бешеной скоростью летел по трассе… Вечером я сошёл в Немировке и, осмотревшись, вздрогнул от неожиданности – из-за навеса вышла Люба. Необыкновенно степенная, и почему-то вся в чёрном.
- Я знала, что ты приедешь.
- Это по мне траур?..
Она молча обняла меня. В глазах блеснули слёзы:
- Тебе лучше уехать. Через час, в 10 вечера, будет проходящий. Сядешь в него… А я побегу в клуб на репетицию…
Но автобус не остановился ни в 10, ни последний – в 11. А ме-ня трясёт, как в лихорадке. Рядом стог сена: можно зарыться и перекантоваться до утра… Но сердце, дикое сердце, как унять его?.. Срываюсь с места, чтоб застать Любу в клубе. Но встречные парни сообщают: репетиция завершилась. Что есть духу бегу к Любиной усадьбе, но света в окнах не видно, ещё не пришла. За-легаю на противоположной стороне улицы в посадке. Зорко слежу за калиткой. Вдруг доносятся голоса. К подворью приближаются трое. Люба и два солдата. В Немировку, я знал, пригласили воен-ных транспортировать зерно на элеватор. В минувшую субботу купался с ними на пруду. Выйти из укрытия? Поздороваться?.. Нет, лучше подождать, пока уйдут. Но вот один распрощался, а второго… Люба пропускает в калитку. Заходят за кусты сирени, опускаются на что-то. Ведут разговор, о чём – не разобрать. Затем надолго замолкают. Их не видно, поэтому воображение рисует всякие картинки. Сердце стучит, словно землю всю шатает. Проклятая ревность! Она скручивает в бараний рог, выжимает из меня гордого и достойного человека, являя низкого и пакостного. Я, будто уж, ползу к кустам, перелетаю через забор, готовый, как ястреб, наброситься… А они тихо сидят на завалинке, на значительном расстоянии друг от друга. Ошеломлённый, падаю перед Любой на колени, целую ноги, руки, лицо… Парень поднялся. Люба прижимается ко мне. Потом тоже подхватывается. Я прошу задержаться, но она, сверкнув глазами, исчезает в доме, резко закрывая дверь на засов.
Я иду вместе с солдатом. Узнаю, что они недавно познакоми-лись, но уже приняли решение стать мужем и женой.
Возвратясь, стучу в окно. Люба не откликается. Возле дома стою более часа, надеясь, что дверь откроется. Не дождался – а в теле снова дрожь.
Шалею от ревности, да так, что кидаюсь в бег. Бегу в степь, дорога пыльная, глаза слезятся. Но остановиться не могу. Лишь обессилев, перехожу на шаг и, отыскав стог, зарываюсь в солому, засыпаю.
Утром пробуждает шум мотора. Невдалеке пыхтит грузовик. Останавливаю его. “Отсюда до Немировки,- говорит шофёр, - около 20 километров”. Он как раз туда держит путь – и подвозит меня прямо к Любиному подворью.
Она встретила ласково. Налила тарелку борща. Потом сказала, что ей срочно надо ехать в соседнее село к тёте… Мы поспешили к автобусу. Ехали молча. Но Люба не отводила глаз, всё вы-сматривала что-то во мне. Была необыкновенно кроткой.
В селе мы пошли широкой левадой. Запах цветов и трав пробудил прежнюю нежность чувств. Я взял Любу за руку, подвёл к копне сена. Она без слов сбросила с себя одежду. Лебеди, что стояли в воде, приподняли головы. Застрекотали сороки. Весь живой мир увидел, какая она жутко красивая и жутко грешная. Я ненадолго почувствовал себя властелином этого земного царства. Любины поцелуи, как вспышки счастья... Но чем слаще были ласки, тем сильней росла жажда по ним.
А солнце выкатилось к зениту.
- Это наш прощальный пир, - говорит Люба. – После него мы расстаёмся навсегда!
Она быстро одевается, берёт сумку… А моя рука вдруг сламывает несколько прутиков лозы.
- На! – протягиваю розги. - Ударь, чтобы помнил!
Люба качает головой: мол, не могу.
Тогда я с жестокостью, не ведаю откуда возникшей, с размаха опоясываю хрупкое женское тело. Стегаю со звериным остервене-нием. Прекращаю избивать, лишь когда на оголённых руках и ногах вспыхивают кровавые пауки и змеи. Как подкошенная, Люба падает наземь. Но не плачет - в глазах опьяняющий душу восторг.
Не оглядываясь, убегаю.
Но нет мне покоя. Опять мечусь по степи. Бегу по извилистой дороге, не зная куда. Натыкаюсь на пустынный водоём. Раздеваюсь. Плаваю. Прохладная вода немного ублажает воспалённые чувства. Но мысли всё равно вертятся вокруг Любы. Её образ, как какой-то необоримый огонь, охватывает сознание. Что со мной?.. Уже третий месяц не общаюсь с женой, подготовил бумаги к разводу… На работе в понедельник должен получить расчёт… Поверил во взаимную любовь, всё продумал для нашей с Любой совместной жизни… А выходит, она собралась замуж за другого. Мне остаётся не любовь, а мираж. Она то возникает из ничего, то уплывает неизвестно куда… Отчего же душа так болит? Зачем тянется к ней?.. Вот и сейчас, интуитивно ориентируясь по солнцу, иду обратно в Немировку, надеюсь на встречу.
Видна хата… Впервые замечаю, что в селе она самая крайняя. Люба, говорила, вернётся домой поздно вечером. Так что опередил её. Надо где-то скоротать время и хоть чем-то утолить голод. Иду к кукурузной плантации. Стебли выше головы. Вынув из кармана раскладной нож, срезаю молодые початки. Их легко грызть. Из зерен течёт молочко, сладкое, питательное.
“Я не могу без неё! Не могу!” Этот зов ведёт к знакомому дому. В окнах вспыхивает огонёк. Стучу. Свет гаснет. Подхожу к двери. Слышны шаги, это она приближается.
- Прости! Прости, если можешь, - прошу её. – Горячка у меня. Её сможет снять только твоё прикосновение…
Слёзы текут по щекам. Я рыдаю:
- Любимая, открой! Я умру без твоего поцелуя…
Скрипит засов. Люба в моих объятиях. Обцеловываю от волос до ступней, падаю к ногам. Приподнимаюсь, заглядываю в глаза.
- Уходи! Ты ещё успеешь к автобусу!..
А я с прежней силой стискиваю женское тело – и для меня весь мир исчезает. В этом отрешённом или, точнее, безумном состоянии, своим небольшим карманным ножом поражаю сонную артерию – через несколько минут Люба, истекая кровью, умирает у меня на руках.
… Увидев её мёртвой, я попытался наложить на себя руки. Только случайно остался жив. Но какие муки перетерпел! В каких безднах побывал! До сих пор существую – как в подземелье, как червь.”
Вот такую историю рассказал мне Ярослав Жерносек, который на 12 лет заключён в тюрьму. Воистину прав В. Шекспир: “ Чем сильнее страсть, тем печальней в ней конец”. Убийства из-за ревности ежегодно в Украине уносят жизни порядка 500 человек, а в мире – около 60 000. При этом женщин гибнет в два раза больше, чем мужчин.
ЛИЦА МЕЧТЫ
НУРИЯ И АЛЕКСАНДР
Вера в Бога и любовь - эти два понятия вроде бы навсег¬да слиты в монолит. А вот в судьбе Нурии и в судьбе Александра они как бы восстали друг против друга. Почему? Об этом и рассказывает Саша:
«С Нурией я познакомился летом во время сдачи экзаменов в вуз... Сижу у реки на валуне, штудирую химию. Вдруг на учебник падает несколько песчинок. Оглядываюсь - никого. Опять читаю. Но едва углубился в текст - на страницу сваливается махонький камушек. Обшариваю глазами все вокруг - и внизу за моим же валуном нахожу тихую, как мышка, девушку.
- Чего балуешься? - возмущаюсь.
- Хочу знать, твои волосы сделаны по такой же книге, как держишь в руках?
- Нет, они мои, природные.
- Но почему белые, как изнутри кокосовый орех? Можно потрогать?
Она опасливо дернула вихрастую прядь.
- Твои! - смеется. - А я была уверена, что это парик.
Девичьи руки тут же обхватывают мою голову, а губы в нежном порыве припадают к волосам.
- Это еще что? - удивляюсь.
- Во сне мне было сказано: если прикоснусь к тебе - твоя белизна хоть какой-то капелькой переметнется ко мне.
После этих слов шоколадный цвет кожи девушки показался мне настоящим шоколадом. Я за руку притянул ее к себе и хо¬тел об-нять. Но в эту секунду из-за соседнего валуна послышал¬ся голос:
- Нурия, ко мне!
Девушка мгновенно высвободила руку и побежала на зов. Ря¬дом с ней я увидел высокого, такого же круглолицего, как она, парня. Они быстро удалились.
Через пару дней смуглянка опять возникла из-за валуна. На этот раз я учил математику. Накануне по химии получил высший балл. Теперь и остальные экзамены надо сдать на «отлично». Конкурс-то большой. Поэтому я заявил девушке, что мне некогда играть в кошки-мышки. И тут она сообщила, что поступает в тот же, что и я, вуз. Несколько раз видела меня в кругу абитуриентов. Я ей очень понравился. И желает вместе заучи¬вать формулы.
Я согласился. Она задает вопросы - я отвечаю. И все так лег-ко в память ложится. Словно ум удваивается от искринок в девичь-их глазах. В школе надо мной подтрунивали из-за чрез¬мерной белизны лица и волос. А Нурия, наоборот, видит в этом преимуще-ство, она в упоении от моей белизны. А ее матовая кожа, в свою очередь, во мне пробуждает неповторимые эмоции. Хочется стать лучиком - и пробиваться сквозь густые ресницы в ее черные зрачки. Или превратиться в мотылька и, кружа над ее царственной головкой, манить к полету.
Чувствуя мое настроение, Нурия не замедлила шепотом сообщить, что за третьим от нас валуном, как и в прошлый раз, загорает ее брат Сягит. По приказу отца он сопровождает ее, оберегает от всяких соблазнов и неприятностей.
- Что, у тебя есть личный телохранитель?
- Это другое. У нас шиитская семья. Я не должна себе позво-лять, как у вас говорят, шуры-муры. Обязана воздержаться от общения с парнями, в особенности иной веры. Моим мужем может стать только мусульманин. То, что сижу рядом с тобой, - уже нарушение родительских наказов.
- А у меня все родственники евангельские христиане. Мне тоже велят жениться на девушке своей веры. Разве это плохо?
- Не знаю, - ответила Нурия. - Ну а что мне делать, если полюбила тебя?..
Больше мы не возвращались к этой теме. Но Нурия каждый день приходила к «моему» камню. Иногда появлялась здесь рань¬ше меня. Тогда взбиралась на валун и, стоя в полный рост, бросала кусочки хлебной корки чайкам, что пролетали над берегом.
- Почему человек - не вольная птица? - спрашивала меня.
- Потому что он - захватчик, тиран, - в шутку отвечал я.
Наконец сдан последний экзамен. Вижу себя в списках за¬численных в вуз. А фамилии Нурии там нет. Чтоб утешить ее, ищу по коридорам, пока не одолевает резкая боль в желудке. Бегу в общежитие, но не помогает ни содовый раствор, ни пи¬люли. «Скорая» доставляет в больницу. После промывок, уколов говорят, что эти колики на нервной почве.
Так вот переживал за Нурию. А спустя два дня она стоит перед окном моей палаты. Чуть позади переминается с ноги на ногу Сягит. Девушка через форточку передает продукты, овощи. Долго говорим. Ей тяжело: не прошла по конкурсу, а еще больнее то, что отец запрещает видеться со мной.
Однако на следующий день Нурия не только меня, всех в палате удивляет - приходит без Сягита.
- Брат, - объясняет, - родителям сказал, что у вас решетки на окнах, не сможешь целовать. Вот меня и отпустили одну.
На это сообщение в моей палате реагируют по-своему. Один больной велит мне надеть его теплый спортивный костюм. Другой с помощью отвертки удаляет решетку, распахивает окно.
– Раньше полуночи, – напутствуют всей палатой, – не возвращайся!
Я выпрыгиваю из окна - и мы как бы по зову нежной звезды направляемся к нашему валуну. Нагретый солнцем, он почти горя-чий. Взбираемся на него - и забываем, кто мы и для чего. Становимся чайками, волнами, песчинками. Сквозь чувства пробивается к серд-цу только одно слово «люблю»... После просим солнце назвать нас мужем и женой, клянемся быть верными друг другу до конца дней.
Но в последующие дни Нурия не появилась у моего окна... Когда выписался из больницы и отыскал ее дом - ко мне вышли четыре ее брата. Старший – Хаким – сказал:
– Ты обесчестил нашу сестру – и по законам нашего рода заслуживаешь смерти. Но мы оставим тебе жизнь с условием: забудь Нурию.
Ко мне применили силу, морально унизили, предметно показали, что в случае моего упрямства - пощады не будет.
Мне ничего не оставалось, как искать защиты дома. Но ро¬дители и три мои сестры вместо поддержки довершили унижение, заявив: «Не позволим жениться на девушке чужой веры!» Отец напомнил, что моего прадеда-евангелиста ложно обвинили в шпионаже и замучили в бериевских застенках. А это значит, что я принадлежу к той семье, которая обязана быть примером для местных евангелистов.
– Твое увлечение шииткой, - подытожил родитель, - это проис¬ки дьявола.
По приглашению мамы в наш дом зачастили девушки нашей общины. Стали приезжать «невесты» и из соседних сел и городов. Покоряясь воле родителей, я беседовал с ними. Но с кем ни заговорю, – между нами незримо встает образ Нурии. Я вспо¬минаю ее глаза, губы - и слезы заливают мое лицо.
Более пяти лет прошло в таких вот терзаниях. Получил дип¬лом, устроился на работу. Но пары найти не смог. Все ухищрения единоверцев сосватать мне невесту разбивались о тот «валун», где душа познала счастье.
Теперь я приходил на берег в одиночку. Как-то в августе снова заглянул сюда - и своим глазам не поверил: на траве ле¬жал белый платочек, совершенно новый платочек с вышитыми на нем моими инициалами.
В течение целого месяца, гримируясь то под одно лицо, то под другое, я утром и вечером появлялся у подворья родителей Нурии. Прежде по два раза в год приходил сюда, нажи¬мал кнопку звонка. Но всякий раз выходил Хаким и резко отвечал:
– Сестра вышла замуж! Здесь не живет!
Теперь зародилась надежда, что брат обманывал меня. Я рассчи-тывал на это, очень рассчитывал – и желаемое сбылось. В один из дней, приближаясь к подворью, заметил, как из калитки выскольз-нула знакомая девичья фигура и направилась к хлебному ларьку, что размещается на противоположной стороне улицы. Следом вы-шла присматривать за ней мать. Но я все же изловчился в сумку Нурии незаметно всунуть записку и раст¬вориться среди людей.
Ночью ожидал ее на ближнем перекрестке. Не верил, абсо¬лютно не верил в удачу. Однако Нурия в обусловленное запис¬кой время возникла из темноты и подошла ко мне. С узелком в руке, с паспортом.
Все эти годы ее держали, считай, взаперти. Не позволили учиться в вузе. Как ни рвалась – не разрешили устроиться на завод. Не разгибая спины, она с утра до вечера вкалывала на приусадебной плантации, кормила скот. И все это время побу-ждали, нередко с помощью кулаков, к бракосочетанию с муж¬чиной, старше ее на много лет. Но она устояла.
Мы сразу же уехали в другую область. Здесь и зарегист¬рировали брак. О нашем местонахождении не знают ни мои, ни ее родители. Сидим без гроша в кармане. Нет своего жилья. Не могу устроиться по специальности. Гнетет также потеря при¬вычного круга общения. Но у нас есть главное – любовь. Мы повсюду вместе. Порознь находимся только в те минуты, когда я читаю Библию, а Нурия – Коран... Недавно у нас родился сын. С пеленок приобщать его к той или иной религии не планируем. Пусть вырастает вольным как птица».
Комментарий православного священника:
– В нашей стране церковь отделена от государства, каждому гражданину гарантирована свобода совести и вероисповедания. Поэтому вмешательство родственников Нурии и Александра в их лич¬ные отношения противозаконно и, кстати, таких конфликтов в среде православных верующих фактически не возникает. Наше вероиспове¬дание обеспечивает человеку все необходимые в жизни права и свободы. Мы против всего, что разъединяет людей, в том числе против национальной, религиозной и классовой розни. Злагода и взаимопонимание - вот веками установившееся кредо православной церкви.
ЛИЦА РЕВНОСТИ
ЖЕСТОКИЙ РОМАНС
Судья:
- Вы, Анатолий Григорьевич Павленко, кто по профессии?
- Пианист.
- Где-то я читал, что увлеченные музыкой люди нравственно очень чистые и безгрешные. Да и у вас такие тонкие нежные пальцы. Не верю, что это они задушили парня, который намного сильнее вас.
- Сейчас мне тоже не верится. Но, к сожалению, это факт.
- Где же истоки вашего зверства?
- В любви.
- Евангелие утверждает, что любовь ведет человека только к добрым поступкам. Так что в вашей душе какая-то сумятица, петли там. Может сами укажете на главную петлю?
- А вот «она» сидит по правую сторону на скамье свидетелей.
- При чем тут ваша жена?
- А знаете, как мы познакомились с Ангелиной? В тот вечер я аккомпанировал своему другу Михаилу. Он пел песни и романсы. Ему аплодировали, дарили цветы. А я, как всегда, оставался не за-меченным для публики. Когда же во время пауз всматривался в зал, глаза всякий раз почему-то останавливались на милой парочке, что скромно сидела в первом ряду. Под конец концерта парень ис-чез, осталась одна девушка. В ее руках откуда-то возник букет хри-зантем. И вдруг вижу, она элегантно поднимается на сцену, при-ближается ко мне, вручает цветы. Затем проходит со мной за ку-лисы и там говорит: «Седьмой раз слушаю, как виртуозно играете. Разрешите поцеловать ваши руки». Она опускается на колени, но я, сам не свой от волнения, поднимаю ее, и губами впиваюсь в ее гу-бы. Это получилось вопреки всякой логике. Ведь от природы я не-решительный. Дожил до двадцати двух - и еще ни с кем не цело-вался. Видимо, поступок Ангелины (это, как вы догадались, была она) раскомплексовал меня, пробудил дремавший во мне мужской инстинкт. Я вновь и вновь прижимал ее, ощущая, что хочу больше-го. И вышло так, что, преодолев робость, сказал ей об этом. Она, не колеблясь, согласилась. Мы пошли к ней домой. Ангелина имела отдельную комнату. В ней мы и провели ночь. Сознаюсь, на рассвете у меня возникло чувство стыда. Ибо в интимных побужде-ниях выглядел «теленком». И получилось, что девушка, младше меня на три года, учила, что и как делать. Хотя превосходства не показывала, наоборот, тешилась моей «девственностью», радова-лась, что не имею опыта. А когда собрался уходить, позвала опять в кровать. И в этот последний раз я испытал такую гамму чувств, такое обжигающее наслаждение, что молвил со слезами на глазах: «Ты меня погубишь...» «Нет, - отвечала она, - спасу от одиночества. Я полюбила и не брошу тебя. Возьми меня в жены. Очень хочу быть твоей».
В тот же день мы подали заявление в ЗАГС, а через месяц втайне от моих и ее родителей зарегистрировали брак.
Спустя несколько дней возвращаюсь после вечернего выступления и вижу у нее в комнате парня, с которым она сидела в первом ряду на том памятном концерте. Что-то резануло по сердцу, но я не подал виду. А Ангелина как-то по-детски зарделась и сказала:
- Знакомься, это мой брат Альберт.
Мы пожали друг другу руки. Оказалось, что Альберт мой ровесник, успешно занимается предпринимательством и фактически содержит родителей, у которых мизерная зарплата, студентку Ангелину, а теперь, коль я к ней переселился, будет подсоблять и мне, бедному музыканту. Но почему-то симпатии к шурину я не почувствовал. Было в нем что-то квадратное и каменное, в отличие от сестры, наделенной, как я бы выразился, песенной легкостью и романсовой нежностью.
Эта ее подвижность и неудержимость все больше и больше захватывали, проникая в самые потаенные закоулки души, наполняя их трепетным ожиданием счастья. А вот ощущение счастья так и не прихо¬дило. Где-то задерживалось.
Потом это ожидание стало сопровождаться тревогой. Она возникала исподволь. Однажды за обедом я заметил, что Альберт как-то навязчиво опекает Ангелину. В другой день я поймал его продолжительный взгляд в ее сторону. В последующий раз обнару-жил, что в его присутствии родители тише воды, ниже травы. Со мной же они чувствуют себя свободно, хотя и не очень откровен-ны. А если завожу речь об Альберте, вообще замолкают.
Так в тихой настороженности пролетело несколько месяцев. А однажды просыпаюсь в полночь - жены рядом нет. Лежу с по-луот¬крытыми глазами, мысли как сквозь решето сеются. Но успока-иваю себя: мол, в туалет пошла. Хочу задремать - не получается. Иду на поиски. Блуждаю по залу, коридору, выхожу на улицу. Наконец, вижу Ангелину под яблоней: опершись на ствол, стоит, в чем мать родила.
- Почему ты здесь? - спрашиваю.
- Бессонница...
Заходим вместе в дом. В комнате Альберта свет. Намереваюсь к нему постучать, но жена перехватывает руку:
- Не смей! У него женщина!..
Еще через месяц застаю Ангелину и Альберта в саду на качелях. Разговор между ними острый, на повышенных тонах. А заметили меня - притихли. И такие ситуации участились. После подобных эпизодов жена становилась необыкновенно нежной в постели и одновременно занозистой в разговоре. Шептала слова признания, целовала, выспра¬шивала, нет ли у меня поклонниц. Просила забросить концертные выступления. И тут же доказывала, что мужчине музучилища мало. Надо «влезть» в консерваторию. Я отвечал, что нет таланта, а без него туда незачем и «рыпаться». Тогда она потребовала засесть за учебники, подготовиться и в следующем году поступать в ее вуз на экономический факультет:
- Альберт окончил его экстерном за три года, а ты разве хуже?
Сравнения меня с Альбертом мне не нравились.
Еще больше взвинтились нервы, когда после гастролей в соседнем городке возвращаюсь под вечер, а жены дома нет: пошла в кино... с Альбертом.
- А что тут такого? - оправдывалась потом Ангелина. - С братом я имею право ходить куда захочу!
Тогда я придумал уловку. Объявил, что еду с солистом в об-ластной центр на смотр. Фактически же остался в своем городе: репетировал с Михаилом. А чуть стемнело - подался домой. Обыч-но нажимаю на кнопку звонка четыре раза, это мой сигнал, на который выбегает Ангелина и отпирает калитку. А в этот вечер я не стал звонить, а попросту перелез через забор, бросил собаке заранее заготовленную котлету и потихоньку приблизился к окнам. В зале работал телевизор. В кресле сидел Альберт, а у него на ко-ленях - Ангелина. Я замер, наблюдая за ними. Но вскоре заметил, что в глубине комнаты на двух других креслах сидят их родители. Подумал: это хорошо. Отец и мать рядом - значит, дети пристойно себя ведут. Но вдруг вижу: Альберт наклоняет голову к Ангелине и целует волосы. После сильнее притягивает к себе и припадает губами к ее губам. Она не отстраняется, наоборот, обвивает руками его шевелюру. И у меня перед глазами - картинки из эротического фильма. Не выдерживаю - и кулаком ударяю в раму. Потом бегу к входной двери, рву на себя. Засов крепок. А через мгновение Альберт распахивает дверь:
- Чего бесишься? Ты пьян?
Сгребает меня в охапку, тащит к топчану, что в глубине сада. Сопротивляюсь, но это не помогает. Он выше ростом, шире в плечах, да и руки натренированные - с детства занимается каратэ. Легким ударом бьет под дых - и ноги у меня подкашиваются. А когда я снова пытаюсь вырваться, прижимает к топчану и кричит:
- Ангелина дрожит за тобой, прощает все подозрения. Если ты ее не любишь - проваливай и больше здесь не появляйся!
- Не смогу без нее, - прохрипел я.
- Тогда не злись на мои к ней братские чувства.
- Но ты целовал ее в губы!
- Это родственный поцелуй. Мы выросли вместе, у нас есть потребность в общении и в дружеских ласках. Прими это как данность. Ты ведь спишь с ней - разве я этому перечу? Ты - муж, я - брат. Мы обязаны ладить друг с другом, иначе...
- Что иначе?! - вспылил я.
- Убью тебя!!!
В его облике было что-то тупое и свирепое. Он дышал тяжело. Я почувствовал, что Альберт готов тут же исполнить свою угрозу. Страх оковал сердце, по спине поползла дрожь.
- Ангелине ты и словом не обмолвишься об этом разговоре. Понял?!
- Буду молчать, - превозмогая боль в груди, сквозь зубы вы-давил я. После этой стычки мне уже не удавалось застигать Аль-берта и Ангелину за «родственными» нежностями. Они затаились. А вокруг меня вроде бы спрессовался воздух и давил на все участки тела, особенно на слуховые перепонки - в ушах появилась резь. Мозг работал как-то притупленно, глаза заплывали слезой. Бывало, я глох и слеп. Но угнетенность отступала, когда в комнате гас свет - и меня звала к себе Ангелина. Обычно она ложилась поперек кровати на бочок, шарила руками по моей груди, стиснутые губы прижимала к моим губам, напрягалась, как струна, потом постепенно расслаблялась, соединяя свое тело с моим. Буйная ра-дость входила в мою кровь, во все мое существо. Я вроде парил где-то в божественных пределах, падал и снова парил... И это наслаждение за ночь повторялось несколько раз.
Утром я бежал в музыкальную школу. Чтобы в деньгах быть меньше зависимым от Альберта, я, кроме аккомпаниаторской рабо-ты, добился еще и преподавательской. До прихода учеников, как правило, играл фрагменты из произведений Бетховена, Шнитке и Стинга. Музыка, как и поцелуи Ангелины, подбадривала, вытесня-ла уныние. Но вечером, когда возвращался в усадьбу жены, оно опять расплющивало меня, превращало в бессловесного молюска.
С Альбертом мы редко встречались глазами. Но я как бы ко-жей ощущал его присутствие: не только в доме, но и в нашей комнате, и в сердце моей жены. Когда я заговаривал, что вот, мол, подзаработаю «бабок» и снимем где-нибудь квартиру - она потемневшими глазами смотрела на меня, качала головой, потом добавляла:
- А разве здесь нам плохо? Мама варит вкусные борщи, за жилье платить не надо... Зачем от достатка прыгать в бедность?
Мне нечем было крыть - я помнил о данном Альберту слове. Да и ревность - не аргумент, хотя она порой, как хомут, стискивала душу, леденила кровь, разрушая психику. Дошло до того, что я уже не мог заставить себя сесть за общий стол, если за ним сидел Альберт - донимала аллергическая сыпь. Как-то, возвратясь с концерта (Ангелина перестала ходить на наши с Михаилом вы-ступления) я дотронулся рукой до калитки и отпрянул. Не могу зайти в дом. Такое возникло психозное состояние. Оно заставило меня сделать несколько «кругов» по окрестным улицам. Я начал подумывать даже о разводе. Но эта мысль мгновенно исчезла, когда вспомнил нежные поцелуи жены и слова: «Я не хотела так безумно тебя желать, но это желание помимо моей воли. Если бы даже грозили мне смертью, не отреклась бы от твоей любви».
Эти слова много раз произносила Ангелина. Их притягатель-ный смысл заставил возвратиться к калитке, открыть ее (она оказалась незапертой) и устремиться в комнату к любимой. Жена же будто знает о моих терзаниях. Уже лежит раздетой на кровати... Один поцелуй - и уходят сомнения. Опять упиваюсь восторгом обладания женским телом.
А утром - тупая головная боль, бессилие и... прежний приступ ревности.
Вера и неверие чередовались по несколько раз в сутки, истязая и выматывая душу. Я уже перестал надеяться, что когда-то придет конец моим страданиям. Это раздвоенное состояние и подтолкнуло меня к слежке. Я не желал приближать, но все же настал тот трагический исход.
В тот день я был свободен от занятий. Но вот дивно - просыпаюсь раньше Ангелины, сообщаю ей, что уроки перенесли, что я должен быть в музшколе с восьми утра до полудня. Прини-маю душ, в темпе завтракаю. Жена хочет вместе со мной выйти из дома, ей тоже нужно без опоздания быть на лекции. Но я убе-гаю первым. Потом в конце нашей улицы ныряю в парк, прячусь в кустах и оттуда наблюдаю за тротуаром, по которому Ангелина вот-вот должна пройти в институт. Но она все не появляется. Стрелки часов как бы застыли на месте. Каждая секунда для меня невыносима. Альберт - что невидимка. Ни вечером, ни утром перед глазами не возникал. Лишь по отрывкам родительского разговора я усек, что тот возвратился из недельной командировки и отсыпается в своей комнате... Желчь подозрений и заставила меня устроить «брату» и «сестре» вот эту проверку.
Им проверку - а себе пытку. Истек час, а Ангелина так и не возникла на тротуаре...
На следующий день я обнаружил, что мои волосы стали полно-стью седыми... Это в те жуткие минуты ожидания так мерзко броса-ло меня то в пот, то в холод. Это в те минуты началось мое спол-зание в пропасть. Если бы я был сильным мужиком, то плюнул бы на все, развернулся и навсегда ушел подальше от этого про-клятого дома. А я, романсовый хлюпик, побрел обратно. Освоен-ным прежний раз способом, сиганул через забор, садом пробрался к окну нашей комнаты, в которой оставил задвижку приподнятой, отворил его и влез внутрь. Постель застелена, на тумбочке - цветы. Неужели здесь были, и я опоздал? Прокрадываюсь через горенку к спальне Альберта. Дверь не поддается. Я выбираюсь на улицу, залезаю на грушу и заглядываю в окно... В спальне на ковре вижу сплетенные тела «брата» и «сестры»...
Разум мой помутился, не ведаю, как выбрался со двора, как оказался в парке, где взял веревку, как соорудил петлю в зарослях клена... От самоубийства меня спас колокольный звон. Звонарь ближнего Спасо-Преображенского собора так усердствовал, так протяжно и мелодично вылепливал звуки, что они через подсоз-нание проникли в мозг, про¬будили его. Я очнулся. И почему-то вспомнил паренька из рассказа Бунина «Митина любовь». Вспомнил его последние слова о том, что он готов «простить ей все, лишь бы она по-прежнему кинулась к нему, чтобы они вместе могли спасти свою любовь в том прекрасном весеннем мире, который еще так недавно был подобием рая...»
Размышления о судьбе Мити, который в муках безответной любви выстрелом в рот завершил свой земной путь, и звон церков-ного колокола в моей башке соединились, превращаясь в точечную боль. Во рту возникла сухость, стало трудно дышать.
И вот уже стою на коленях перед распятием Иисуса Христа. В храме никого нет. Обращаюсь к Господу с мольбой спасти меня и слышу слова его: «Кто любит неверных женщин, тот еще более грязен, чем они. Вырви занозу похоти, и сатана отступится от тебя. Пойди и покажи ей свое сердце. Но не бросай камень ненависти в лицо зла, оно погибнет только от милосердия».
Этот «Божий совет» и еще что-то не познанное в самом себе заста¬вило меня вернуться домой. Ангелина как ни в чем ни бывало встретила меня горячим поцелуем. Но я оторвал ее от себя, скрутил ей руки, усадил на кровать.
- Со скольких лет ты живешь с Альбертом?
Щеки Ангелины взялись кровяными пятнами. Краска залила даже подбородок и нос. Жена растерянно зыркала из-под длинных ресниц - и поняв, что ложь не пройдет, сдалась.
- С шестнадцати, - молвила и вдруг тихо и горько заплакала. - Моя мать вышла замуж за отчима, когда мне было десять лет, а его сыну Альберту - тринадцать. Родители все делали для того, чтобы мы нашли общий язык. Не будучи родными по крови, мы сближались своеобразно. Поначалу между нами установилась не-винная дружба. А когда в шестнадцать я стала встречаться с одно-классником, Альберт заявил, что никому меня не отдаст. Ночью он проник ко мне в спальню и, как я ни противилась, овладел мною. После этого я стала запирать на засов свою комнату. Но он умолял, просил, - и я открыла дверь... В день моего совершенно-летия Альберт подарил мне золотое кольцо и сказал, что отныне мы «тайные муж и жена». Однако вскоре у него появилась другая женщина. Я рыдала, грозила обо всем рассказать родителям. Но ничего не помогло. Тогда я объявила, что влюбилась в музыканта, то есть в тебя... Он обрадовался, посоветовал сразу же окрутить тебя и повести в ЗАГС. Кстати, тот букет хризантем, что вручила тебе после концерта, покупал Альберт. Но когда ты поселился у меня, и он ощутил, что у нас с тобой любовь настоящая, то вновь воспылал чувствами ко мне. Чтобы заглушить их, менял женщин, уезжал в командировки. Однако унять боль и влечение ко мне не смог. Однажды, когда тебя не было дома, затянул меня в свою комнату и, можно сказать, изнасиловал. Вот уже несколько месяцев я как бы обслуживаю его...
- Почему же мне не пожаловалась?
- Боялась, что не поверишь и бросишь.
- Мое чувство к тебе сильнее меня, и даже сильнее Бога. В церкви я поклялся, что отрекусь от тебя. Но не могу. Собирайся - уйдем вместе из этого дома.
- Это невозможно!
- Не понимаю...
- Тебя я люблю, но и он будто второе сердце внутри моего сердца. У меня страсть к тебе, а у него - ко мне, он не перенесет разлуки...
- Он тебе дороже?
- Нет!
- Представь: в твоих руках оружие, и одного из нас ты должна убить. Выбирай!
- В таком случае я убью себя.
- Тогда другой выбор. Нас обоих - меня и Альберта - ждет смерть. В твоей власти только установить очередность. Кого первым пустишь под пулю?
- Его...
- А меня оставишь на секунду пожить?
- Да! Да!
Ангелина подхватилась с кровати и, еще сильнее рыдая, повисла у меня на плечах. Я как бы ощутил, что и у нее, и у меня, и у Альберта на руках цепи, и мы все трое заточены в общую под высоким электронапряжением клетку. Как разрубить железные прутья? Как разорвать оковы?
Измученное сознание бросилось искать выход. Внутренний голос - голос Иисуса - требовал уйти, забыть этот кошмар. Но сатана, видать, сильнее. Он погнал меня в комнату Альберта. И что особенно пакостно? Понимая, что в открытой стычке мне не победить, я пошел на подлость. Мелкими шажками подкрался к спящему и мертвой хваткой, как бульдог, впился руками в его гортань. Альберт пытался сбросить меня, оторвать руки, но без доступа воздуха сил ему не хватило...
Судья:
- Следуя логике ваших объяснений, можно прийти к выводу, что если бы Ангелина отдала предпочтение не вам, а Альберту, то вы бы не стали покушаться на его жизнь.
- Пожалуй...
- Значит, жена побудила вас к преступлению?
- Нет. Ответами на мои вопросы Ангелина вернула мне надежду на то, что хотя ее чувства и раздваивались, но она не хочет меня потерять. Я воскрес, обрел высоту духа...
- И задушили человека?
- Любовь и зверство, как видите, совместимы...
- Не лукавьте. Главную роль сыграли ревность и стремление утвердить себя, как самца. То есть налицо самые низменные страсти.
...Суд приговорил А. Павленко к одиннадцати годам лишения свободы. Еще в следственном изоляторе Анатолий написал о своей судьбе романс, а вернее - жестокий романс, который специалисты относят к сочинениям самой высокой пробы. Так что старая истина «талант рождается в страданиях» и в данном случае нашла свое подтверждение.
ЛИЦА ВЕРНОСТИ
КАЛИНОВЫЙ ЦВЕТ
Мне сходу понравился этот парень. Крепкие ноги, высокий лоб, открытый взгляд. Но подруга бойчее меня. У неё глаза - как буравчики. Первой протянула руку, а затем с вкрадчивым апломбом:
- С какой целью хочешь познакомиться?
- Надоело жить холостяком.
- Разве подхожу в благоверные? - она несколько раз обкрутилась на каблуках, демонстрируя роскошные формы.
- Вполне! - сделал заключение Семен /так он назвался/.
Через недельку новый знакомый повел Клавдию в загс. Отту-да кортеж свадебных машин направился к усыпальнице казачьего атамана Сирко. Молодожены возложили к саркофагу букет роз. И вдруг откуда-то возникают хромые дедок и бабуля. Семён и я, старшая дружка, уступаем калекам место в «Жигулях», а сами взбираемся на платформу грузовика и с ветерком несемся в Никополь.
Жених придерживает меня за талию и для устойчивости при-жимает к борту. Я заглядываю ему в глаза - и какой-то порыв обуревает: не удерживаюсь - целую в щеку. И он неожиданно сгребает меня в охапку, приподнимает над кабиной и кричит: «Ко¬му красну девицу нецелованную? Тебе, ветер? Лови!» - и де-лает круговой размах. Я, взвизгнув, обхватываю руками мужскую шею - и на мгновение ощущаю себя птицей в полете. В этот мо-мент от подскока машины на ухабе парень теряет равновесие - и мы едва не вываливаемся из кузова. Однако в следующую секунду Семену удается поставить меня на ноги. И тут же он прикипает губами к моим губам. Потом смеётся: «Я опередил ветер - первым тебя поцеловал». А у меня слезы на глазах. Не пойму, от счастья или от обиды. Он по-своему воспринимает мою растерянность - извиняется, краснеет. А я стою, постепенно наполняясь ранее неведомым для тела прили¬вом чувственности. Хочется, чтобы целовал ещё и ещё. Такой перепад в настроении, будто не Клавдия, а я его невеста. Не она, а я расписалась с ним в загсе - и впереди нас ожидает брачная ночь.
И год минул, а каждая моя клеточка продолжала жить воспо-минаниями о том блаженстве. Пробуждаюсь ночью - и вроде Се-ня рядом, убаюкивает, как ребенка... Раньше эту ма¬ленькую комнату в семейном общежитии занимали вдвоем с Клавдией. Теперь она перебралась к мужу в его квартиру. А я осталась здесь, никто не мешает отдаваться мечтам.
Когда Клавдия ожидала первого ребенка и долго лежала в роддоме на сохранении, я предполагала, что в этот период Семена потянет ко мне. И, естественно, приказала себе: не смей красть чужого мужа! Но мой настрой на верность подруге оказался без надобности. Её муж забегал ко мне пере¬кусить, занять деньги. Обращался, как с близким другом, но не замечал, что я женщина. Сознаюсь: мне было больно от его холодности. Именно тогда осознала, что он может быть моим только в воображаемом мире.
Прошлым летом вместе с их семьёй (у Семена есть машина) вырвались на недельку к морю. Лежим на пляже. После купаний супруги в коляске укачивают крошку Петю. А я закрываю глаза - и сразу же отдаюсь сладости грез. В этих моих фантази¬ях мы с Семеном улетаем высоко в небеса. У нас нет кры¬льев, это мощный заряд мечты возносит к звездам. Здесь наши мысли и руки, работая день и ночь, создают Планету Счастья. А в минуты отдыха мы целуемся... Сейчас от поцелуя так объемно чувство радости, и так оно явственно, что какой-то частицей мозга начинаю воспринимать грезу как реальность. Но открываю глаза и вижу другое: Семен в объятиях Клавдии. Сын уснул - и они предаются ласкам. Мою душу не терзает ревность. Наоборот, их нежность усиливает грезу. Клавдия здесь с Семеном, а я с ним - на нашей Планете.
Мы с подругой работаем в прокатном цехе контролерами ОТК. После отдыха на море смотрю возле неё вертится молодой вальцовщик. Она не стесняясь идет с ним после смены в парк, а мне велит взять Петрика из яслей. Потом говорит, что с этим холостяком Дмитрием провела «разъяснительную работу», и он согласился на мне жениться. Выходит, подруга охарактеризо¬вала меня с наилучшей стороны: и верный человек, и работящая, и рукодельница. А то, что хрупкая и лицом неяркая, - при забот-ливом муже, мол, и жир нагуляет, и щёки разрумянятся.
Спустя пару дней вальцовщик подходит ко мне, предлагает вечером пойти на молодежную тусовку. Я не отказалась. Но ког¬да после танцев уединились и Дмитрий попытался поцеловать меня – я прикрыла губы ладонями. Душа не приняла его, он чужд ей. Да и как она могла изменить мечте?.. Ведь зву¬чащая рядом музыка увлекала к звездам. Там на Планете Счастья так хорошо вместе с Семеном!
Понимаю, нелепо сохранять верность чужому мужу. Но ничего не могу поделать с собой. Чтобы хоть мельком взглянуть на него, ежедневно иду к крестнику Пете с подарками, подчас покупая их на последние деньги. Встречи глаза в глаза избегаю, чтобы не вызвать у Семена догадку. Мне достаточно видеть руки, слышать голос, знать, что он рядом. А у себя в ком-нате «поселила» его образ. Для этого вышила на шелковом от¬резе расцветший подсолнечник, назвала «Сеней» и повесила над кроватью. А чтобы себе безотлучно присутствовать в их квартире, более пяти месяцев ткала ковер, на котором изобразила себя в виде калиновых цветков. Окрас у них бледноватый, в чем-то схожий с моим лицом. Клавдия с удовольствием приняла подарок, украсила им свободную стенку. Семен ковра не замечает, он вообще не придает значения вещам. Но я не огор¬чаюсь. Мне достаточно того, что глазами своих цветов каж¬дый день встречаю и провожаю милого.
Вот только обстоятельства не щадят мою мечту. Первый удар нанесла Клавдия. Оказалось, в течение года она уединялась с Дмитрием во время вторых и ночных смен. Когда же родила второго сына, предложила мне стать и этому младенцу крестной матерью. А в крестные отцы выбрала Митю. Почему? «Этот ребенок от него», - объяснила просто и доходчиво. Чтобы Семен ничего не заподозрил, Клавдия попросила меня временно подружиться с вальцовщиком – и вместе прийти на крестины. Я из-за своего податливого характера не отказала подруге. Но когда с Дмитрием переступили порог церкви, мной овладело отчаяние. Не могла произнести ни единого слова. Молчала и во время застолья. Митя взял на руки младенца, подбрасывал вверх и даже поцеловал в попку. А Клавдия, чтобы зашорить глаза Семену, притворно напутствовала гостя:
- Учись, Митрий, обращаться с детьми, может и Ева, если поженитесь, родит тебе такого же карапуза.
Это лицемерие, да ещё и с употреблением моего имени повер-гало в шок. Хотелось при всех закричать, что моя подруга «двое-жёнка». Что Семену следует развестись с ней. Но всякий раз, как намеревалась раскрыть рот, острый спазм в горле и кашель лишали речи. Из глаз брызгали слезы - и я убегала в соседнюю комнату, падала на диван и стонала.
Моих терзаний никто не заметил. Наливали в бокалы са¬могон и пили. Вскоре Семен и Дмитрий, обнявшись, запели «Рябинушку».
На следующий день в цехе я отозвала Клавдию в сторонку и бросила ей в лицо:
- Зачем развращаешь скромного Митю?
- Ты его унизила отказом выйти замуж. А я утешила. Ка¬кие пустяки - переспала несколько раз. Зато если у нас с Семеном что-то не заладится - у меня есть в запасе Дмитрий.
- У сына два отца, а у тебя - два мужа?
- А хотя бы и так. Я практичная женщина. А ты своими вы-шивками отгородилась от жизни.
Эта стычка с подругой долго держала душу в острых ши¬пах. Они сжимали её до головокружения. Спасалась работой. Если не могла спать - брала в руки спицы, вязала что-нибудь сезонное для крестников. А на рассвете тянуло к вышивкам-фанта¬зиям, переносила на полотно или шёлк те картины, что являлись в сновидениях. Отныне мои сны и мечты сливались воедино. Я понимала, что это признаки тоски и возникающей на её почве депрессии. Но остановить по¬ток видений не могла. Только когда они воплощались в ху¬дожественные образы - душа немного оттаивала. Хотя равновесие не возвращалось. Исчез аппетит, ослабли руки и ноги. Появились рези в животе. На очередном профосмотре у меня обнаружи¬ли язву двенадцатиперстной кишки. Хирург написал в карточке: «Необходима срочная операция».
В тот же день я попала в одноместную палату, которую воспри-няла как склеп. Не хотелось жить. Уже приготовилась к тра¬гическому исходу. Но вдруг накануне операции: стук в дверь - вы-зывает на выход посетитель. Пробираюсь к месту встреч с близкими и своим глазам не верю - Семен. Увлекает меня в прибольничный сквер. Садимся на лавочку. Объясняет, что Клавдия с детьми, ей некогда, выкладывает из сумки бутылку кефира, бу-лочку, творог в пакете. Потом привлекает к себе, слегка об¬нимает и говорит:
- Жене без тебя очень трудно управиться с сыновьями. Ты нужна нам, мы очень любим тебя. Соберись с силами - победи свой недуг.
Семен наклонился и губами коснулся моих губ. Помню, на машине телом ощутила поцелуй. А этот восприняла душой. Тот был сладким, а этот - горьким, но зато огорнул бережным дыханием заботы и сострадания.
Я не погибла на операционном столе. Из-за слабости сердца применили местный наркоз. Но скальпель вроде не тело резал, а рас-тачивал дорожки моей мечты. Исчез всякий страх, потому что ко мне возвратились иллюзии, в которых я была вместе с Семеном.
Однако спустя месяц после операции пожалела, что выжила. Ибо мне неожиданно открылась безмерно подлая сторона моего лю¬-бимого. Я, наконец, не удержалась и сделала попытку подсказать Семену, чтобы не очень доверял жене. На это он рассмеялся:
- Ты, Ева, сексотишь со значительным опозданием. Мне донес-ли о романе Клавдии с Дмитрием ещё год назад. Сразу же после рождения Владимира я сделал анализы и убедился: это - мой сын... У меня грехов больше, чем у жены. Сейчас беременна кондуктор ав-тобуса, на котором мы вместе работаем, к ней вот спешу. А пре-дыдущая кондукторша сделала от меня два аборта... Это ты одна у нас святая. Сегодня видел твою картину «Любовь небесная». Эта вышивка по-моему лучше всех на городской выставке.
После этого разговора я потеряла счет дням. Грязь и пош-лость, что царят вокруг, теперь, как вши, облепили мои тело и душу. Все прежние иллюзии покинули меня. В сердце болючая пустота... Вчера общество слепых попросило сделать вышивку: человеческий глаз на фоне лучей солнца. И я подумала: людям неведом свет, а они обожествляют его. Зачем?..
...Нет! Без мечты душе не жить! Это я уяснила, сделав на полотне, переданном слепыми, первый крестик. Видимо, на роду мне написано: любить одного и того же человека безответ¬но до конца дней своих.
ЛИЦА ЭКСТАЗА
ОСТРОВ СЕКАЧЕЙ
Судья:
- Вы убили ни в чем неповинного милицейского капитана. Что это - вольноблудие?
Подсудимый Иоанн Максимович Гордовер:
- Случайность. А вообще-то я защищал свою любовь...
- А к чему в ваших предварительных показаниях фигурирует какой-то остров?
- А вон он из окон суда виден, зеленеет посреди залива. Люди с давних времен забыли к нему дорогу из-за страха быть растерзанными секачами - так у нас кличут вепрей.
- А вы с этими дикими кабанами побратались, что ли?
- Не с ними... Нынешней весной наводнение истребило их. Об этом писали в газетах. Вот на летних каникулах я и поплыл туда. Более часа пробирался сквозь камыши. Там на солнечной поляне лег загорать, вздремнул малость. Вдруг то ли во сне, то ли наяву крадется ко мне живое существо: слышу треск веток под ногами, даже чье-то частое дыхание. От неожиданности вскакиваю. Но вокруг никого. Раздвигаю кусты, про¬бегаю к берегу, подбира-юсь к колючему терновнику. Следов нигде нет. Но мерещатся дальние прыжки вепря. Тогда обследую остров по пери¬метру и так увлекаюсь, что через пару часов с обратной стороны подхожу к исходному месту. А там зырк - на песке следы свиных копытцев. Не я вепря ищу, а он меня? Мистика какая-то?... Чтобы не угодить зверю на клыки - плюхаюсь в воду и смываюсь в свою Грушевку.
На следующий день причаливаю к острову на резиновой лодке. Ле¬том охота запрещена, но я прихватил ружье - для самообороны. Мало того, вокруг поляны, которую избрал для загара, расставил семь охот¬ничьих петель. Если эта тварь захочет полакомиться «моим мясом» - сама угодит на шашлык. Растянулся на цветущей ромашке, поджидаю вепря.
А сверху кто-то бац по башке желудем...
После осмотра разлогого дуба, что стоит рядом, в густой листве обнаруживаю белые волосы. Чуть шевельнулись - открылось миловидное лицо. А дальше?.. Не поверите. На переплетении веток, похожем на крес¬ло, вижу совершенно голую девушку... Чтобы не спугнуть ее, медленно встаю на ноги, иду к берегу, купаюсь. Затем, выскочив из воды, кричу:
- Я - кабан! Я - кабан! Хочу желудей! Хочу желудей!
Подбегаю к дубу, с ребячьей проворностью вскарабкиваюсь на де¬рево и в мгновение ока оказываюсь в двух локтях от этой «русалки». Она шарахается в сторону, ловко, как обезьяна, цепля-ется за концы веток, с их помощью опускается ниже и где-то с высоты трех метров прыгает. В ее движениях есть что-то маги-ческое, дерзко притягивающее. Тем же спо-собом достигаю земли и кидаюсь вдогонку. Девушка, как ветер, проле¬тает над петлями, а я в первую же попадаю ногой и с размаха грохаюсь на песок. «Дикарка» оглядывается и смеется:
- Не ставь капкан для друга - сам в него угодишь.
Она делает несколько шагов обратно, приседает на корточки. Облитая загаром ее смуглая, как у цыганок, кожа напоминает молочный шоко¬лад. Груди торчат, как два рога, готовые к бою. Прежде в такой близи не приходилось стыкаться с обнаженной девушкой. Нет, не желание одо¬лело, а какая-то нежная тяга прикоснуться, погладить. В ответ на мой ласковый взгляд незнакомка произносит:
- Я - Соломея, Соня. А тебя как звать?
- Иван, а по метрике Иоанн.
- Я тебя заметила вчера, когда на подступах к острову руками, как косой, направо и налево валил камыши. Я сидела на верхушке дуба и наблюдала.
- А чего не оденешь хотя бы купальник?
- Зачем? Мне некого смущаться. Я хозяйка этого острова.
- Может, царица всего Приднепровья?
- Думаешь, сбежала из дурдома? Нет, я из поселка Солошино, что на противоположном от Грушевки берегу. Работаю фельдшером. Сейчас в отпуске. Вот и потянуло в безлюдное место. Слушаю, как иволга поет в кустарнике. Наблюдаю за куликами, что в камышах целуются.
- Секачей не боишься?
- А где они?
- Вчера я на свежий след натолкнулся.
- Это я имитировала свиные копытца. Надеялась, испугаешься - и больше сюда не приплывешь.
- Какая тебе польза?
- Одной лучше.
- А мне и с тобой не скучно.
Я высвободил ногу из петли и, не поднимаясь, на четверень-ках при¬близился к Соне. Но она не позволила прикоснуться к себе. Вскочила и со словами «Попробуй, догони!» побежала вдоль берега. Я бросился сле¬дом. Девушка с прытью косули помчала по песчаной полосе, свернула за кленовой рощей в кустарник. Чувствуя силу в ногах (в университете за тысячеметровку мне всегда ставили отличную оценку), я прибавил скорости. Расстояние между нами неуклонно сокращалось. Еще рывок -и настигну. Но Соня вдруг резко присела, по инерции я перелетел через нее и распластался на траве. Девушка разразилась хохотом, подхватилась и побежала в обратном направлении. Пока я приходил в себя, она спря¬талась в терновнике. Пришлось наколоть руки о шипы. А когда между веток мелькнули ее серые глаза, Соня сделала акробатический прыжок в сторону - и снова бросилась наутек. Я вихрем помчался за ней. Сил не убавилось. Убегающая в моем теле пробудила исключительную прыть. Возле того самого (нашего) дуба я ее настиг и повалил на душистый ковер чебреца.
Соня не воспротивилась тисканью. Но на горячность не отве-тила горячностью. Прикрыв груди ладонями, лежала неподвижно. Ее «дух» витал где-то в поднебесье. Широко распахнутые зрачки тускло сияли, словно принимали из синей высоты энергетическую подпитку. Когда же глаза встретились с моими глазами - я ощутил что-то вроде толчка. Такую силу имел ее взгляд. Он мгновенно подчинил своей власти. Эта власть была нежной, желанной, и в то же время предельно необузданной. Она не укрощала, наоборот, раскупоривала эмоции до таких пределов, что я как бы ощутил в себе свойства деревьев, неба, солнца и даже невидимых в эту пору звезд. А в башку входило вдруг нахлынувшее со всех сторон пение птиц. Они, я так понял, увидели нас - и обрадовались нашему сбли¬жению. Среди голосов особенно выделялся чей-то бархатистый. Он был не только благозвучнее, чем у соловья, но и одновременно исполнял нес¬колько мелодий, которые переплета-лись, накладывались друг на дружку, спорили, сливались, переба-рывали все на своем пути и неслись к непости¬жимой вершине восторга, наполняя сердце таким же многообразием упое¬ния. Этот голос был во стократ утонченнее и совершеннее тех, которые я недавно слышал при исполнении песни Стинга «Роза». К тому же «пе¬вец», мне виделось, находится не в камышах, не в ближнем кустарнике, а где-то далеко за морем - в самом уютном уголке Земли, и по цвету напо¬минает зрачки Сони, а по размеру - еще меньше их. И я подумал: а не ис¬ходит ли этот лучезарный голос от девичьих глаз? И еще удивился: как звукам удается проникать в мои клетки, мышцы, косточки? Ведь и там я их слышу. Отчего никогда прежде мое восприятие не было таким всеох¬ватным? Почему только сейчас я обрел способность соединять в себе и дух, и природу, и желание? Может, никто не поет, а это моя душа восходит к необычным иллюзиям?.. Вот заскрипели от нахлынувшего ветра ветви дуба - и уже в нем мне чудится какая-то зелено-небесная мелодия...
Из-за веток вдруг прокрался луч - и Сонины глаза потеряли прежний серый оттенок, в них заиграли голубые жаринки. Мое состояние тоже поменялось. Просветление перешло в «огненную» возбудимость. Кровь в сосудах вроде остановилась и затвердевает. А тело наполняется диким буйством. Я, как вепрь, заскрежетал зубами, и подумалось, что вот сейчас стану сродни свирепому зверю... В эту же секунду Соня пылко губами впилась в мои губы, обняла и прижала к себе. Я ощутил во рту ее «медо¬вый» язычок. Упругие груди качнулись по моему волосяному покрову. Волна ее нежности подняла меня на свой гребень и понесла, как щепку. Я плыл по безбрежному морю совершенно новых для меня ощущений, где один сплошной рай, где все окружающее как бы исчезло, остался только я со своей внутренней радостью, с разливом своих неустанных желаний, которым нет измерений, но хочется, чтобы не было и конца. Именно ради этого руки Сони поют мне божественную мелодию, рит¬мично сжимаясь и разжимаясь. В этом же ритме живут и ноги.
И вот уже «задымленные» глаза, наполненные вожделением, вылива¬ют это вожделение в мои глаза. Порывы девушки руководят моими поры¬вами. Этот шквал ее безудержности не утихает, а все больше вскипает. Чтоб огонь разгорался с новой силой, Соня отпихивает меня от себя, бьет пятами в грудь, отбивается кулаками. Это побуждает еще к больше¬му азарту. Я, уподобляясь вепрю, кидаюсь на нее. Она тут же кидается ко мне. Мы сплетаемся в один клубок, катаемся по траве, обцеловываем друг друга от волос до кончиков пальцев ног.
Приливы и отливы этой всепоглощающей ласки повторяются много¬кратно, длятся несколько часов... Но Соня мне не отдалась. Всякий раз, когда во мне вспыхивал сексуальный позыв, девушка без промедления впускала мой язык к себе в ротик, а ножки предельно сжимала, раздви¬нуть не позволяла. Я же не насильник. Мне достаточно было того, что было.
О новой встрече мы не договаривались. Поэтому, когда следу-ющим утром приплыл на остров, меня охватила паника: неужели больше не увижу Соню?.. Залезаю в ее «гнездо» на дубе, проверяю ближние кусты, оббегаю прибрежную зону... На душе тоскливо и муторно. Чайки кружат над заливом, выхватывают рыбу из воды, ликуют. А у меня из глаз капа¬ют слезы... Что-то абсолютно не поддающееся контролю овладело всем моим существом. Вроде в глубине органов и клеток возникло какое-то жуткое вещество, которое терзает, заставляет надеяться, желать, мечтать. На солнце смотрю - и не ощущаю его слепящих лучей. Все ничто в сравне¬нии с невозможностью видеть Соню.
От бесконечной ходьбы устаю, ложусь на то же место, где вче-ра... И в ту же минуту, будто с небес, на меня падает Соня, хва-тает за волосы, притягивает к себе мою голову, целует глаза. Не успеваю осмыслить виде¬ние это или реальность, а тело уже напол-няется счастьем прикосновений. Волоски на руках и ногах пре-вращаются в проводники, соединяющие мои клетки с ее клетками. Горячие губы поочередно прижимаются к мое¬му правому, затем к левому вискам. От этого кровь получает приятное ускорение, от которого чуточку кружится голова. От натиска этих див¬ных ощу-щений мои пальцы растопыриваются и, как антенны, тянутся вверх, словно хотят передавать в космос импульсы моего душевного тор¬жества. Я не обнимаю Соню, не целую. Она своей нежностью лишила меня инициативы. Лежу с закрытыми глазами и на-слаждаюсь ее ласками, которые становятся все проникновенней. Вот грудью чуть-чуть дотраги¬вается к моей груди, сосками шевелит мои соски, после слегка стискивает их зубами - и словно электро-разряд пронзает все мои органы. Такая же обнаженная ложится на меня спиной, ягодицами трется о мои эрогенные места. Теперь прихожу в движение. Цепко захватывая руками ее торс, поворачи-ваю к себе лицом, приподнимаю и кладу на траву рядом с собой.
Соня мягкая, податливая. Рассветные глаза, похожие на под-снежники, благоухают и трепещут, изнутри наполняясь росой. Вдыхаю их аромат, выпиваю слезы. И как бы слышу ее мольбу: «Сохрани мне девствен¬ность... Все, что хочешь, делай со мной, не допускай лишь... Да, да, только муж имеет право на это...» Отстраняюсь. Бегу к берегу. Соня - за мной. И в воде - мы снова как сиамские близнецы.
Семнадцать дней встречаемся на острове - и всякий раз с пер-вой ми¬нуты до последней тела и души наши не устают блаженст-вовать в потоке чувственности: без слов, без признаний, без секса.
На восемнадцатый день Соня не приплыла. Причину я знал: закон¬чился отпуск. Запомнил и прощальные слова: «Не жди. У нас судьбы разные. Тебе надо продолжать учебу. А мне пора замуж... Да и не в этом главное. В Библии есть притча. Дочь царя Ирода Соломея по наущению матери просит отца дать ей в дар голову Иоанна. Отделив от туловища, ее на блюде преподносят Иродовне... Я не Иродовна, но я - Соломея, а ты - Иоанн. На нас лежит печать этих имен. Нам нельзя быть вместе».
Эти слова встали, как дуб... Но дерево, не найдись ничего под рукой, я бы перегрыз и зубами. А сказанное... Но как с ним согласиться, если я полюбил Соню? Все девушки, к которым что-то испытывал прежде, ушли на второй план. Перед глазами стояла одна она. Я бродил по острову, малейший треск ветки заставлял вздрогнуть, остановиться, прислушать¬ся. За каждым кустом мне виделась затаившаяся ее фигура. Запела на мелководье камышовка - полез туда, надеясь, что это Соня имитирует. Зашептал ветер в макушке тополя - она там померещилась. В березняк залетела кукушка - загадал, через сколько дней приплывет сюда. «Ку¬ку, ку-ку, ку-ку...» Значит, через три дня, в субботу...»
Прокурор:
- А теперь я зачитаю письмо подсудимого к Соломее. «Кукуш-ка подвела. В субботу я не обнаружил тебя ни на дубе, ни в воде, ни в зарослях. А вот твой запах присутствовал везде, словно ходишь рядом невидимкой. Только возле бывшего логова секачей, что за завалами сухих деревьев, в обоняние вошел дух вепрей, он пересилил твой аромат. И с этого места мной овладела какая-то дикость. Как зверь, я рыскал по острову, ломал ветки, швырял камни в птиц.
Таким свирепым и приплыл в Солошино. Лодку оставил на присмотр рыбакам, а сам подался к фельдшерскому пункту. Решил: упаду перед тобой на колени, буду упрашивать стать моей женой. Но гонявшие на велосипедах пацаны подсказали, что ты сейчас не на работе, а в церкви. Мысли о предстоящей встрече в святом месте немного сбили бунтарский настрой... Губы зашептали молитву, что пульсировала в крови: «Не оставь нас, Божья благодать! Там, на острове, родилась моя новая душа. Она проросла из голосов птиц, шелеста деревьев и запаха трав. Она расцвела от вольного ветра и свободного чувства. Она даст обильные плоды, потому что слилась с душой, которая вот также любит простор... Помоги нам, Святой Дух! Любовь людская хрупкая, ранимая, ничего не про¬щает...»
Наметил: отыщу Соню в соборе, остановлюсь чуток позади и заго¬ворю словами этой молитвы.
Но только ступил в просторный зал, стены которого украшали изо¬бражения святых, - как сразу же увидел тебя в подвенечном платье. Ты стояла напротив креста с распятием Иисуса, а рядом - жених, ниже тебя ростом офицер в милицейской форме. Батюшка поочередно спрашивал вас, согласны ли стать мужем и женой. Вы ответили утвердительно. Даль¬ше ничего не помню. Не ведаю, откуда появилось ружье. Вроде не брал из дому. Да и во время пребывания на острове не замечал его. Словно уже здесь, в церкви, кто-то сунул мне в руки. Я нажал на курок, раздался выстрел... Он вернул меня к реальности, но было уже поздно: перед ико¬ностасом лежал убитый офицер...»
Судья:
- Откуда у обвинения это письмо?
Прокурор:
- Сегодня получили от Соломеи Исаевны Ярич, которая после трагедии переселилась к родителям в соседнюю область.
Судья:
- А нам прислала телеграмму: «Прошу суд верить показаниям Гордовера. Ни главным, ни каким-либо свидетелем быть не могу. Соломее опас¬но встречаться с Иоанном...» Последняя фраза не понятна.
Гордовер:
- Это Соня намекает на библейскую притчу. Но Святое Писа-ние тут ни при чем. Виной всему звериное начало, которое во мне пробудили секачи. Это их дух - дух погибших от наводне-ния животных - переселился в меня, а может, и в Соню. Мы жертвы обитавших на острове вепрей. Они оставили после себя эту ауру неистовства и безрассудности.
Прокурор (улыбается):
- Выходит срок надо давать не Гордоверу, а секачам, а еще вернее царю Ироду, который жил на земле две тысячи лет назад?..
По настоянию прокурора судебное заседание перенесли до обес¬печения милицией явки главного свидетеля - Соломеи Исаевны Ярич.
Она явилась в суд вся в черном. В зал заходила с опаской, с потухшим лицом. Когда же подсудимый встретил ее возгласом «Люблю!» - вспых¬нула, как зажженная свеча. Возбужденно при-поднявшись на скамье, он ответил на ее страстный взгляд таким же обжигающим взглядом. И с этой минуты они неотрывно так и смотрели друг на друга в течение всего заседания. На вопросы судьи, адвоката и прокурора оба отвечали односложно, без эмоций, отстранясь от суеты, что бушевала в зале. Заметно было, что, встретясь, их сердца вошли в какой-то свой мир, неведомый остальным. Он поглощал все их силы, делая похожими на два луча, кото¬рые издали нащупали «один одного», а затем, сближаясь, превращаются в пламя. Этот огонь обнаруживал себя в глазах, только в глазах. И пола¬гаю: если бы представители правосудия вдруг испарились - эти двое сли¬лись бы в объятиях и поцелуях. Решетка же и наручники, обостряя чув¬ства, загоняли их вглубь сердца, спрессовывали там, доводили до смер¬тельного бессилия. И в то же время влюбленные безумели от счастья ви¬деть друг друга, наслаждались, пылали. И к той секунде, когда судья за¬кончил чтение приговора, и им предстояло расстаться - этот внутренний накал достиг столь высокого напряжения, что парень и девушка... «сго¬рели». Эксперты не выявили ни отравления, ни инфаркта, ни кровоизлия¬ния в мозг. Смерть наступила без каких-либо физиологических причин. Возможно, это произошло по воле сверхъестественных сил. А может, в силу пока еще до конца не познанных человечеством законов любви. Я лично воспринял судьбу Ивана и Сони, как повторение судьбы Дафниса и Хлои - только уже в наших «цивилизованно-индустриальных» усло¬виях.
ЛИЦА ЛЖИ
УТЕРЯННЫЕ ЧАСЫ
«Хотя в сердце пустота, не могу освободиться от воспомина-ний. Вновь и вновь перед глазами голубые волны, предвечернее небо Скупенска - и ты: молодая, улыбчивая, доступная. В то лето я приехал на берег залива с твердым намерением писать этюды и завершить картину «Лебединый плес». Пять солнечных дней с утра до вечера работал кистью и только на шестой, когда небо заволокло тучами, позволил себе залезть в прозрачную мелкую воду, а затем рас-пластаться на жестком топчане среди пляжников. Именно в эту минуту безделия и щемящего одиночества на соседнем лежаке оказалась ты. Пос¬ле обмена фразами о воде и погоде вдруг возник непредсказуемый диалог.
- Отчего у Вас такой замкнутый, угрюмо-болезненный вид?
- Нуждаюсь в сестре милосердия. Ведь у Вас как раз эта самая про¬фессия?
- Разве заметно?
- Чуть-чуть.
- Что еще обо мне знаете?
- Вам двадцать четыре года. Замужем. Имеете трехлетнего сына. Приехали с ним сегодня. Он устал с дороги, спит, а Вы прибежали взглянуть на берег. Звать Вас Люба. На заливе впервые.
- Правильно.
- Отдыхать будете «дикарями». Поселились на улице, которая идет прямо от этого участка пляжа вверх. Называется Взлетной, так как вы¬ходит к аэропорту.
- Точно.
- Калитка у Вас зеленая, а дом, извините, какой номер?
- 36.
- Когда начнет темнеть - ждите меня в гости.
- Это исключено. Вам нужна не такая женщина. Простите, накрапывает дождь - надо бежать домой.
Я нажал на кнопку японского зонтика - и в раскрытом виде с лов¬костью виртуоза переложил в твои руки.
- Берите, приду за ним к зеленой калитке в 22 часа.
- У нас голубая калитка, - в глазах заиграла ирония.
Не ушла, а бесшумно и плавно, будто лебедь, поплыла по песчаной волне и скрылась в прибрежном цветении лип.
Опомнившись через несколько минут, екнул: плакали мои 45 рублей, израсходованные на зонтик. Ведь тут явный розыгрыш: и «соглашатель¬ство» с моими сумбурными предположениями, и названный в шутку номер дома. Пень дубовый - вот кто я.
Единственным утешением было то, что дождь подразнил, но всерьез не пошел. Поэтому к обещанному часу я все же не мокрый, а сухой подошел к дому 36.
Надежда на то, что выйдешь, почти полностью выветрилась. Но в силу привычки решил дойти в избранном направлении до конца. Чтобы разогнать досаду, уселся на лавочку под вишневыми деревьями и стал прикидывать: какой из живописных образов ты больше всего напоми¬наешь? Пожалуй, что-то есть от «Моны Лизы». Такое же мягкое, почти итальянское лицо, женственные плечи, пышная грудь. Во взгляде уступчивость, кротость и ангельская безгрешность.
Эти предощущения - когда ты появилась - переросли в полное признание за тобой черт божественной флорентийки, запечатлен-ной Леонардо да Винчи. Когда обнял, ты не отстранилась, только слегка качнулась, обдав жаром груди, и сдавленно произнесла:
- Я на минутку, сын еще не уснул.
- Приспи, я подожду.
- Без меня он не сможет спать, и так будет каждый раз.
- Тогда одевай его, вместе погуляем.
- Нельзя. Он обо всем в подробностях расскажет мужу.
- Значит, у меня один выход - переселиться к вам? В доме есть свобод¬ная отдельная комната?
- Нет. Не заселена только проходная в нашей времянке.
- Смежная с твоей?
- Ага.
- Так это же отлично!
- Вряд ли хозяйка решится поселить рядом с молодой жен-щиной одинокого мужчину.
- А сколько там коек?
- Две.
- Тогда скажу, что через пару дней ко мне приедет жена...
- А мой сын Кирилл? Он ведь никуда не уедет.
- Буду приходить в его отсутствие. Вы на пляж - а я на нары.
Чтобы не успела возразить, мои губы запечатали твой рот. Поцелуй получился вынужденным. Но ты не воспротивилась, а, наоборот, отве¬тила нежным пожатием рук. Затем, отстранившись, без промедления отдала зонтик - и удалилась.
На следующее утро, придя на пляж, разместилась с сыном вдалеке от меня, не поздоровалась - и я растерялся: может игра не стоит свеч? Приехал работать - зачем этот непонятный скоропа-лительный роман? Но когда ты разделась и вошла в волну, а затем из воды, чтобы не заметил Кирилл, показала рукой взлет самолета - всего меня обдало горячим шквалом желания. Понял: не смогу взять в руки кисть, если эта женщина будет принадлежать другому. А в том, что такой жемчужине обязательно сыщется обрамление, - сомневаться не приходилось. Поэтому, отбросив все «против», оделся и вышел на Взлетную.
Во дворе 36-го было пусто. Но хозяйка - бабка лет семидесяти по имени Сидоровна - оказалась дома. Она без каких-либо распро-сов сог¬ласилась сдать мне и «жене Екатерине, которая скоро прие-дет», комнату за три рубля в сутки. Показала, где умывальник, туалетная, как замы¬каются двери. Чтобы у нее не возникло недоверия, я тут же отдал паспорт. Объяснил, что в пансионате «Алые паруса» отдыхают мои друзья, поэтому днем мы всегда вместе, питаться тоже устроился в их столовой по курсовке. А сюда буду приходить только на ночлег. Обязался быть дисциплинированным, не беспокоить без надобности. И, действуя в том же напористом духе, вынул из бумажника заранее приготовленную четвертную: плата, мол, наперед. И что же? Взяла, чуть ли не выхватила из рук.
Операция прошла, как говорится, без сучка и задоринки.
Возвратившись на пляж и улучив момент, когда твой сын побежал за фотографом с обезьяной - я пристроился на лежаке рядом с тобой и сообщил о своем благополучном «вселении».
- Кирилл не должен тебя видеть! - с испугом выкрикнула ты.
- А во сколько он засыпает?
- Не раньше десяти.
- Если приду в полночь - не поздно?
Ты что-то сказала в ответ, но я не расслышал, так как уже всполо¬шился, заметив, что от берега к нам несется твой сын. Строгих нравов ваша семья, подумалось, коль мы от него таимся.
После обеда, как обычно, взяв в руки этюдник, направился к островам, перешел вброд одну из заводей - и оказался на привычном месте. Разложив мольберт и установив на нем холст, долго рассматривал пустой плес. Обычно в этот час сюда выходили лебеди и, образовав почти правильный круг, принимались добывать пищу: длинные шеи погружали в воду и шастали в водорослях. А я переносил белизну их оперения на полотно. Чего же сейчас их нет? «Ревнуют? Летали над пляжем и видели меня с Любой?..» Что за наивные мысли? Я встревожен? Ах, да: закономерность нас усыпляет, а случайность пробуждает, заставляет удивляться, настораживаться, думать. Интересно: каков твой цвет в гамме красок жизни?
В полночь, словно таинственный детектив, замаячил у дома 36. Калитка, убедился при свете луны, все же не голубая, а зеленая. Выходит, и прошлым вечером и сегодня днем находился в каком-то затмении, если не заметил ее цвета. А теперь возвращается ко мне нормальное видение и некоторая уверенность. Защелку открыл легко, запустив поверх забора руку. Собаки нет: тишина. Темень. Дверь «нашей» времянки полуоткры¬та. Ждешь?
Проскользнув вовнутрь - не зажигая свет, пошел к деревянной крова¬ти под стенкой. Ожидал, что ты там. Но пальцы натолкнулись на отутю¬женное одеяло. Снял его, свернул вчетверо и поклал на раскладушку, которая фактически без надобности. Правда, снял с нее подушку - на постель на двоих. Раздеваясь, уронил ремень - и он звякнул о пол. На мгновение пришлось замереть. А не цирк ли мне устроила? Может, обитаешь не в этом дворе, не в этой времянке? Но слышу скрип кровати в смежной комнате, приседаю и, отодвинув портьеру, вижу лицо, открытые глаза. Не пере¬ступая порога, рукой нахожу руку и слегка тяну на себя, давая знать, чтобы подымалась и шла ко мне.
Из мрака выныривает белая простыня. Не пойму - ты или кто другой. А если мужчина? А вдруг подставное лицо?! Отдер-гиваю простыню - и, всматриваясь, вижу в глазах испуг, слезы... Ты!!! Окончательно освободив тебя от белой «сутаны», притягиваю к себе, пытаюсь шутить:
- Не бойся, я сам дрожу.
И будто после этих слов - начинают стучать зубы. Опускаемся на кровать, а дрожь не проходит. Понимаю: необычность обстанов-ки, слишком быстрое сближение, да и годы мои... А у тебя ничего этого нет. И уже не я тебя, а ты меня успокаиваешь, поглаживая по плечам, массируя спинные мышцы... Стремясь прогнать эту мерзкую тряску, суетливо целую холодными губами твои руки, шею, груди, живот, бедра... Но и это не помогает. Тогда ты вспоминаешь эпизод из кинофильма, где в аналогичной ситуации героиня «лечит» партнера нежностью. И вот уже ощущаю тихие снимающие нервный тик поцелуи, ровные рывки за волосы, горячие объятия... Прощаясь с тобой в предрассветном побеле-нии стен, радостный, легкий, освобожденный от всяких «комплексов», говорю:
- Ты настоящая сестра милосердия.
* * *
На плесе лебеди были в полном составе. Только на сей раз они не «работали», а носились один за другим, звонко хлопая крыльями. Меня поразила их необычная веселость в игре. Я тут же хотел приняться за выношенную в мыслях и начатую еще в прошлом году картину. Устано¬вил полотно, взял в руки кисть - и вдруг возникло жгучее желание изо¬бразить тебя. Я убрал с мольберта то объемное полотно, а вместо него закрепил небольшой запасной холст - из тех, что предназначались для этюдов. Принялся масляными красками без предварительной проработки карандашом писать лицо. Оно уже жило в моем воображении. Я его видел в подробностях. Смуглое, продолговатое, с ямочками на щеках, с еле заметной улыбкой, прорезающейся на чуть выпуклых губах. Глаза -темные, с резкой печалинкой. Неразгаданные, но спокойные, добрые. Однако кисть как бы помимо моей воли изображала нечто иное, совсем непохожее на тебя. Приостановив работу, я замер... А фантазия продол¬жала рисовать. Вот уже представил тебя с лебедиными крыльями. Затем - в полной темноте - со сверкающими глазами. И потекли по жилам ощущения ночи. Твоя лечащая деликатность, молочный запах груди, возбуждающие прикосновения рук, неутихающие жадные поцелуи. Как в тумане, бреду в этих ощущениях и выбраться из них не в состоянии... Уже и солнце опустилось за камыши, и лебеди исчезли из воды.
Ничего не нарисовал. Сложил мольберт, упаковал холст, взгромоз¬дил все на спину и потопал в поселок.
Ночью опять мы были вместе.
А днем - снова врозь.
Так продолжалось почти месяц.
* * *
Завтра в пять утра уезжаете. Билеты уже куплены. Поэтому сегодня за час до заката, как и было условлено, вы появились на берегу - на том самом месте, где мы впервые встретились. Ты не торопясь шла за сыном по парапету. А я сидел с раскрытой книгой на топчане, мимо которого лежал ваш путь. Чтобы Кирилл ничего не понял, наше с тобой общение ограничилось взглядами. Но в том, что не обмолвились даже словом -была своя прелесть. Волны шептали: «Вы придете сюда еще». Чайки стонали: «Вы расстаетесь навсегда!» Твое бархатное фиолетовое платье, развевалось на ветру, взывало: запомни меня яркой, загорелой. Но вдруг улыбка, соединенная со смущением, по-детски чистая и наивная, озарив изнутри лицо, отодвинула все в сторону, ворвалась ураганом в мою душу. Вот до сих пор и вижу тебя такой: кроткой, доверчивой, беззащитной - похожей на одинокий степной цветок.
Едва отбагровел закат - не дожидаясь «полуночного часа», я оставил пляж и пошел по Взлетной: нет, и не мечтал еще раз уви-деться. Просто как бы повело в твою сторону. И неожиданно - ты навстречу. Одна. В том же переливчатом платье. «Неужели к кому-то на свиданье?» - поду¬малось. Но задать этот вопрос не успел.
- Часы утеряла, - глаза тревожные, растерянные.
Мы пошли к заливу.
- Вот здесь на этом топчане загорала. Они лежали на подстил-ке. Когда собиралась домой - стряхнула, а о часах забыла.
Принялись искать тут и там, рыться в песке, заглядывать под лежаки.
- Какие?
- «Луч». В фиолетовом футляре.
- Во сколько ты ушла?
- Где-то в шесть.
- Люди вокруг были?
- Немного. Бабушка с внуком. Две молодые женщины лежали на песке у парапета. И еще человека три - но их не помню.
Стемнело, а пропажи так и не обнаружили. Ты присела на тот злополучный топчан чуть не плача. А я целовал твои грустные глаза, кра¬ешки губ.
Ночью шепотом, чтобы не потревожить спящего в соседней комнате Кирилла, мы время от времени толковали о часах. Тебя беспокоило, как отреагирует муж. Это его подарок ко дню рожде-ния. Денег у него много - второй год возглавляет бригаду шабаш-ников, которая возводит фермы в колхозах. Но жадноват, и будет донимать вопросами и расспросами. Чтобы хоть как-то унять твою тревогу, я пообещал утром обшарить весь пляж, поспрашивать людей. А если не отыщу, куплю той же марки новые и перешлю тебе. И тут же полушутя обратился с просьбой, чтобы по¬старалась забеременеть от меня. Ты рассмеялась:
- Вот обрадуется муж: приехала без часов да еще и в положении.
- Не нравлюсь?
- Почему же? Такой талантливый и солидный даже во сне не снился!
- А наш ребенок будет еще одареннее. Об этом говорит все мое естество. Мне 38, последний шанс иметь детей. Да и почему-то уверен - обязательно родишь сына.
- А жена твоя тоже обрадуется?
- С удовольствием продаст за алтын. Ты же заметила - я рез-кий, своевольный, плюс комплексую. А главное - возраст не юношеский. Поэтому и тебе не советую делать ставку на меня. Выгоднее оставаться с мужем, а родить...
- Так не смогу.
- Представь: у него будет два отца. Разве не роскошь для ребенка? Материальную помощь ведь гарантирую!
- А вечную любовь? - голос грустный, просительный и какой-то отре¬шенный.
Он заставляет с новой горячностью сжать тебя в объятиях. И тут же ощущаю ответную бурную чувственность... Замолкаем надолго. Страсть на сей раз невероятно бешеная, затяжная, с на-плывом непостижимо конт¬растных ощущений: и сады цветут, и воет ветер пустыни... Но постепенно зной уступает прохладе. Вот на голой скале вспыхивает эдельвейс, возникают деревья, на кото-рых тут же наливаются плоды. Сказка. Чудо. И чувство ожидания: вот-вот в этом необыкновенном раю появится первый человек - наш сын Адам. А Еву, конечно же, ему сотворят «из его ребра».
В первой же «простыне» (Как ты решилась получать мои письма на домашний адрес? Разве муж не контролирует?) сообщил, как искал часы. Кстати, вот передо мной вся наша за этот год пе-реписка. Я полагал, что в силу гениальности, которая обязательно меня посетит, нашу любовь будут анализировать историки живописи. Поэтому и просил тебя возвращать после прочтения мои письма. Они теперь лежат рядом с твоими. Со жгучей ненавистью перечитывал их сегодня. Приведу отдельные выдержки:
«Часы найти не удалось. Хотя истратил на это три дня. В конце концов пошел в магазин ювелирных изделий, отобрал точно такие, как ты утеряла... Но не купил. Чувство подсказало: если это сделаю - не смогу написать ни одного из тех многих задуманных полотен, посвященных тебе. Подарки, за которые платишь деньги, - уничтожают вдохновение. Художник любит своей работой. Поэтому выбирай: картины или часы «Луч»?
Ты ответила без промедления: «Не надо часов. Пусть лучше будут картины».
Твоя уступчивость искусству меня обрадовала необыкновенно. Я был на седьмом небе. И несмотря на то, что после твоего отъезда стало как-то не по себе, - с чувством уверенного в себе работника взялся за кисть.
Вот еще строки из писем: «Завершил картину «Лебединый плес». Правда, полного удовлетворения не почувствовал. Получи-лась она какой-то по-обывательски утешительской. Из сплошного помарина и белил. Чем привлек меня этот примитивный сюжет? Сколько перед глазами человеческих драм - почему меня не тро-гают? Как ребенок, утешаюсь птичьими играми. Ухожу от проблем нашего бытия...
Но есть у меня утешение - твой образ. Он, как добрый ангел, всюду следует за мной и шепчет слова бессмертной любви».
«Сегодня с утра до позднего вечера в тени деревьев рисовал по памяти твой портрет. Так увлекся работой, что забыл пойти в столовую пообедать. Съел пару сухарей, что всегда как НЗ ношу с собой - и тем утешил желудок. Зато душа была сыта до отвала. Пи-щи ей в избытке. С каждым мазком, что делаю на холсте, она воз-носится ввысь и парит в небесах вечности. Она верит, что со дня сотворения мира не было на свете такой чистой и светлой любви, как у нас. Она наполняется ароматами сирени, что растет в глубине сада, и готова превратиться в такую же массу раскрывшихся цветков. Ей не то что хочется, она зримо ощущает, что кисть на сей раз обретет волшебные свойства, положит на холст самые нужные и неповторимые краски. Она жаждет шедевра».
«Успел-таки к дню твоего рождения закончить полотно. При-ми его в качестве подарка. По-моему, картина удалась. А знаешь, какое название ей придумал? «Твое имя - Любовь». Всмотрись: ты похожа или нет?
Попутно замечание: зачем сделала аборт? Был бы, говоришь, сын? Что ж, видимо, на роду мне написано не иметь детей».
«Едва завершил одну работу, как новая перед глазами. Уже творю. Мысленно, в мечтах. Это будешь ты в образе ангела. Представь: предрассветная дымка в горах, статный пастух - в растерянности, в шоке: к нему с небес сошла женщина - нагая, прекрасная. В ее огромных синих глазах печаль и одиночество, руки напоминают и облака и в то же время крылья. Подпись будет такая: «Ты пришла ко мне с неба высокого».
«А этот холст меня измучил. Вначале пришлось поменять компози¬цию. Затем не понравился рисунок. Под конец худосочной показалась живопись... Но в переделках нахожу упоение. Ведь чувствую: вот-вот нащупаю тропинку, что ведет из хаоса ощущений на простор конструк¬тивных решений. Интуиция - это ладья, которая может обойти все океаны жизни и остановиться именно в том месте, где зарыт клад открытий.
Наконец-то: вот она - метафора. Волны в форме ладей поднимают тебя над морем, и ты, словно дитя солнца, ликующая, сильная, загорев¬шая, лучистая, - паришь во времени и пространстве.
А я тоже ликую - от достигнутой выразительности, глубины об¬-разности. Хотя слова под картиной, как видишь, написал предельно простые: «Мне солнце тебя подарило...». Этот холст, полученный к 8 Марта, надеюсь, пробудит добрые воспоминания обо мне».
В осеннюю пору, а затем зимой я беспрерывно находился в состоянии душевной просветленности, располагающей к находкам в работе. На холсты выплескивалась одна идея причудливее другой. Но к весне накал вдохновения понемногу стал таять... Тот пламень чувств, что возгорелся благодаря нашей летней «пасторали», истощился. Сердцу и уму, понял, нужна новая встряска. Но вряд ли получу ее во время повторных свиданий в Скупенске. Пожалуй, большим потрясением будет отказ от встречи. Ты, судя по письмам, не прочь снова приехать на залив. Но разве прекрасные мгновения повторятся? Как в одну и ту же реку - нельзя войти в одно и то же чувство. Беспрерывным счастье не бывает.
Словом, решил бесповоротно оборвать связь. Но таким роман-ти¬ческим образом, чтобы не только теперь испытать неповторимые переживания, но и на всю жизнь оставить след таинственности и недосказанности.
Я изобразил себя на одре смерти, с последним взглядом, обращенным к твоей фотографии. И подписал рисунок: «Прощай, любимая, про¬щай...». А в письме, отправленном вместе с ним, сообщил, что чувствую себя очень плохо, что я не жилец на этом свете и в Скупенек, естественно, не приеду.
Кощунствовал, конечно, но с болью в сердце кощунствовал. А чтобы получить «запланированную встряску», через месяц со-брал свои ремесленные принадлежности и пошел за билетом в сторону юга.
Каково же было мое изумление - громовой неожиданностью и громовой радостью, когда буквально на второй день пребывания в Скупенске наткнулся на тебя. Ты лежала почти на том же «историческом» участке пляжа.
Не подойти я не мог. Твой сын встретил меня как врага. Го-ворить при нем нам было трудно. Тогда ты «разрешила» ему - хотя вода была и холодной - пойти купаться. Тем временем я сбивчиво врал о том, что «действительно был очень болен, пережил микроин-фаркт, чувствую себя неважно». Не заметил, ты поверила или нет. Но, к счастью, возобновить близкие отношения согласилась.
А ночью, испытав твою нежность и ласку, ругал себя за не-нужное отречение и выдумки. Вместе с тем вынужден был по-прежнему не раскрывать истинной причины отказа от встречи, так как понял, что все-таки мои объяснения ты приняла за чистую монету. Все время жалела, ложила в постель правым боком, чтобы не было лишней нагрузки на сердце, часто спрашивала, не мешает ли то или это, отодвигалась, подкладывала мне от стенки подушку. Не позволяла подолгу прелюбо¬действовать, истощать себя, требо-вала соблюдать режим сна и отдыха. Благодаря твоей услужливости я опять почувствовал прилив творческой силы. Отважился рисо-вать тебя с натуры - и вдруг открыл, что в моих фантазиях твое тело было менее совершенным, чем оно есть на самом деле. Ты ставила впереди трюмо, чтобы не терять контроль над выражением своего лица. Говорила, что в детстве даже ела перед зеркалом, постигая науку женского обаяния. Сейчас тебе это тоже удавалось.
Но то были редкие часы, когда днем ты укладывала сына спать и прибегала в мою «берлогу». А в основном, как и раньше, я работал в одиночку: в хозяйском саду или у лебединого плеса.
Только ночью мы обретали настоящую свободу общения. Это состояние счастья затем попытался передать в картине, над которой работал почти весь год. Ее ты так и не видела. Выслать в качестве подарка к очередному празднику пожалел. Зажал. А при-везти на время такую махину - накладно. Но ты ведь и так зна-ешь: главное в ней - твои глаза на фоне малозвездного неба. Во-круг ночь, по земле стелится пыльная метель. А ты, как владычица тьмы, сидишь на вершине кургана среди трепещущих на ветру ковылей: обнаженный торс полон страсти, а лицо, поднятое вверх, ожидает, когда в лучах твоих глаз померкнет последняя звезда. Глаза светятся, как большие плазменные сгустки. Воистину «Ночное божество». Так эту картину я и назвал.
Но ты спросишь: при чем здесь мое счастье? Видишь ли: я творец этого образа. Поэтому в него вложена моя душа, мои чувства и мое видение мира. То есть: в этой картине присутству-ешь не только ты, но и я. Кстати, один мой коллега воспринял картину по-своему. После весьма продолжительного осмотра он спросил: «Что это? Сексуально-интел-лектуальный прорыв? Куда? В космос?».
Ты вошла не только в мое творчество, но и как бы в каждую клетку тела. Южного отдыха уже не представлял без тебя. Летели весны и зимы. Но каждый раз с нетерпением ожидал того летнего дня, когда подходишь к кассе, покупаешь билет в Скупенск, а наутро едешь в комфортабельном «Икарусе» в сторону моря, твоей красоты, приветливости и ночных объятий.
Появился комфорт и чисто бытовой. Теперь на Взлетной, 36, я снимал специальную комнату для наших встреч. Подчас ты оставалась в ней и ночевать. А обитала с подросшим Кириллом по-прежнему во времянке - в той самой, где в первые годы про-ходили наши ночные свидания. Если раньше разговаривали ше-потом, боясь разбудить твоего сына, то теперь к нашим услугам все блага общения, волеизъявлений, а главное - страст¬ных объятий.
Дальше мне трудно писать... Как ты могла? Как посмела? Даже воображение, которое у меня подчас бывает сверхъестествен-ным, не в состоянии этого представить. А тут реальность. Таких пошлых размеров, что до сих нор не могу простить самому себе: зачем в ту ночь вздумалось вернуться? Лучше бы оставался в неведении. Легче слепцом жить, чем знать такое... Значит, ушел от тебя, а потом вспомнил: это же последняя перед твоим отъездом ночь, да и юбилей - десять лет, как знаемся! Решил преподнести сюрприз, обняться в нашей постели еще раз. На полпути повернул назад, подошел к калитке, привычным движением бесшумно ото-двинул задвижку, пробрался во двор. Смотрю: ты еще не успела закрыть на засов дверь, она полураспахнута, как обычно, когда лежим в кровати. Приподымаю занавеску, что предохра¬няет помещение от проникновения комаров - и вижу тебя в самом ин-тимном виде... с другим!
Несколько минут назад ты ласкала и целовала меня, шепотом про¬сила побыть еще, не уходить, а теперь... Кто он? Судя по всему, как и я, в этой комнате свой человек. Может, подобно мне платит твоей хозяйке по три рубля в сутки за помещение, в котором принимаешь его? Вернее нас двоих. Или есть еще и третий, и четвертый, и пятый?..
Кошмар. Десять лет любил женщину легкого поведения! Поверял ей самые сокровенные думы, дарил чистейшие чувства, посвящал кар¬тины! Да что там посвящал! Она была для меня ангелом, сокровищем, божеством. Приводила в движение самые глубинные пружины эмоций и сознания, которые аккумулиро-вались в высший продукт человеческого духа - творческое вдохновение.
Объясни, где истоки твоего падения? Что привело тебя на стезю неблагодарности? Неужели только шлюхи я и достоин?»
* * *
«Ты, Павел Момот, задаешь вопросы, доходя, как женщина, до истерики. Что ж, остужу твой яростный гнев. Ты действительно за-служиваешь всего этого. Разве не ты первый начал со лжи? Вспом-ни: в каком возрасте со мной познакомился? Сказал, что тебе 38. На самом же деле имел - 47. Об этом «проколе» узнала только на девятом году наших встреч. Как-то оставил хозяйке паспорт на временную прописку, она подает мне, смотрю и глазам не верю: «Родился 14 ноября 1931 года». Боже мой - пронзило меня - уте-ряно девять лет жизни! Ведь я, в свою очередь, тоже тебя обманула, отрекомендовавшись замужней женщиной. На самом же деле я нагуляла Кирилла. А когда встретила тебя, импо¬зантного, умного, талантливого, - решила во что бы то ни стало стать твоей женой. Вспомни, как ты стремился к сексуальным вольностям, а я их тут же отсекла, чтобы не думал обо мне плохо. А с другими, кстати, все это себе позволяла. Вспомни, как много раз твердила, что у меня уступчивый, ровный характер, как никогда ни в чем тебе не перечила. Таким манером хотела предрасположить к супружеской жизни, так как жаловался на жену: «Мол, вечно конфликтует». Но все мои ухищрения натыкались на категорическое «нет». «Бла-городный» смысл твоей неприступности уяснила только когда узнала, что по годам годишься мне в отцы. Помню, конечно, как ты все время твердил, что только разница в нашем возрасте не позволяет тебе построить новую семью. Но я-то, дура, имела вви-ду четырнадцать лет, а их было целых двадцать три. Когда твой паспорт снял мне шоры с глаз, я долго плакала. В тот период ты написал «Грустящую мадонну», а затем «Что умер я - не верь, мадонна». Словно бы догадывался о моем состоянии.
Хотя верно: в те дни правдивый, благородный Павел Момот для меня умер. Стала видеть тебя себялюбцем и эгоистом, а порой даже - вором, проходимцем, лишившим меня семьи. Как и прежде, испытывала в постели удовольствие. Но бросалась в глаза и твоя мужская усталость, и редкая чувственность. Заметила, к тебе вплот-ную подбирается старость. Хотела резко разорвать, уйти. Однако за годы близости, а точнее, в сказочные летние месяцы накрепко при-вязалась к тебе. Жалко стало! Ведь ты, как дитя, беззащитный, ра-нимый. А главное - раздумья о разрыве привели меня к выводу, что никогда больше не встречу такого духовно богатого человека. Ведь я знала многих мужчин. Они были и до тебя и в интервалах между нашими встречами. Не виделись-то мы одиннадцать месяцев в году! Разными были мои партнеры, чаще добрыми, безвредными. Но вдохновение я дарила только тебе. У них преобладали качества потребителей, самцов, животных. А от тебя исходил свет самозабвен-ного служения искусству. В моих глазах ты был Творцом. Меня, ко-нечно, забавляло, что на картинах изображаешь меня чуть ли не ангелом. Суть-то моя противоположная. И как художник, который обязан быть психологом, ты должен бы мигом это раскрыть.
Но именно из-за своего неведения ты стал для меня Святым Духом. Поэтому меня и тянуло к тебе, вместе мы как бы чуточку придвигались к Идеалу. Твои воображения, фантазия и золотая рука живописца обещали что-то вроде бессмертия.
Но пойми: я - смертная, грешная, неунывающая мещанка. Мне нужны домашний уют, семья. Вот с прошлого лета, поставив на тебе крест, и шарю глазами, ищу мужа. В Скупенске как раз подвернулся «кандидат»: разводной, имеет высшее образование, правду обо мне принял без упре¬ков. Он жил в хозяйском дворе, и пялил на меня зенки - и я решилась. Прости, что это случилось в нашей с тобой постели.
Кстати, мы уже с ним супруги. Теперь я, как видишь, замужняя. Именно та, за которую себя выдавала. И твоя и моя ложь прекратил-ись. Но правда, признаемся оба, жутковатая. Я не прочь, как и раньше каждое лето приезжать в Скупенек. Но вот загадка! Смогу ли после открывшихся обстоятельств по-прежнему быть для тебя вдохновением? Если нет - то смысла в наших встречах не будет».
* * *
«Приехал в Скупенск. Сегодня весь день идет мелкий дождь. С утра бродил по берегу... под тем самым зонтиком. Ветхим он стал, в цвете поменялся, но служит. Японская фирма «Зудзуки», черт ее побери, доб¬ротно сработала. А по мне лучше бы он давно сломался, обновка бы была. А так не выбросишь - вещь годная. О тебе напомнила. Опять пошли потрепанные воспоминания.
Твой ответ так хлестнул по сердцу, что вот почти год прошел, а не могу прийти в себя. И если бы на этот период не выпало брожение в обществе, переоценка ценностей, от которой газеты и журналы обрели что называется черно-красный цвет - я бы наверняка по-прежнему пре¬бывал в позе оскорбленного гения.
Сознаюсь, всякие разоблачения, как и твое письмо, не прибавили сил, а, наоборот - согнули, придавили.
Недавно в родном Никополе организовали выставку моих работ. Люди переходили от картины к картине, восхищались, писали хвалебные отзывы. А я, весь год копавшийся в собственной душе, в этот день пришел к выводу, что ничего путного мной не создано. Все это наивные поделки, игра в творчество. Я ощутил над своими полотнами розовую дымку парадности, ухода от реальной жизни к аллегориям и фантазиям.
Когда одна из посетительниц, дородная, краснощекая особа (на¬глядный тип обывателя) вписывала в книгу отзывов очередной па¬негирик, меня вдруг охватила непроходимая ярость. Я схватил из соседней экспозиции нож, искусно сделанный местным умельцем, и двинулся к картинам, чтобы искромсать их. Но жена, давно заметившая мой внутренний сдвиг, весь день, как коршун, следила - и теперь, бросившись наперерез, остановила руку, сжала и потянула к своей шее:
- Режь меня! Ими будут любоваться. А я - старая, никому не нужная...
Я оттолкнул жену, но тут же остановился. Меня поразили ее глаза -жестокие и одновременно скорбные. Почему до сих пор не нарисовал их? Она, как и ты, ненавидит меня, но печется о моем даровании. Откуда это? От узости кругозора? Нет, от стремления обрести хоть какой-то смысл существования.
Парадокс: не я - живой человек, а эти мертвые полотна - ее забота. Как и ты, она регулярно находится в интимных связях с другими. А я делаю вид, что ничего не замечаю. Она платит тем же. В частности, знает все о наших с тобой отношениях, но не возмущается, а, наоборот, создает самые благоприятные условия. Видимость семьи устраивает и ее и меня. Своему нынешнему любовнику, наверное, часто жалуется: «Павел Момот - ужасный человек, давно бы с ним развелась, но боюсь привнесть ущербность в его талант».
А ты? Так же стремилась не обращать внимания на мои теневые стороны ради «душевного спокойствия», которое, по твоим словам, необходимо «одаренному» человеку. Вы обе успокаивали себя: искусство требует жертв. И под аккомпанемент этой формулы лгали, изменяли, предавали. При этом не забывали вести меня по жизни с зашторенными глазами, закрыв их обязательно приятной бархатной повязкой. И кого взрастили? Художника с оранжевыми возможностями, а точнее - монстра.
Прости, я все извращаю. Это не вы меня, а я вас завел в болото. В роли ведущего ведь был я, а значит, я во стократ ви-новнее перед вами и перед собой. Это я мнил и продолжаю мнить себя «интеллектом», «творцом», «созидателем», указующим путь к истине. А если присмо¬треться - король-то голый! Мало того, из породы негодяев. Я не двуликий, а многоликий Янус. Встречаясь с тобой, обманывал жену. Ложась в постель с женой, в свою очередь лгал себе и тебе. Мало того, содержал вас, покупал, как еду и жилье. И зная это - сам же отрицал. Да и еще совершая подлость за подлостью - парил в небесах добродетели, писал, как мне казалось, шедевральные полотна. А в действительности эта мазня яйца выеденного не стоит. Ибо там отсутствует главное - правда жизни. А она такова, что ты, молодая, красивая, продавала свое тело старику. И снова готова его продавать - во имя искусства. Почему же я писал тебя с ангелами, изображал дитем солнца? Любовью с большой буквы? Ведь ты обыкновенная наложница! Зная все, я обязан был говорить об этом кистью. Разве для зрителей менее притягательной была бы картина, на которой нагая содержанка ублажает в постели почти парализованного деда-хозяина? Или отчего не показать старого худосочного художника, который пишет с натуры пышущую здоровьем юную любовницу?
Чем поражает картина Репина «Иван Грозный убивает своего сына»? Проникновением в трагическую глубь души, беспощадным обнажением звериного начала в человеке. Не только мы, зрители, потрясены, но и тот потрясен, кто на полотне. Царь безумеет от содеянного. А ведь мы с тобой тоже убили собственного сына. Но ни у меня, ни у тебя не было потрясения. И таких, как мы, сейчас миллионы. А покажи со всей страстью обличения это хладнокровное убиение младенцев - я, я, в первую очередь, был бы совершенно иным человеком! Я, ты, все разучились говорить правду не только друг другу, но и самим себе! Да, она горькая, она подлая, она угнетает. Но она не позволяет подымать крылья гнусу, не порождает розового безразличия.
От восьмидесятилетнего Чернобривца, который первым из пи-са¬телей в одном из своих очерков узрел в Брежневе «выдающегося го¬сударственного деятеля», - на днях я услышал: «Мы - обкраден-ное поколение. Мыслить нам разрешалось... только в угоду. Сталин прев¬ратил страну в каземат. Дышать свободно и то запрещалось. Дух сред¬невековых затхлостей начал выветриваться лишь сейчас».
Наше с тобой «десятилетие» выпало на конец этого периода, когда стали появляться отдушины. Я мог написать свою «Мону Лизу», создать реалистические картины. Но в моем сознании, как и у многих, про¬должалось гниение. Безнравственность, неискренность, лицемерие вошли в мою плоть и кровь. А если «творец» с червоточиной - деградация, упадок неминуемы и в его работе. Гойя только на закате лет, преодолев все границы жизни, увидел уродливые черты бытия, показал людей таковыми, как они есть. Он - гений! Потому что смог это сделать в подлинное средневековье. Мне бы войти в эти пределы! Но понимаю -исключено. Я заурядный, усредненный живописец - тот самый, кто утешает и потешает, но не будит мысль, не потрясает прозре-нием и пророчеством.
Я - серость в гамме красок жизни... А ты? Я так и не определил твой цвет.
...Скажешь - выдумал. Но это не так. Я в самом деле во время утренней прогулки нашел часы. Не «Луч», не женские. Мужские марки «Зоря». Вначале обрадовался: мол, добрый знак для нас с тобой. А потом сделал более трезвый вывод, - теряем время не только мы, теряют его многие.
К чему я пришел?
Наши встречи необходимо оборвать. Они бессмысленны. Ты только в первый раз будила мое воображение. А когда стал обеспечивать в Скупенске питанием, преподносить подарки - ты превратилась просто в удобную вещь, к примеру, в мягкий диван. Не веришь. Да, дорогая Любовь Миргородская, лицемерил я во всем: в поступках, в мыслях, в ласках. Ложью во многом пропитано даже предыдущее мое письмо.
Да! Да! Вплоть до сегодняшнего дня я был чудовищем, устроившимся на комфортном курорте. Теперь наступают лишения. Дай Бог, чтобы пришел черед и праведным мукам»
* * *
«Трудно поверить: минуло пять лет - а я все тот же, бездар-ный, ни¬кчемный. Порой вроде прозреваю - но кисть не слушается, все смазывает. Выше своего ничтожества мне подняться не дано. И еще парадокс. Перечитываю твои письма - и рука снова тянется изображать тебя, ве¬сеннюю, юную...»
Никополь, 1988 год.
ЛИЦА АГРЕССИИ
ШАКАЛ
В одном из городов нашей области 28-летняя мачеха арестована за убийство 12-летнего пасынка. В её показаниях следственным органам много противоречий и путаницы.
У этой молодой женщины есть что-то напоминающее повадки шакала. Этот зверь по агрессивности уступает многим хищникам. Те забьют жертву, полакомятся лучшими кусками мяса, а шакалы затем съедают остатки, а ещё чаще питаются падалью. Но когда шакал сильно голоден или ему угрожают – по ярости он равен волку… Вот и Марина с детства ощущала, что над ней постоянно нависает беда. Не успела после рождения научиться разговаривать и ходить, как в аэропорту, где работали родители, вспыхнул пожар – и погиб отец. На похоронах она мало что понимала, но в под-сознании остались рыдания матери. Потом они не раз врывались в её сны, пробуждая среди ночи и заставляя дрожать. А когда мать привезла её из России в Украину, и они поселились у бабуш-ки, тут её пугал вид инвалидов, которые жили в другой половине дома и приходились ей родственниками. Эти Иван да Марья вскоре умерли: вначале он, а через год и она. В Маринины детские уши соседи нашёптывали, что это её родная бабушка досрочно отправила их на тот свет, чтобы стать хозяйкой всего дома. Эти сплетни зарождали недоверие к близким людям, усиливая в повадках девочки скрытность и настороженность.
Не исчезли они и когда мать вторично вышла замуж. Отчим не жаловал падчерицу, мог ни с того ни с сего обругать или ударить. А если напивался, сама им брезговала, особенно непереносим был запах перегара. Тогда она убегала к бабушке. Та души в ней не чаяла. Но из-за бедности особых условий создать не могла. Правда, отвела на приусадебном участке несколько грядок. Внучка выращивала на них помидоры, синие баклажаны. Сама продавала и имела копейку на девичьи расходы… Возможно тогда она впервые поняла, что “деньги любят тех, кто их любит”.
Школу окончила “хорошисткой”. Но на учёбу в вузе средств не было. Устроилась на расположенный рядом завод контролёром ОТК. Потом выучилась на крановщицу – стала управлять в цехе мостовым краном. Жизнь всё чаще толкала её в такие ситуации, где торжествовало нахальство и только тот кое-что имел, кто не стеснялся объегорить соседей, товарищей. Это давило на душу, повергало в уныние.
После замужества возник вопрос: где жить? Вначале пошла в семью мужа. Но там свекровь – пальца в рот не клади. Хотелось уйти, но куда? На улицу?.. Выход подсказала бабушка. Рядом с её домом живёт одинокая 85-летняя Петровна. Полтора года назад она приняла опекунов – молодожёнов с ребёнком. Но в настоящее время ими недовольна. Мол, сходи к ней, поговори… Марина пошла к старушке с подарками, напомнила, как в детстве колядова-ла под её окнами, пообещала ухаживать, как за родной мамой. Петровна в течение дня выставила из дому на улицу вещи опе-кунов. Вместо них вселились Марина с мужем. И только бабуся составила завещание на дом и всё имущество, как в скорости… умерла… У Марины поначалу не было замысла травить благоде-тельницу. Но в первые же дни ухода за ней увидела, что это дело нелёгкое. И лекарства нужны, и вкусная еда. А где их взять, если на заводе второй год не платят зарплату? Вот и сгустились тучи. Надо или отказаться от опекунства, или… После кончины бабуси врачи не забили тревогу, так как та стояла на учёте как раковая больная: без обследования трупа выдали справку о смерти.
Шакал, который к тому времени уже поселился в душе Мари-ны, торжествовал. Унаследована целая усадьба! Но вот находиться в комнатах, где лишила жизни человека, отравительница не смогла. Поэтому в спешном порядке обменяла дом на просторную квартиру в многоэтажке. А ещё раньше развелась с мужем, который зарабатывал мало, а за каждую израсходованную копейку требовал отчёта. После “удачи” с жильём она уже не могла терпеть рядом с собой мужчину, который не в состоянии обеспечить семью да и ещё “постоянно талдычит, что у него есть честь и совесть”.
Вторично Марина не торопилась выходить замуж. Искала обеспеченного, надёжного. Такой вскоре подвернулся. У неё забо-лел зуб, пошла поставить пломбу, а врачом оказался 30-летний Алексей. Заметила, что после недельного курса лечения как-то трепетно посматривает на неё, - ответила чувственной улыбкой. А он сходу: “Выходи за меня замуж!” Любовь с первого взгляда. А что – бывает!
По душе пришёлся Марине этот немного импульсивный, но умный мужчина. Поняла: очень доверчивый и к тому же умеет зарабатывать деньги. Его любовь, что неостановимо звала к себе, притупила разросшиеся в её натуре жадность и жестокость. Супруг окружил её заботой, которую не могли дать ни спившаяся мать, ни бабушка. Улучшение питания и дорогие лечебные препараты помогли забеременеть, о чём раньше не могла и мечтать, так как гинекологи вынесли приговор: бездетность. Угрозу преждевремен-ных родов тоже удалось снять с помощью недешёвых профилакти-ческих мер. Венцом всех радостей стало рождение мальчика. В честь мужа Марина назвала его Алексеем.
Тут необходимо подчеркнуть, что супруг был добрым не только по отношению к жене, а вообще ко всем близким людям. Он не афишировал перед Мариной, но всё это время опекал сына Романа от первого брака. Навещал, обеспечивал материально. Когда Марина оформила длительный отпуск по уходу за только что родившимся Алёшей, Алексей решил взять Романа в свою новую семью. К этому подталкивали объективные обстоятельства. Способ-ный от природы мальчик плохо учился, в свои девять лет был фактически предоставлен улице. Марина возражала. Но супруг проявил твёрдость. Привёз из Кривого Рога Романа, выделил ему в квартире отдельную комнату. Приказал во всём слушаться мачеху, называть её мамой. Паренёк под влиянием новой обста-новки стал лучше учиться. А спустя три года, в шестом классе, по всем предметам имел не ниже семи баллов. Отец купил ему компьютер, поощряя мечту сына стать отличником.
Марине это не нравилось. Всё должно быть только для неё и её сына. Этот настрой усилился, когда делая, как обычно, утреннюю пробежку, увидела рядом мускулистого, подвижного мужчину. Он вышел на зарядку и в последующие дни. Завязалось знакомство. Его имя Виктор восприняла как очередную победу. Чтобы ускорить сближение, в теневой аллее сама обняла его и поцеловала. “Я сегодня приду к тебе”, - шепнул на ухо. “Это опасно, - застерегла. – Пасынок может помешать…”
В тот же день она позвонила в Кривой Рог к матери Романа и потребовала срочно забрать его. Вечером, выискав предлог, побила мальчика. Принялась подстраивать каверзы.
Алексей подарил сыну зонтик, тайком поломала его, затем мужу под нос тычет: “Смотри, что Роман творит!” Дал отец ребёнку деньги на школьные мероприятия – пропали. Раз за разом оказывались помятыми тетради и дневник. А то мальчик приведёт с прогулки собачку, повесит поводок где положено. А на второй день ищет, не может найти. “Почему не кладёшь в отведённое место?!” – накидывается мачеха.
Интимные встречи с любовником не усмирили, а ещё больше взвинтили злобу к пасынку. Марина с нетерпением ожидала обеден-ных часов, когда в её квартире появлялся Виктор. Но одновременно с его приходом в башку ломилась тревога: “А что если Роман раньше времени вернётся из школы и всё раскроет? Отобрать у него ключи, которыми давно пользуется, нельзя. Это вызовет подозрение у мужа. Как тут быть?.. Может проще сгубить чужака?..”
Так шакалья логика побудила подсыпать в еду отраву. Роман не догадался, почему ему стало плохо: пошёл в школу с головной болью. Но, сопоставляя всё, Марина заёрзалась: “Если умрёт – эксперты обнаружат яд в крови… Как избежать разоблачения?..”
Позвонила Виктору. Он пришёл. В его объятиях на время отвлеклась от своего замысла… Но вот он, пасынок. Наконец явился. Стоит в дверях и растерянно смотрит, как они целуются… Виктор, словно по команде, подхватился и в одно мгновение за-хлопнул дверь, зашторил окна. А Марина, как коршун, набросилась на мальчика, у которого едва хватило сил прийти домой. “Не бей меня, мама!” – заплакал ребёнок. Но она сбила его с ног, накинула на шею петлю, затянула её и так подержала несколько минут… Виктор, врач по профессии, зафиксировал: пульса нет. Но Марина принесла из кухни нож: “Вскрой сонную артерию! Пусть сойдёт кровь!..” Тот очень “профессионально” выполнил приказ, не осоз-навая, что рядом со звериной сам становится зверем. Он так и не понял, что любовница заранее всё спланировала. Правда, обрадовал-ся, когда услышал: “Немедленно выметайся!”
Марина тоже молниеносно оделась. Ей необходимо алиби! Вот и поспешила к ровеснице Нине, что живёт ниже этажом, с порога спросила: “Который час?” «Пятнадцать пятьдесят», - последовал ответ. Видя, что лицо у подруги неестественно красное, и подумав, что это от жары, хозяйка предложила воду из холодиль-ника. Гостья сделала глоток и возвратила стакан. Она несколько раз посмотрела на себя в зеркало. Затем присела на диван, стала интересоваться всякими пустяками. После взяла лекарство, которое Нина по её просьбе принесла из филиала “Нашей марки” и, про-щаясь, опять спросила время... хотя имела при себе часы в виде перстня.
Дальше путь пролегал в детский садик, где забрала трёхлетнего Алёшу и с ним пошла к сестре мужа, квартира которой неподалёку. Там нашла зацепку, чтобы повести золовку к себе домой. Как ни в чём ни бывало открыла ключом металлическую, затем обычную дверь. Миновав прихожую и увидев в луже крови пасынка... закричала, забилась в истерике. Ещё несколько минут спустя бросилась навстречу прилетевшему к месту трагедии свёкру, зарыдала у него на груди, причитая: “Роман был таким добрым, таким послушным...”
А когда появилась милиция, ненавязчиво высказала пред-положение, что это дело рук грабителей. На виду у всех принялась искать свои драгоценности. Не нашла – и опять заплакала.
Притворство помогло Марине обвести вокруг пальца всех родственников. Но дотошные шерлоки холмсы во время дачи Мариной “свидетельских” показаний сразу же выявили фальшь. Им не стоило труда найти драгоценности, которые припрятала, отыскать ключи, которые забрала у мёртвого Романа, чтобы имитировать ограбление… Улик много.
Расследование продолжается… А вот муж до сих пор считает жену ни в чём невиновной. Ему трудно поверить, что пять лет жил с шакалом.
«Днепр вечерний»
ЛИЦА КОВАРСТВА
ПИСЬМА ИЗ ВЕРОНЫ
“Моя старшая сестра очень красивая. Поэтому я не удивилась, когда Валерию пригласили поехать в Италию в богатый дом горнич-ной. “Но с кем, - спрашиваю её, - оставишь дочек и мужа?” “С то-бой, - отвечает. – Меня берут на год с полным обеспечением и сверх этого будут платить 600 долларов в месяц. Из них сто – твои…”
Понимая, что это выгодно, я перебралась от родителей в квартиру сестры. Она ознакомила меня со всеми хозяйственными делами и уехала. Теперь каждое утро меня будили детские голоса. Двухлетняя плакса Катя всовывала пальцы в уши – не понимаю, почему именно в уши, - и просила: “Дай молока!” Приученный к молоку ребёнок повторял своё требование и в обед, и вечером. А Нина, четырёх лет, любила суп и блинчики… Я только тем и занималась, что бегала на базар, варила, мыла, купала.
Постепенно малыши ко мне привыкли. А вот сестрин муж Елизар, я чувствовала, постоянно оставался мной недоволен. То борщ не такой, как готовила Валерия. То слишком измельчена и пересолена редька (он считал её главным поставщиком витаминов и микроэлементов, употреблял перед уходом на работу и сразу же по возвращении с завода, где, кстати, не платили зарплату). Я всячески угождала зятю. Однако он не переставал хмурить брови.
Его неприязнь ко мне, как я понимала, крепла из-за того, что я как бы лишила его жены. Ведь Валерия не уехала бы на заработки так далеко, если бы я не согласилась заменить её по дому. Он вроде не замечал, что ради благополучия их семьи и я многим пожертвовала. Оставила работу, которую получила после окончания техникума. Взвалила на свои плечи заботу о Кате и Нине, в то время как мне уже пора создавать собственную семью, рожать своих детей.
Мы ссорились с Елизаром каждый вечер. Сказав какую-нибудь дерзость, он одевался и бежал в ближний бар заливать своё горе вином.
А то, вижу, возле бара подцепил какую-то кралю. Я как раз шла с племянницами в парк – и отшила эту особу, посадив Ели-зару на плечо Катеньку. Дама ретировалась. А зять по требованию малышей повёл нас к “чёртовому колесу”. Сидя рядом с ним в кабинке, я поняла, что ревность к той женщине не случайна. Ещё до своего замужества сестра как-то попросила вместо неё пойти к Елизару на “свидание”. (Валерия в тот вечер встречалась с другим. Она - выбирала, сопоставляла). Тогда мы тоже оказались с ним в парке. Я, пятнадцатилетняя девчушка, не знала, как себя вести. Ибо довелось врать, что сестра неожиданно заболела. Он же принял всё за правду. И так бурно встревожился за её здоровье, что я едва не засмеялась. Но потом почувствовала нежность к довер-чивому парню – и стало стыдно… Сейчас тоже ощутила симпатию к Елизару.
Он наверняка уловил моё к нему доброе чувство, ибо за целый вечер не обидел ни единым словом. Дома сообща уложили в кроватки Нину и Катю. Вместе поужинали и пошли смотреть телевизор, который стоял в его комнате. Кино шло увлекательное, но какое-то жуткое. От страха меня бросило в дрожь, и я не заметила, как оказалась в объятиях Елизара.
После он сказал:
- Извини. Я не хотел. Просто моё тело соскучилось по жен-щине.
Я так поняла: он сожалеет, что изменил жене. И, возможно, ему совестно: не ожидал, что я окажусь девственницей. Мне тоже было не по себе. Никогда не предполагала, что первым мужчиной в моей жизни будет женатый человек, да ещё и муж сестры.
На следующий день меня охватила паника: что я наделала? Как могла? Как посмотрю в глаза Валерии?.. А тут несут от неё письмо. “Я живу в Вероне в настоящем дворце, - сообщает сестра. – Усадьба похожа на ту, где поселилась, выйдя замуж за князя, бывшая подруга писателя Лимонова. У меня тоже есть возможность влюбить в себя хозяина, бывшего режиссёра. Он вдовец… Без обиняков предложил доллары за интимные услуги. От денег я отказалась, рассчитываю на большее… Но выйти за него замуж и забрать сюда детей смогу только в том случае, если бесконфликтно разведусь с Елизаром… Соблазни его, живи с ним. За это увеличи-ваю тебе плату на сто баксов…”
Это письмо развязало мне руки. Теперь не надо уклоняться от новых контактов с зятем. Но ему о планах Валерии ничего не сказала. Он, в свою очередь, делал вид, что её как бы не существует. Выглядел беззаботным. Перестал выпивать. Играл с детьми, помогал мне готовить еду, стирать. Для всех нас выписал на десять дней путёвку на заводскую базу отдыха в Крым. Там, на море, дети стали называть меня мамой Верой. Он не возражал, наоборот, закреплял в их сознании эти слова фразами типа: “Идите к маме Вере в воду”, “Поплавайте, как мама Вера”, ”Подайте маме Вере круг”.
После Крыма Елизар остался таким же обходительным. Зная, что я в техникуме лучше всех работала у кульмана, привлёк меня к изготовлению чертежей. Он, как заводской инженер, взялся за внедрение ценного новшества. Одна из операций в цехе выполнялась вручную. А он нашел способ перевести её в автоматический режим… Я переживала: удастся ли Елизару довести дело до конца?
Задуманное он осуществил. Но при этом пострадал. В тот день, когда запустили новый автомат, ко мне прибежал его напар-ник и сообщил: ”Зорик травмирован, находится в реанимации”. Как была я в домашнем халате, так и побежала в больницу, оста-вив детей на соседку. Перед дверью, за которой Елизару делали операцию, остановилась, ломая руки и рыдая... В те жуткие часы ожидания как бы ощущала, что режут и сшивают не его тело, а моё.
Спасибо врачам: они не оплошали. В знак благодарности за спасение жизни зятя я отдала им все доллары, что к тому времени получила от Валерии. Мне разрешили быть возле больного. Для детей наняла няню. А сама дневала и ночевала у его постели. Следила, чтобы своевременно ставили капельницу, меняли повязки. Варила бульоны, кормила с ложечки.
А сестра в этот период писала: “Хозяин-режиссёр склонил меня к своей идее возрождения культа древнеримских куртизанок. Поверь, я не хотела этим заниматься, так как это та же скрытая проституция. Но он посулил большие деньги – и устоять не смогла. Он создаёт сценарий, даёт режиссёрскую установку. А потом... Приглашает в дом солидного бизнесмена. Отрекомендовы-вает меня хранительницей домашней библиотеки. Я сопровождаю гостя к стеллажам, показываю книги, фамильные драгоценности, портреты знаменитостей, живших когда-то в этом доме, угощаю вином столетней выдержки... И всё это время двигаюсь так, чтобы видел, какие у меня стройные ножки, какая роскошная грудь. Говорю тихо, затем увеличиваю звучание голоса, чтобы ощутил, как постепенно пробуждается во мне чувственность. При этом глаза увлажняются, а то и слеза блеснет... Увлечённость выражаю как можно проникновеннее, чтобы не усомнился в искренности моих чувств. Естественно, он назначает свидание - и мы раз в две недели (на большее он не способен) тайно встречаемся в ук-ромном месте. И таких “любовников” у меня четырнадцать. На каждый день по одному. Чтоб не сбиться с графика встреч, я завела специальную книгу учёта. Уже с утра повторяю имя “сего-дняшнего избранника”, чтобы не спутать с другими. Представь: я неплохая актриса. Каждый уверовал, что он у меня единствен-ный, что он мой Ромео, а я его Джульетта.
Мне нравится эта игра. Тем более, что за каждого из любовников режиссёр обещает по пятьсот долларов в месяц. Так что есть возможность сколотить собственный капитал. А уж подходящего жениха я не упущу”.
Составляя ответ на это письмо, я не сообщила сестре ни о трагедии, что нас постигла, ни о близких моих отношениях с Елизаром. Пусть спокойно устраивает свою жизнь в Италии. Может, и нам от её богатства что-нибудь перепадёт… Я вся ушла в заботы о больном. Уже удалось поднять его на ноги. Он ходил с помощью костылей. А когда их выбросил и, выписавшись из больницы, переступил порог квартиры – во всех комнатах вроде посветлело. Насмотреться на него не могла. Дети тоже не отходили от отца. Катя беспрерывно просилась на руки. А Нина изловчилась взбираться не только на плечи, но и на голову, и всё время приговаривала: “Ты моя лошадка – не бегай шатко!”
В те счастливые дни я и забеременела. Чтобы убедиться в этом, спустя месяц обратилась к гинекологу. Тот, после комплекс-ного обследования, огласил непредвиденный диагноз: будет двойня.
Эта весть радостью и тревогой ударила в сердце... И в тот же день получаю новое письмо от Валерии.
“Я в шоке, - пишет сестра с несвойственным для неё разбросом букв. – Режиссёр за куртизанство никаких денег не дал. Говорит: клиенты отказались платить, сама с них требуй. Я, понятно, перего-ворила с каждым. Все утверждают, что воспринимали встречи со мной как настоящую любовь, а если я продавалась – то ничего, кроме презрения, не могут предложить. Тогда я заявила одному из них: “Да, я люблю тебя. Женись на мне.” Но и тут – осечка. И с другими тоже самое. То есть заранее всё было “отрепетирова-но”: надули итальяшки славянку… Я здесь никто, так как проживаю нелегально… Сейчас сама ищу клиентов. Хочу хоть немного подзаработать перед отъездом домой… Следи за Елизаром, чтоб не загулял. Готовь его к моему возвращению”.
А как готовить, если после прочтения этого письма вот уже две недели у меня всё валится из рук? Словно меня неожиданно бросили в подземелье, на руки и ноги надели цепи и требуют передвигаться как можно быстрее… Дышать тяжело, не хватает воздуха, а хочется жить… Может открыть зятю глаза на “заработки” Валерии? Но имею ли я право предавать сестру? Тем более, что на протяжении года и Елизар, и я получали от неё переводы и жили, по сути, за её счёт… Я бы спокойно ушла в сторону, если бы не полюбила, если бы не забеременела… Посоветуйте: что мне делать?”
ЛИЦА ДОВЕРИЯ
ЛЮБОВЬ БЕЗ ПОЦЕЛУЯ
“Любовь есть небесная капля, которую боги влили в чашу жизни, чтоб уменьшить её горечь”. “Страдание любви слишком сладко, чтобы искать от него излечения”. “Любовь – самое мощное человеческое чувство”. ”Любовь есть сама жизнь”. “Любовь сильнее смерти и страха смерти”. Эти изречения классиков – о самом ценном даре, данном нам природой. Человечество в течение тысячелетий этот дар шлифовало, совершенствовало.
…Письмо, которое с ведома его автора передал для публикации никопольчанин Пётр К., помечено именно такой силой чувств и внутренним трагизмом. Я ничего не менял в нём…
«Здравствуй, Петя! Это пишет тебе твой друг детства Олег Мельниченко. Не знаю, что сейчас говорят обо мне, – ведь в тюрьме нахожусь. Поэтому и хочу исповедаться. А чтобы ты глубже врубился в мою ситуацию, сразу скажу – всё произошло из-за любви.
Тебе известно, после института я 20 лет преподавал русский язык и литературу. А когда по этим предметам число уроков в школе сократили, стал безработным. Околачивался в центре занятости около года. А потом устроился в продуктовый магазин грузчиком.
Как-то привезли полный КамАЗ товара. Таскал ящики, устал, сел передохнуть. А Филлип, экспедитор, кричит: “Простой машины! Давай, не сачкуй!” Этот парень – сажень в плечах - мог бы помочь. Но он уселся за столиком: учёт ведёт. А вот продавец по имени Кира, молодая, на вид не очень крепкая, подбежала подсобить. Вдвоём мы и завершили разгрузку.
В штате магазина – в основном женщины. Но мне они каза-лись на одно лицо. Не привык на женщин засматриваться. А вот после той поддержки, что оказала Кира, возникла неожиданная лёгкость в мышцах. Словно девушка подарила мне силу.
В другой раз смотрю – Кира плачет. Отпускает сахар покупателям – и прямо на весы слёзы капают.
- Кто обидел? – спрашиваю.
- Три ящика водки пропало. Я их приняла, расписалась. И вот – вроде сквозь землю провалились.
- А ты отлучалась куда-нибудь?
- Завмаг вызывал на пару минут...
Мысль у меня ухватистая. Помнишь, не решив задачку, в класс не приходил. Ночь просижу, но докопаюсь до этих самых иксов и игреков. Вот и в этот раз тоже с точностью до единицы вычислил, кто в минуты Кириной отлучки мог “поднять” вес в 60 килограммов. Затем взял девушку за руку, вывел во двор и указал на загородку, где складируют пустые ящики. Впритык к этой загородке стоит “мерс” экспедитора Филиппа. Но обвинять его в воровстве Кира не стала. Она так обрадовалась находке, что, как ребёнок, кинулась в пляс, смеялась, обнимала меня.
А мне… хотелось взять девушку на руки, унести, куда глаза глядят. Но я сдержал этот порыв чисто мужских чувств.
Зато после весь вечер в моём воображении высвечивался образ Киры. Вроде ничего броского. Продолговатое лицо, узкие губы, какой-то детский полуиспуг в глазах. Но ещё я безошибочно ощущал исходившую от неё безудержную радость и призывную нежность. Вот теперь она вдалеке, а я ощущаю: думает обо мне. И я о ней тоже…
В последующие дни я часто подмечал на лице Киры задумчи-вую и всё ту же еле заметную растерянность. Но взгляд больших глаз по-прежнему был ласковым. Поэтому с удовольствием таскал к ней в отдел мешки с сахаром и крупой. Помогал распарывать ножом швы… Во время оперативок мы тоже поддерживали друг друга. Когда экспедитор Филипп упрекал её, что с опозданием подаёт заявки на товар, я напоминал ему о случае с водкой.
Наши с ним перепалки постепенно превращались во вражду. Начальство в суть спора не вникало, а коллективу вообще было всё до лампочки. Люди предпочитали ни во что не вмешиваться.
Да я ни в чьих симпатиях и не нуждался. Мне достаточно было Кириного расположения. Она всегда озаряла меня своей юной улыбкой. Даже если к прилавку подходил её бывший одноклассник Мишка и заводил речь о свидании, Кира находила предлог сказать мне пару милых слов. А от Миши всячески отделывалась, советовала больше не приходить.
Под Новый год в магазине организовали вечеринку. Кира не отходила от меня ни на шаг. Шампанское выпили на брудершафт. Испробовали очень вкусный кагор. Участвовали в разных смешных соревнованиях, выиграли забавную куклу. Танцевали, даже вместе пели. Потом неизвестно как оказались на пару в подсобке. И тут Кира неожиданно выключила свет и попросила поцеловать её.
- Этого мы не должны делать, - твёрдо сказал я.
Сказал – и задохнулся от волнения. Ведь уже более месяца мечтал о подобной минуте. Да и хмель подогревает. Такого чувства, как к Кире, прежде ни к жене, ни к кому другому не испытывал. Ложился и просыпался с ощущением, что, хотя видимся только на работе, хотя между нами и стоит какой-то неопределённый барьер, всё равно вскоре станем одним целым.
Отчего же сейчас, когда приблизился этот миг, я отступил?
“Да, - думал я не раз бессонными ночами, - я боюсь за её бу-дущее. Ей всего 21 год, а мне уже 48. На весах жизни мы не рав-ны. Если даже разведусь с женой и соединю свою судьбу с этой девушкой, - её счастье будет призрачным. Разница в возрасте даст о себе знать уже завтра. Она, как подснежник, восприимчива к теплу. Ей пора рожать детей, обретать материнскую силу. А я разве помощник? У меня сын и дочь почти её лет. По этой причине наша любовь не сможет иметь продолжения в семье. А временная связь с пожилым мужчиной зачем Кире? Получится, что я обману её надежды!”
- Прости, - сказал я Кире. – Давай нашу любовь, чтобы не замутить её, переведём в сердечную дружбу… Да и перед Мишей мне неудобно. Знаешь, он застенчивый, но для тебя – золотой!.. Ес-ли у меня появится внук – назову его именем, а внучку – твоим.
Кира не обиделась. Она очень чуткая. И мои слова, как оказалось потом, только укрепили её веру в мою порядочность.
Но в магазине люди разные. Нашлись такие, что подсматрива-ли и подслушивали. То, что произошло в подсобке, вскоре стало главной темой сплетен. Это подтолкнуло Филиппа атаковать Киру наглым ухаживанием. Проходит мимо прилавка и будто между прочим бросит Кире:” Пригласи меня на танец.” А однажды об-хватил её руками и не выпускал! Мне пришлось вмешаться. В следующий раз этот ловелас подстерёг Киру в подсобке. Она за-кричала. На помощь прибежал не только я, но и другие мужики. Хотели милицию вызывать, но он задобрил всех бутылем самогона. Выпить мировую отказались лишь я и Кира.
Эта искренняя человеческая солидарность питала наши души и поднимала над пошлостью. Но Филиппу она встала поперёк горла. Он буквально неистовствовал, открыто мстил. И чем дальше – тем больше. Обвешивал Киру при передаче товара, умножал недостачи. Уклонялся от выполнения её заявок, снижал выручку. Мне устраивал обструкции.
Так было и в то воскресенье. Покупателей в отделах много, работы невпроворот. Мне поручили помочь мяснику. Рублю коровью тушу. Кость старая, крепкая. А тут, откуда ни возьмись, Филипп с косяком таких же, как он, братчиков.
- Прекращай! – кричит, - Олег Глебович, сидеть собакой на сене! Займись этой Кирой! А если не можешь – позволь мне. У тебя, говорят, в ответственный момент поджилки дрожат.
- Потаскух и всяких “прикольных” бери сколько хошь. Но путевую девку не дам испохабить! Не позволю!
- Праведником прикидываешься? Евнух! Интеллигентишка! Сейчас все увидят, какой ты трус.
Он резко положил на колоду, что предназначена для рубки мяса, правую руку – и закричал:
- Докажи, что ты не жаба! Эту сладенькую, что любит под бабьими юбками шастать, - отсеки! Отруби!
Я взмахнул топором – и кисть отлетела. Да так резко, что попала на прилавок к мяснику… Покупатели , что стояли в очереди, мгновенно рассеялись по залу…
… Меня арестовали, дали три года тюрьмы. И буду пожизненно выплачивать Филиппу компенсацию за увечье.
А как же Кира? После моего прибытия в зону она на второй же день появилась здесь. Добилась свидания и заявила:
- Хочу быть с тобой. Устроюсь в вашей колонии или где-нибудь поблизости.
- А отец и мать разрешили?
- Меня тетя воспитывала. Я за руку ее взяла, посмотрела в глаза – и она без слов меня поняла. Я обязана облегчить твое здесь прибывание.
Петя, я не знал, что делать. Я не мог сломать жизнь любимой женщине. И потому решил ее оттолкнуть резкими словами. Сказал, что после суда в моей душе все перевернулось. Что это она во всем виновата, столкнув нас с Филиппом. И поставил условие:
- Если действительно я тебе дорог, возвращайся домой, к Мише. Он, уверен, в тот же день поведет тебя в загс. Это и будет моим счастьем. Хочу знать, что рядом с тобой порядочный, любящий муж. А я – мужик, который годится тебе в отцы. Это разве нормально?
Моя грубость возымела действие. Кира уехала. Вскоре она действительно вышла замуж за Мишу. А недавно у них родился сын. Сообщает в письме, что муж предложил назвать его моим именем. И сознается, что по-прежнему продолжает любить меня. Я тоже мысленно всегда с ней. Нет, она мне не снится. А как бы наяву, касается плеча, пожимает руку. Трудно мне – взбодрит, весело – вместе с Кирой смеемся… Вот назвал ее имя – и струится необыкновенная нежность к ней. И теперь уже целый день буду мысленно ее видеть. Без воздуха легче, чем без нее… А приедет на самом деле – опять отрекусь, не посмею даже поцеловать… Утешусь тем, что ни один мудрец в мире не определит, что лучше: спать с любимой или отказаться от нее и светом своей любви жить до конца дней…
Вскоре Кира должна привезти ребенка показать. Какой будет встреча? У меня, Петя, и радость, и горе на душе. И наслаждаюсь чувством любви, и страдаю. Сейчас сознался в этом, и слеза упала на лист. Может, я двойной преступник: и ее сердце погубил, и свое? Ведь, не пробудись во мне дьявольский инстинкт самца, разве тогда отрубил бы руку человеку? Я бы посмеялся над Филиппом – и делу конец. Эта страсть, или как это назвать, завела меня в западню, и что будет дальше – неизвестно…
Посоветуй, Петя, что делать?…»
Публикуя письмо Олега Мельниченко, я, в свою очередь, пере-адресовываю его вопрос вам, дорогие читатели. Жду откликов-советов. А если кто пережил любовную трагедию, не похожую ни на эту, ни на другие ранее описанные, опишите ее и пришлите мне.
«Днепр вечерний»
ЛИЦА ОРГАЗМА
КРУИЗ
Любимый! Не представляю, как встретимся на суде. Поверь: мне больно, очень больно. Я не хотела смерти твоей жены. Со дня рождения и до своих тридцати трех лет ни в один миг не подумала, что когда-нибудь меня обвинят в убийстве.
Сейчас в СИЗО, куда заточили, - вонь, неуют. Но вот воспо-минания ко мне приходят - и я будто в раю. Снова в Одессе поднимаюсь по трапу на белый теплоход, который через час отпра-вится в круиз по Средиземному морю. В конце трапа неожиданно спотыкаюсь - и чувствую, как твердые руки подхватывают снизу и выжимают, как штангу. Это ты, силач, спасаешь нерасторопную пассажирку от падения в воду. Обмениваемся улыбками, затем фразами. Чемоданы уже у тебя, сопровождаешь к каюте. Но так же незаметно, как появился, - исчезаешь.
На следующее утро выхожу с этюдником на палубу. Хочу «перенести» на полотно кусочек Черного моря, которое уже к вечеру оставим позади.
Вдруг перед облюбованным мной пространством возникаешь ты под руку с дамой. Она чуточку ниже тебя ростом, фигуристая, подвижная. Волосы русые. Вы о чем-то перешептываетесь – и она удаляется. А ты подходишь ко мне, предлагаешь позировать на фоне волн. Мы знакомимся. Тебя, оказывается, звать Дарий, как одного из царей древности. Мое имя Павлина в сочетании с фамилией Целоусова вызывает у тебя улыбку:
- У меня нет усов, но прямо-таки жажду поцелуев павлина.
Шутка мне понравилась, подхожу и целую тебя в губы. Не ожидала от себя такой смелости. Но ты уже не выпускаешь меня из объятий. Пальцы у тебя цепкие, дыхание какое-то ароматное... Мне приходится прибегать к строгости и резкости. С трудом высвобождаюсь.
До обеда ты позируешь, я – рисую. Обоюдно рассматриваем друг друга, беседуем. Я узнаю, что ты работаешь на нашем заводе горновым в плавильном цехе. В детстве и юности увлекался борь-бой. Теперь твое хобби - мастерить все по дому. Своими руками сделал кухонный стол, табуретки, этажерки и даже тумбочку под телевизор. Книги читаешь любые, какие под руку подвернутся. За плечами у тебя металлургический техникум, но не перестаешь расширять кругозор. По мере возможностей знакомишься с историей музыки, архитектуры, живописи, поэзии. У тебя покатые плечи, ровный торс, ты - коренастый, немного сверх нормы упитанный. Но голубые глаза, высокий люб, кудрявая шевелюра и плавные жесты делают тебя вроде бы привлекательным. Правда, ты не в моем вкусе. Мне всегда нравились высокие, стройные. За такого я вышла замуж, родила ему двоих сыновей. Казалось, любила. Искренне заверяла, что еду в туристическое путешествие только ради того, чтобы приобщиться к итальянской культуре. Ведь большую часть времени нашей группе предстоит провести в Риме, Флоренции, Милане и Венеции. Я окончила художественное училище, работаю оформителем афиш на заводе. Выбираться на этюды, творить что-то свое было некогда. С головой ушла в семейные будни. Старшему Алеше десять, младшему Игорю - семь лет. Они главные мои ««произведения», для которых я делала все, чтоб росли, не болели, были одеты, накормлены.
А теперь у меня месяц свободы. Семья осталась дома. Я - од-на… И вот, выходит, в первый же день подставила губы «чужому дяде»?
За обедом вижу тебя за одним столиком с той рыжей дамой. За ужином - тоже.
На вечерней дискотеке приглашаешь меня на танец. Спра-шиваю, кто она.
- Это моя жена. Но у нас уговор: на время круиза отдыхаем друг от друга. Она с кем захочет развлекается, мне также можно «прыгать в кусты».
- Ну и как - выбрал пассию? - я почему-то перешла на «ты».
- Пока об этом не думал. Но кое-что уже само собой наклевывается...
- А твоя жена, смотри, с капитаном теплохода в пляс пошла...
- Если захочет, она охмурит любого мужика.
Разговор с тобой мне кажется постным, неинтересным. Вскоре я прощаюсь и ухожу к себе в каюту.
Наступивший день выдался дождливым. Только после обеда я решилась продолжить рисование. Ты объявился тут как тут. Но на этот раз позировал с книгой в руках. Читал что-то об Италии.
С мольберта твой портрет я сняла в тот день, когда наш ту-ристи¬ческий теплоход пришвартовывал в Римском порту. Дарить его тебе не стала, хотя ты многократно выражал такую просьбу. Отказ объяснила тем, что нет схожести, что лицо получилось ка-ким-то размытым, неестественным. Ты не огорчился и, как бы оправдывая мое фиаско, выдал плоскую шутку:
- Фамилия у меня Опарин. Так что и должно было получиться что-то похожее на булочку или пирожок.
На берегу с тебя сошла апатичность. Во время экскурсий по Риму раз за разом задерживал меня возле какого-нибудь памят-ника, группа уходила вперед, а ты, жестикулируя, заводился.
- Взгляни! - бросал руку вправо. - Перед нами известный всему миру Колизей. Это трехэтажное сооружение (позднее был добавлен и четвертый этаж) со сложной системой коридоров, лест-ниц и вентиля¬ционных отверстий было построено императорами из династии Флавиев по единому плану и вмещало около пятидеся-ти тысяч зрителей. Но вот загадка: почему этот величественный амфитеатр Флавии возвели, разрушив Золотой дворец Нерона?..
- А разве, - прервала я Дария, - Нерон, поджегший Рим ради удовольствия видеть, как он будет гореть, не погиб во время пожара?
- Поджог, происшедший в 64 году новой эры, ему приписыва-ют. Наоборот, Нерон известен как император-строитель. После по-жара он полностью реконструировал центр Рима, расширил улицы, ограничил высоту домов. А между Палатином и Эсквилином возвел Золотой дворец. Историк Светоний сообщает: «Прихожая в нем была такой высоты, что в ней вмещалась статуя императора ростом в сто двадцать футов, площадь его была такова, что тройной портик по сторонам был в милю длиной... В остальных покоях все было покрыто золотом, украшено драгоценными камнями и жемчужны-ми раковинами... Главная палата была круглая и днем и ночью безостановочно вращалась вслед небосводу; в банях текли соленые и серные воды. Когда дворец был закончен строительством и освящен, Нерон сказал: «Теперь наконец-то я буду жить по-человечески».
- Откуда ты все это знаешь?
- Ты рисовала, а я штудировал брошюры.
Из твоих интерпретаций выходило, что культурное развитие Древнего Рима прервалось не вследствие нашествия варваров во главе с Аттилой, а в результате морального разложения правителей. Они погрязли в наркомании, педерастии, разврате. Власть потеряла авторитет - и империя рухнула.
В твоем голосе не было уверенности, но в нем присутствовали нежность и какая-то потаенная грусть. От этого и статую Марка Аврелия, и лик Святого Павла, и фонтан Слез, и фрески в храме Венеры и Рома, и множество иных памятников я воспринимала с чувством радостного ожидания. А когда в римском пантеоне - храме Всех Богов - ты коснулся моей руки, - возникло ощущение, что твоя сущность в чем-то сходна с обликом архитектора Аполлодора, построившего этот пантеон.
Чувство твоей, а затем и моей причастности к добрым челове-ческим делам усилилось, когда знакомились с творениями ренес-санса. Мазаччо, Донателло, Брунеллески, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело Буонарроти - титаны, на плечах которых держится земная цивилизация, - ввергли душу в стихию каких-то космических восприятий, вселили уверенность в незыб-лемость красоты. Я ощущала себя и Моной Лизой, и Мадонной Конестабиле, и персонажами «Троицы», «Афинской школы», «Тай-ной вечери»... Я была в одно и то же время и гением, который соз-дает шедевры, и несчастным Рабом, образ которого создал этот гений.
Увидев в Ватикане роспись Сикстинской капеллы, мы как бы вошли вовнутрь фресок и стали частицей этого священного чуда. В пространстве шестисот квадратных метров Микеланджело разместил несколько сот фигур: целый народ, где есть и младенцы, и постигающие влечение юноши и девушки, и слитые в похотливых объятиях мужчины и женщины, и могучие духом пророки и сивиллы... Эти моделированные светотенью обнаженные человеческие фигуры снизу воспринимаются как настоя¬щие... Вот, не останавливаясь в своем вихревом полете, Бог-демиург едва касается протянутой ему навстречу инертной руки Адама - и тот у нас на глазах как бы оживает, начинает шевелиться и говорить с нами... На меня, да, думаю, и на тебя такой шквал эмоциональ-ных импульсов, исходящих от множества сюжетных композиций и лиц, хлынул впервые. Он обоих нас будто раздел донага, обна-жил наши сердца и мысли. Под его воздействием в каждую клетку ворвалось вроде бы божественное сияние. Это оно вначале медлен-но опустило меня и тебя на колени, а через мгновение соединило обоих в поцелуе. Чувственное слияние возникло непроизвольно, помимо моей и помимо твоей воли. Образы, созданные художни-ком, излучали так много любви, приводили в движение такие сильные перекрестные потоки интимных ощущений, что, глядя в глаза друг другу, мы оба неожиданно заплакали. Я водила рукой по твоему лицу, ты - по моему. Вокруг нас вроде что-то пылало, помогая впитывать энергию, исходящую не только от фресок, но и от витающей здесь души их автора.
Это потрясение, эта тайна заставили нас в тот день не изречь ни единого слова.
А ночью я увидела в иллюминатор твое лицо. Ты стоял на палубе против моей каюты, и по твоим щекам... текли слезы. Мы пробыли в состоянии отрешенности до рассвета.
Вторую ночь тоже провел у моего иллюминатора. На третью я открыла дверь - и ты упал к моим босым ногам. Целовал стопы, голени, бедра. Каждую волосинку на голове перебрал пальцами, каждого сантиметра тела коснулся руками или губами. Это были горячие, обжигающие страстью прикосновения. Не помню, что дальше проис¬ходило. Мое сознание ушло в какое-то голубое чувство, переходящее затем в красные и желтые оттенки. Я что-то видела, что-то ощущала. А потом меня охватила мягкая и сладкая волна восхождения к сексуальному безумию. Я впервые от движения члена по влагалищу визжала, стонала, рыдала, кусалась. Это был первый в моей жизни оргазм.
После этой ночи муж перестал для меня существовать. Я просто забыла, что он есть на свете. Забыла даже о твоей жене, которая мелькала в зале приема пищи, вертясь возле капитана и какого-то пожилого в роскошной одежде пассажира. Весь остаток круиза мы с тобой загорали, купались. Во Флоренции несколько раз посетили церковь Санта-Мария, в Милане вместе слушали оперу «Отелло» Джузеппе Верди. Порой мне не верилось, что может быть такой взлет духовной и интимной гармонии. Я засыпала и просыпалась с твоим именем. «Дарий, - говорила я себе, - пробудил во мне небесную гамму чувств и ощущений. Не повстречай его, я бы никогда не узнала, что на свете существуют сладчайшие краски всепоглощающей страсти - страсти, ради которой готова пожертвовать всем, что есть у меня».
Но вот опять Одесса, родной берег. Мы ни о чем не договари-вались, никаких клятв и обещаний друг другу не давали. Но, возвратясь домой, я, не привыкшая ничего скрывать, сразу же рассказала о нас с тобой мужу и с этого момента отказалась от интимных отношений с ним. Полагала, что точно так же поступишь и ты, разведешься с женой и мы соединим свои судьбы.
Однако хорошо зная, где я работаю и где живу, ты не явился ни через день, ни через неделю... Пришлось искать тебя...»
- Встать! Суд идет. Вопросы к обвиняемой есть?
Прокурор:
- Когда вы впервые переступили порог квартиры Опариных, кого встретили там?
Целоусова:
- Жену Дария Эмму. Она сказала, что мужа нет дома, пошел к своей первой жене поздравить дочь Людмилу с пятнадца¬тилетием. Взял с собой и их общую с Эммой дочь - восьмилетнюю Лору. До этого о детях Дария я ничего не знала. Для меня это стало «открытием». Я спросила: «С кем оставляли Лору на период круиза?» «С моей мамой», - ответила Эмма. Она, кстати, все время смотрела на меня исподлобья, не скрывая желчной неприязни. Посоветовала заниматься воспитанием своих сыновей и не терзать их дружную, как она выразилась, семью.
Прокурор:
- Вы вняли этому совету?
- Хотела, но не смогла. Меня снова потянуло к дому, где жи-вет Дарий. На сей раз он был в квартире, притом один. Я так ис-тосковалась по его ласкам, что первой прильнула к губам. А спустя минуту уже лежала на кровати в сильных мужских объятиях. Вся горела, дрожала. Снова испытала такой взрыв наслаждения, что согласна была умереть за его повторение. Мы пробыли в постели до обеда - пока Дарий не напомнил, что вот-вот должна прийти жена. Она рядом в какой-то конторе бухгалтером работает. Я ушла, ушла с ощущением счастья. Теперь я узнала, что он работает в три смены, а жена только днем. Занявшись соответствующей арифметикой, высчитала дни, когда Дарий один дома, и стала наведываться к нему. Наслаждение с каждой встречей росло. Но однажды, это было 3 сентября, он сказал...
Судья:
- Свидетель Опарин, повторите суду, что вы сказали Целоусовой третьего сентября?
- Я изложил свой взгляд на наши отношения. Объяснил, что люблю ее, но встречаться больше не буду. Почему? В семнадцать лет я начал целоваться с одноклассницей. Потом предпочел ей девушку, которую безответно любил три года. Но в двадцать лет мое сердце снова вспыхнуло необычным чувством - на этот раз к Наталье, мы поженились, прижили дочь Людмилу. И вдруг через шесть лет у нас с живущей в соседнем доме Эммой завязался роман. Это было что-то доходящее до умопомрачения, она родила мне дочь Лору - и я перешел жить к ним. А теперь, возвратясь из круиза, я понял, что не имею права сиротить ребенка. Любовь, страсть переменчивы. Может, сердце еще, еще и еще раз воспламенится неодолимым влечением. Нельзя же из-за этого обре¬кать детей на безотцовщину?
Судья:
- Подсудимая, подтверждаете слова свидетеля?
- Изложил все точно.
- Вы согласны с его доводами?
- Нет. Чтобы отстоять нашу любовь, я и явилась к Дарию на второй день. По моим подсчетам, он должен быть дома. Однако меня поджидала Эмма. Она заявила, что Дарий поручил ей отрез-вить меня. Напомнила, что в круизе находилась вместе с мужем. «Он, - сказала Эмма, - заключил пари с одним из богатых пассажи-ров, что уломает тебя. Я, естественно, помогала ему. Этот выигрыш мы истратили на приобретение италь¬янской обуви и трикотажа». «Врешь!» - заявила я. «А помнишь, - парировала она, - как Дарий три ночи плакал под твоей дверью? Согласна, слезы у него были натуральными. Но лились они не из-за страсти к тебе, а вследствие обиды. Я выгоняла его из нашей каюты, побуждая к выигрышу в споре. А когда не подчинялся, звала на подмогу капитана тепло-хода, мужика на две головы выше моего мужа. Он одной рукой скручивал Дария и вышвыривал. Мы закрывались, а Дарий конал ночи на палубе. Пока ты не пригласила его в свою каюту. Созна-юсь, вследствие такого моего поведения он прилип к тебе, как улитка к питательному стеблю. Были моменты, когда мы могли навсегда расстаться. Но я, как женщина, сильнее тебя. В постели я делаю ему такое, что тебе и не снилось. Учти, это я научила его достигать в сексе высшего блаженства. Ты ему не нужна. Он прикован ко мне цепями - цепями похоти. Дарий не решился сказать тебе это в глаза. Пойми, наконец, он тебя не любил и не любит!» «Неправда! - возразила я. - Еще вчера на твоей кровати он обцеловал все мое тело». «Это муж сделал по моему приказу, - Эмма язвительно улыбнулась. - Но теперь лавочка закры¬вается - ставим точку». «Нет! - мои нервы взвинтились. - Я не отступлюсь от Дария. Не уйду из вашей квартиры, пока он сам не попросит меня отсюда». «Выметайся! - завопила Эмма. - Не вынуждай к крайней мере!» Она схватила со стола увесистый кухонный нож и, сделав звериное лицо, шагнула в мою сторону. По глазам я ощутила, что всего лишь берет на испуг. Однако инстинктивно прибегла к самообороне. Двумя руками вцепилась в руку, сжимав-шую рукоятку ножа. Вырвать его мне не удалось. Эмма оказалась изворотливее, и только моя отчаянная злость чем-то уравновешива-ла нас в этой стычке. Я ударила ее по ногам, она рухнула на пол. Затем подхватилась и уже, это я поняла по зрачкам, всерьез решила полоснуть меня ножом. Но я увернулась и снизу схватила ее за левую голень. Эмма потеряла равновесие и упала как-то так, что нож воткнулся в выпиравшую из лифчика грудь. Она стояла на четве-реньках. Я окаменела, ожидая, что Эмма поднимется. Подума-ла помочь ей, но увидела кровь, что текла по колодке ножа, - и потеряла сознание...
Судья:
- Опарина Эмма Николаевна скончалась в реанимации. У меня есть вопрос к ее мужу: как вы относились и относитесь к Целоусовой?
- С уважением. Хотя она всего на три года моложе меня, но в общении с людьми сущий ребенок, наивная, доверчивая. Этой ее открытостью восхищаюсь.
- А как женщину любите?
- Нет.
- Отчего же, беседуя с ней 3 сентября, утверждали обратное?
- Чтоб легче расстаться, не ссориться.
- Выходит, продолжали играть в кошки-мышки?
- Что-то в этом роде.
- Не верьте ему! - вскричала из-за барьера Павлина. - Дарий, скажи, что любишь!
- Не могу. Я присягал суду говорить правду. В зале присутст-вует человек, с которым я заключал пари и получил от него в качестве выигрыша тысячу долларов. Допросите его. Это же может засви¬детельствовать и капитан теплохода, он вот рядом со мной.
- Дарий! - взмолилась Павлина. - Не отрекайся от меня!
- Прости. Мои чувства были ложью. Но дальше лгать не в состоянии. Тем более, что ложь может усугубить твою вину, а правда - снять обвинения.
- Любимый! - голос Павлины стал еще более пронзительным и надрывным. - Твоя правда мне не под силу...
В эту секунду к барьеру, за которым находилась подсудимая, побежали впущенные в зал ее дети. Алеша сквозь решетку схватил маму за локоть. А маленький Игорек нырнул под планку и проник внутрь кабины, взобрался к ней на колени.
Но Павлина не видела, не воспринимала детей. Ее глаза по-прежнему шарили по лицу Дария в поисках какого-то спасительно-го для себя ощущения. Но, не найдя его, глаза женщины застыли в скорби, сникли, остановились на одной точке. Их неподвижность была трогательной и страшной. Ибо через мгновение они стали красными, будто из них вот-вот хлынет кровь. А еще через мгновение подсудимая напоминала маленькую девочку, которую морская болезнь довела до исступления. Вскоре лицо этой «девочки» изуродовал безумный оскал, изо рта пошла пена...
- Заседание прерывается, - объявил судья.
...После дополнительной медицинской экспертизы суд постановил: направить Целоусову Павлину Изотовну на лечение в психоневрологи¬ческую больницу до полного выздоровления.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
В заключение хочу привести цитату из трактата итальянского гуманиста Пико делла Мирандола «О достоинстве человека», где Бог говорит Адаму: «Я создал тебя существом не небесным, но и не только земным, не смертным, но и не бессмертным, чтобы ты, чуждый стеснений, сам себе сделался творцом и сам выковал окончательно свой образ. Тебе дана возможность пасть до степени животного. Но также и возможность подняться до степени существа богоподобного - исключительно благодаря твоей внутренней воле».
ЛИЦА НАСИЛИЯ
«ТИХИЙ ВЗГЛЯД КАРИХ ГЛАЗ»
«Аня, если бы ты знала, как на душе тоскливо! Пятый год в тюрьме - и каждый день раскаиваюсь в содеянном, и каждый день вспоминаю содеянное как самое лучшее мгновение моей жизни. Это от того, что, совершая над тобой насилие, я любил и все эти годы продолжаю любить тебя.
Как все происходило?
В судебном протоколе это описывается так: «Шестнадцатилет-няя Анна Игнатьевна Мотылева, ученица десятого класса, в воскре-сенье утром находилась в постели. Мать и отец работали в поле. Этим воспользовался двадцатилетний сосед - Валентин Силович Дорох. Он проник в дом с заранее подготовленными приспособлени-ями для изнасилования несовершеннолетней. В рот заткнул кляп. Руки с помощью ремней прихватил к спинке кровати. Затем кляп заменил на лейко¬пластырь (по методу, перенятому из детективных фильмов). После раздел девочку донага. И поиздевался, как хотел. Изнасилование длилось пять часов - пока на обед не пришли родители Мотылевой... Факт засвидетельствовал также Василий Петрович Вороненко. По его зову на место преступления и прибыла милиция...»
Все верно. В протоколе нет ошибок. Приговор - пять лет строгого режима - я заслужил... Но почему до сих пор не могу забыть тебя, Аня? Все время ищу причину - и ответа нет. Единствен-ная связующая нить - это надежда. Надежда, исходящая от каких-то потаенных, где-то глубоко спрятанных чувств. Не могу смирить-ся с тем, что ты была и осталась ко мне безразличной. Что твое сердечко не просыпается радостью при воспоминаниях обо мне.
Ведь со дня твоего рождения ты была для меня почти как род-ная сестра. Мы жили по соседству. Наши сады соприкасались. Я взбирался на свою черешню, а ты стояла под своим кустом кры-жовника - и просила бросить ягодку. Помню, мне было десять лет, а тебе шесть, когда я упал с дерева. Ты подбежала ко мне и спроси-ла: «Больно?» Я не ответил, лежал без сознания. Ты увидела у меня на щеке кровь - и заплакала. Потом принялась тормошить за пле-чи. Я очнулся, вытер тебе слезы, успокоил. Ты прижалась ко мне и сказала: «Не умирай, я тебя очень люблю!» Потом краем своего си-него фартучка сняла с моей щеки кровь... Неужели забыла об этом?
В первый класс тебя за одну руку вела мама, а за вторую - я. В школе ты часто подбегала ко мне на переменках, просила погоняться за тобой. Двор нашей сельской одиннадцатилетки просторный, и мы гасали, как угорелые, пока не бил в уши звонок. Вплоть до десятого класса ты и в дом к нам приходила - по поводу и без повода. Я помогал тебе «долбить» математику, избавляться от троек.
Правда, после поступления в сельхозинститут немного отвык от тебя. Но когда приезжал из города, ты выбегала навстречу, цело-вала в щечку... И вдруг... Это случилось в апреле 1992 года. Соскакиваю с элек¬трички, иду мимо клуба - и в тополиной аллее вижу: тебя прижал к дереву и, как мне показалось, нагло тискает этот самый, что записан в судебном протоколе, Василий Петрович Вороненко. Во мне сразу же взыграла ревность. Он только месяц как прибыл в Вольные Горки каким-то зубным техником - и уже заводит с тобой «шашни»... Сознаюсь, до этого я считал тебя малолеткой, не принимал всерьез в виде невесты, хотя твои родители не раз на это намекали. А тут - словно кипятком меня ошпарило. Потом ты танцевала в фойе с этим высоким, сухопарым парнем, моим ровесником, а я смотрел на вас и удивлялся, как округлились твои плечи, как выпирают из-под платья груди, как пополнели ножки... Я впервые почувствовал к тебе мужское тяготение. Объявили дамский танец - ты подошла ко мне, пригласила. Обвивая талию, я ощутил, что весь дрожу, что сейчас схвачу тебя, подниму над всеми и унесу. Видимо, понимая мое состояние, ты ласкающе-тихим голосом произнесла:
- Завтра я к тебе приду. Поможешь мне по алгебре задачку решить?
Мне следовало ответить согласием. Сознаться в своем чувстве к тебе, пригласить на улицу проветриться, поговорить. Но вместо этого, сам не ведая почему, я напустил на себя равнодушный вид и съязвил:
- На чужих мозгах хочешь в рай въехать? У меня завтра в городе важная встреча.
- С девушкой?
- А почему бы и нет? Утром первой электричкой уезжаю.
После танцев полагал вместе пойдем домой. Но к тебе, как смо-ла, прилип Вороненко. Я посчитал ниже своего достоинства подхо-дить к вам. Из клуба вы вышли взявшись за руки. А я, повременив минут пять, поплелся следом. Василий посадил тебя на лавочку возле моего двора. Чтоб не столкнуться с вами, я повернул обратно в направлении клуба, затем обогнул кладбище по внешней аллее. Надеялся, вас уже не застану, разбежитесь. Но ты сидела у Воро-ненко на коленях. Это хлестнуло меня по сердцу. Я молча прошмыг-нул в калитку, пробежал садом, а возле абрикоса, что растет у самой стены дома, остановился, замер прислушиваясь. Не смог идти спать, зная, что ты обнимаешься с другим. А чтобы оставаться незамеченным, мне довелось переместиться к кустам сирени. Там присел на корточки. Голоса ваши были приглушенными, но воспринимались четко.
- Со мной это впервые такое, - сказала ты.
- Что именно?
- Поцелуй.
- Разве неприятно?
- Ты чем-то подсластил свои губы?
- И не подумал.
- А почему вкус шоколадной конфеты?
- Это в сочетании с твоими губами получился такой аромат.
Потом Василий бросил:
- До завтра? Встретимся в восемь вечера на этом же месте.
Он ушел, а у меня голова пошла кругом. Захлестывала злость. Как он смеет встречаться с моей невестой да еще на моей лавочке? Разве для него мастерил ее? Подгонял досточку к досточке, округ-лил спинку, чтоб облокачиваться, как на городских парковых скамейках. Неужели создавал удобства для пришлого наглеца?
Сна не было. Чуть забрезжил рассвет - подхватился, на скорую руку собрался и побежал на электричку.
В общежитии, перекусив всухомятку, направился к однокурс-нице. Она симпатизировала мне уже второй год. Мне открыли и я прямиком пошел к кровати, на которой она лежала поверх одеяла, смело сел рядом. Подруги, видимо, уловили в моих глазах что-то такое, что побудило их выйти из комнаты. Тамила и я остались наедине. Но когда наши взгляды встретились, мне неожиданно стало так горестно и жутко, что вместо того, чтобы поцеловать ее, я заплакал. Она растерялась, прильнула ко мне, потянулась губами. Но я отстранился, вскочил и убежал. Не смог прикоснуться к той, которую уважал, но не любил. Мне хотелось прикасаться к тебе. Меня охватило такое отчаяние, что если бы моя комната находилась не на первом, а хотя бы на пятом этаже, - выбросился бы из окна. Я понял, что кроме тебя мне никто не нужен. С данной минуты ты жила в моем воображении, как самая красивая, самая неповторимая, самая желанная.
В следующую субботу я приехал в Вольные Горки под вечер. Не заходя домой, явился на ваш порог. Но твоя мать, заметив сдавленное волнение на моем лице, сочувственно произнесла:
- Опоздал, Валентин. Аня уже на гульки побежала...
В клубе, только увидел тебя танцующей с Василием, сходу озверел. Какая-то дьявольская сила толкала броситься на соперника, избить, уничтожить. С трудом удержался, пулей вылетел из помещения, побежал в темноту. Как чокнутый, носился по пыльным дорогам, блуждал где-то за селом, что слепой кутенок, взвизгивая по-собачьи. Очнулся среди крестов на кладбище. Стою перед какой-то могилой и сжимаю кулаки. Молнии разрезают небо, ливень хлещет, а слышу и вижу только свою обиду...
Вот после этого, спустя неделю, я прибыл в село с набором приспособлений, назначение которых четко обозначено в судебном протоколе.
...В преступлении раскаялся не сразу. Только с течением време-ни понял, что меня обуяло чувство мести. Но в том, что произошло, есть, как отмечал и судья, «смягчающие обстоятельства». Да, я замыслил изнасилование как месть - и Василию, и тебе. Но когда в то утро на кровати притронулся к твоей груди - ощутил дивное чувство. Тело мое зажглось, как свеча. Я утонул в опьянении счастьем. Забыл о всякой осторожности. Не думал, что будет потом. Я пил любовь. Я не в состоянии был оторваться от тебя. А глаза, твои глаза! Вначале из них текли слезы. Но когда нежным прикосновением губ я выпил эти слезы, они, показалось, светились изнутри. Ты ведь только сначала сопро¬тивлялась, а потом - я это уловил душой - твое тело обрадовалось близости со мной. По-моему, мы, как два ручья, слились в один поток. Пять часов пролетело, что одна минута. В одном из порывов я хотел отстегнуть и снять сковавшие твою нежность ремни. Но, отрицательно завертев головой, движением глаз ты приказала этого не делать. Почему? До сих пор это остается загадкой для меня. Ты не испытывала ни сладости, ни восторга от моего разнузданного, если не сказать безумного, поведения? Ты была жертвой? Только жертвой или хотя бы в небольшой мере и соучастницей?
Я почему-то уверен: если бы мы весь день оставались в доме од-ни, постепенно пришли бы к взаимопониманию. Но вышло так, что нас застали, как говорится, «на горячем». Да еще кто? Твои ро-дители и этот ухажер Вороненко. Какое для меня несчастье, что именно он в тот обеденный час явился в твой дом и стал очевидцем моего преступления! Согласен, это было преступление. Но на поч-ве любви и отчаяния. Василий же мгновенно без совета с твоими родителями вызвал участкового оперуполномоченного, своих сослуживцев. И тебе, понимаю, ничего не оставалось, как давать показания против меня, потребовать немедленного моего ареста.
На суде между нами тоже воздвигли всяческие барьеры. После нашептываний Вороненко в твоих глазах я видел испуг и муку... Мои же показания были честными, открывали путь к дружескому диалогу. Этим воспользовался прокурор, задав в конце суда прово-кационнный вопрос: «Если бы вы, Валентин, оставались на свободе, Анна никуда бы не заявила, скрыла ваше преступление, и вот вам снова представился бы случай повторить насилие, - вы бы его повторили?» Я наивно ответил: «Да». Разве я мог не сознаться в том, что чувствовал? Ведь при виде тебя во мне опять заклокотали страсть, желание, любовь. Может, я все слишком по-своему воспринимал? Но я сказал то, что думал. А прокурор сделал свой вывод: «Подсудимый подтверждает, что извращенное понимание любви вошло в его кровь, и он готов на новое преступление»... Для искоренения этого «извращения» мне и дали пять лет.
Неужели в судебном зале ты не уяснила, что люблю, что готов жениться? Извини, тогда тебе было всего 16 лет и 8 месяцев. Ты созрела, как женщина, а все восприятия остались на школьном уровне. Поступала «под диктовку» этого Вороненко.
Сейчас тебе двадцать, а мне двадцать четыре. Надеюсь, что ты, как и я, все, что с нами произошло, осмысливаешь по-иному. Хотя бед тебе я наделал много. Вороненко, как сообщили мне в письме, отказался жениться. Это, в свою очередь, вынудило твою семью покинуть Вольные Горки, уехать подальше от родных мест. По этой же причине вы никому из сельчан не сообщали нового адреса. Только случайно, только благодаря моему младшему брату-проныре я узнал твое местона¬хождение.
До отсидки срока осталось несколько месяцев... Мне доверяют, в тюремном надсобном хозяйстве выращиваю овощи. И уже давно самостоятельно осиливаю те предметы, которые осталось пройти в институте. После выхода из заключения надеюсь экстерном сдать эк-амены и зачеты за последние курсы. Подобрал также опытный материал для дипломной работы. Не поддаюсь блатному вирусу, не срастаюсь с уголовным миром только благодаря тебе. Со мной навсегда остался тихий взгляд твоих карих глаз, который ты остановила на мне в момент оглашения приговора. Судья зачитывал его, а твои глаза, постепенно наполнялись слезами, о чем-то просили меня. Они как бы прокладывали для меня дорожку по тонкому льду...
Можешь не отвечать на это письмо. Только, пожалуйста, не вы-ходи замуж до моего возвращения. Я приеду осенью. К седьмому сентября, то есть ко дню твоего рождения, обязательно буду. Мы все по-взрослому обсудим... Прощать меня не надо. Я не за-служиваю прощения. Только постарайся в своем сердце заглушить те чувства, которые будут препятствовать моим поцелуям».
Это письмо заключенного Дороха передала мне Анна. Попро-сила напечатать в газете. И добавила:
- С того дня, как Валентин применил ко мне силу, я будто опу-щена на дно водоема и всплыть никак не могу. Он пишет о пре-ступлении как о каком-то для него удовольствии, да еще и мне его приписывает. Я же испытывала только ужас и боль. Во мне все сломалось. Я стала, как обрубленная ветвь. Мои глаза перестали смотреть на людей. Подруги от меня отвернулись. Охота к учебе пропала. Когда-то мечтала стать учительницей, а теперь мечту словно из пулемета расстреляли. Сейчас работаю на ферме дояркой. Тут никто не знает о моем прошлом, но контакта ни с кем не получается. Если Валентин горел чувствами, почему не открылся? Ведь я его тоже по-своему любила. А Василий просто увлек меня... Теперь же наша встреча с Валентином ничего не даст - ни ему, ни мне. Насилие навеки перечеркнуло нашу общую судьбу.
ЛИЦА СЦЕНЫ
PIANO, PIANISSIMO*
Из дневника студента
Я застал их в нашем гараже. Они забыли замкнуть дверь, я невидимкой проскользнул в соседний отсек, спрятался в машине с затемненными стекла¬ми и стал наблюдать... Любовница поцеловала отца в губы, и он, следуя ме¬лодии, что звучала предельно тихо, принялся не спеша раздевать себя и ее. Затем обнаженная пара станцевала медленное танго... Эти и все последую¬щие интимные штучки я заснял на свой мобильный. Когда же занялись сексом, еле сдержался, чтобы не закричать... Гнев укротил тем, что поклялся отом¬стить отцу и этой девке.
Как она смеет клеиться к женатому мужчине? И он хорош! Где его совесть? Жена в заботах о семье с ног сбивается. Чтобы иметь доход, торгует в нашем магазине днем и ночью. Ее изворотливость позволила купить две машины, пост¬роить дом и этот просторный гараж. За ее деньги моя сестра учится в техни¬куме, я - в университете. Мать всегда при деле, во все вникает. А отец, знай, командует. Одевается под министра. В гараже гостевой отсек отделал на манер гостиничного люкса. Мебель тут лучше, чем в доме. Видео- и музтехника, как в элит-клубе.
Чем наказать этого буржуана?*
Отбить любовницу. Обоих осмеять, опозорить. Это мне по плечу. Ведь учусь на актера. Сыграю роль - вот и все.
Я выследил, где живет эта особа, навел о ней справки - и, имея в голове «сценарий», нажал кнопку звонка ее квартиры.
- Кто там? - послышался встревоженный голос.
- Святой Николай принес елку с игрушками.
Прощупав меня в смотровой глазок, хозяйка распахнула дверь:
- Заходите.
Наши взгляды встретились. В ее глазах я прочитал радостное удивление, кончики ее ушей нежно-нежно зарозовели, от тела хлынул запах душистых трав.
- Не страшно впускать к себе чужого человека?
- Ничуть. У меня много друзей. И вас вот сразу ощущаю как чем-то приятного и даже вроде бы дорогого мне.
С елкой прохожу в горницу, закрепляю иглистое деревце на крестооб¬разной подставке, что принес с собой, и невольно теряюсь: откуда этот намек на «родство»?
- Как прикажите Вас величать? - спрашиваю.
- Виолетта, а лучше кратко - Виа.
- А меня зовите Артемом.
- Б-р-рр-р! Колючее имя...
Игрушек, что приобрел в магазине, оказалось недостаточно. Виолетта добавила к ним своих большую коробку. Извлекаем самые яркие и вешаем на елку.
- Каким ветром Вас ко мне занесло? - как бы между прочим спрашивает хозяйка,
- Общаться всегда лучше на «ты». Я прав?..
- На сто процентов.
- А почему не на сто аккордов?
- Ты знаешь о моем пристрастии?
- Вечером проходил мимо твоих окон, слышу звуки пианино. Стал под балконом послушать. Вдруг под аккорды песня полилась. Печальная, как ива над прудом.
- Поэтому загримировался под Николая Угодника и пришел развлекать?
- Захотелось узнать, кто за бетонными стенами до виртуоз-ности озвучивает тоску, сотворяет свою кантилену.*
- Принял меня за затворницу? Я – вольная, как никто. Музыка уносит душу в луга и сады, поднимает в космос, погружает в глубину восторгов и, кстати, кормит меня.
- Чего же говорят, что музыкальность приостанавливает умственное раз¬витие?
- Сколько тебе лет?
- Двадцать.
- А я прожила двадцать семь. И за это время, - смеется, - мудрее дру¬га, чем пианино, не встречала.
- С пеленок играешь?
- Пою с того же возраста. Окончила училище по классу вокала. Была солисткой филармонии, пела в опере. Потом по просьбе му-жа оставила сцену. Но в одно хмурое утро просыпаюсь - нет к суп-ругу никакой искорки. Чужой он мне и все вокруг чужое… Взяла развод. Пару лет помыкалась в столице - и вот недавно переехала в ваш провинциальный Никополь. Музицирую в домах состоятельных горожан, учу их детей пению и игре на фортепиано. По¬лучаю за это деньги. Они обеспечивают мне комфорт, в том числе и в любви.
- Любовный комфорт - намекаю на грешки, - не станет ли первым шагом к распутству?
- Во все времена, - Виа загадочно улыбается - все талантливые люди были развратниками.
- Эту дикость им приписывают аморальные посредственности, которые присасываются к их славе. Любовь, только любовь питает великие сердца!..
- «Пафос» рифмуется, - Виа широко распахивает глаза, - с каким словом?
- Можно с «прахом»...
- Давай, - она слегка облизывает губы, посматривает на меня боковым зрением, - на верхушке елки прикрепим звезду!
- А кто из нас сделает это лучше?
- Я! Я! - кружась вокруг меня, восклицает Виа.
Я охотно соглашаюсь. Устанавливаю в нужном месте табурет-ку, подаю звезду - и отхожу подальше, чтобы подсказывать, если что не так. Всмат¬риваюсь - и вдруг волна глубинного чувства охватывает сердце. В гибкос¬ти ее фигуры, в движении рук и во всем облике Виа чувствую что-то такое, что - только для меня. Никому другому оно так не светилось, не открыва¬лось, не сияло. Это лучится мелодия Виа - мелодия пробуждения. Она звучит в ее глазах, румянится на щеках, люминесцирует на елочных украше-ниях. Переходит в меня, наполняя нежными грезами. В груди, как рыба, что преодолела встречную струю, трепещет радость. И в такт моим чувствам левая ножка Виа как-то тревожно качнулась. Я подскочил, чтобы подстра¬ховать - и замер: кожа молочного цвета опьянила, как глоток вина. Губами потянулся к этой коже и тут же, борясь с вожделением, отпрянул. Побежал в ванную и, стремясь погасить внутренний огонь, принялся пригор¬шнями хлюпать себе в лицо холодную воду.
Остыв, возвратился в залу. Виа к этому времени уже сидела за пианино и пела: «Гори, гори, моя звезда!..» Ее красивый и гибкий голос не то что окутывал душу: он врывался в нее жестокой бурей, кроша все ранее спланированное, мстительное, низкое. Пронзительные слова песни всколых¬нули во мне мало осознаваемый порыв благоговения, который, стремясь заг¬лушить, еще с большей силой пробуждал инстинкт самца. В ушах возник шум, напоминающий рокот волн. В меня помимо моей воли переливалась воля сидящей за пианино женщины. Душу охватило желание любить безумно, любить неистово.
Я, как барс, бесшумно подкрался сзади, намереваясь обнять ее и поцеловать в изгиб шеи. Но в эту секунду раздался звонок. Я воровато отстранился от незаметившей моего приближения Виолетты. Через мгновение она как-то трагично оборвала песню и кинулась к двери.
Елка закрыла меня от глаз мужчины, что зашел в прихожую. Лапастые ветки и мне не позволили полностью увидеть его. Но по очертаниям фигу¬ры я определил: это мой отец. Он говорил с хозяйкой вполголоса:
- Извини, что пришел досрочно. Воскресения не дождался.
- Но сейчас не могу поехать с тобой.
- Тогда завтра в это же время зайду.
- Завтра я работаю с детьми в частных домах.
- Без перерыва на обед?
- Меня хозяева покормят. Не забывай наше условие: встречаемся один раз в две недели.
- Мне этого мало. Давай сейчас пройдем к тебе в спальню...
Визитер начал снимать пальто. Я обомлел: стычка неминуема? Чтобы избежать ее, успеваю ретироваться в смежную комнату. Там осмотрел¬ся и увидел, что это и есть спальня. Неосознано я вторгся туда, где Виа принимает любовников. В их числе наверня-ка был и мой отец. При этой мысли меня должна была бы охватить брезгливость. Я должен был бы испытать презрение к гулящей бабе. Почему же вместо этого ощущаю в груди спаз¬мы ревности? Мне до слез жалко себя. Все члены пронзает жгучая злоба. В со-стоянии аффекта хватаю гладильную доску, укрываюсь за приот-крытой дверью, рассчитывая внезапным ударом по голове оглушить соперника.
Но применить орудие ревности не довелось. Виолетта укротила натиск любовника, вежливо выставила его из квартиры. Их последние обоюдоострые реплики долетели и до меня.
- К тебе в гараж больше не пойду!
- Значит, расстаемся навсегда?
- Это меня вполне устраивает!..
Услышав шаги Виа, поспешно возвращаю гладильную доску на прежнее место. А дальше не знаю, что делать. Застыв в мутной прострации, мысленно зову к себе Виолетту. Затем, еще больше растворяясь в иллюзиях, вижу и не вижу, как она короткими шажками вплывает в спальню. Раздевается и, сняв покрывало с кровати, ложится на алую простыню.
У меня из глаз брызжут слезы. Сквозь их пелену впиваюсь взглядом в белый сахар тела. Оно лежит ко мне спиной. Вижу, как под лопатками вздрагивают две ямочки. Они как бы насмехаются надо мной. Виа шепчет:
- PIANO, PIANISSIMO.
Уловив, что женщиной владеет какая-то замедленная мелодия чувств, неторопливо опускаюсь на колени, целую ее волосы, провожу рукой по лопаткам, ямки под ними исчезают. Она поварачивается ко мне лицом, цветок рта прилипает к моим губам. Все происходит как в моей первой юношеской мечте.
Утром, проводив до порога, просит:
- Больше ко мне не приходи.
- Хорошо, - отвечаю.
Но вечером, едва на небе нарисовалась первая звезда, мой зигзагообраз¬ный путь по темным улицам завершается у дома, где живет ОНА. На пороге - восхищенные глаза. Потом они становятся гневными. Еще через минуту - растерянными. И вот уже в них по-является влажный блеск, Виа садится за пианино, играет и поет. Я слушаю, но не слышу ни единого звука. Мой мозг погружен в тишину. У него занятие поважнее - впитывать образ исполнитель-ницы. А та как бы противится, ускользает. Глаза Виа раз за ра¬зом меняются в цвете. То вижу их голубыми, то фиолетовыми, то крас-ными, то черными. Форма лица тоже непостоянна. То оно округ-лое, то продол¬говатое, то с очертаниями груши. Даже руки, что уда-ряют по клавишам, во всякий миг кажутся разными. Неуловим облик сидящей рядом женщины. В нем нерушима только эта пе-ременчивость. Я пью эту неуловимость, пью и напиться не могу... Как загипнотизированный несколько часов кряду не свожу с Виа глаз. Не замечаю ее манеры звуковедения и тембральной палит¬ры ее голоса. Мне важно присутствие в них душевной теплоты.
Виа, вижу, радуется моей неотступности. Не зная устали вжимает пальцами клавиши и поет. Все новую мелодию играет. Все новую песню ноет.
А ночью в постели творим чистосердечное бесстыдство. На одиннадцатый день наших неуравновешенных отношений Виа сказала:
- Мы разные - от этого и страсть. Но долго нельзя быть вместе. Давай расстанемся красиво: без надежд, без упреков. Кани-кулы у тебя закончились. Завтра в университете начинаются лекции. Уезжай и забывай меня.
Я ощутил себя инородной каплей в бурлящей волне. К горлу подступил горький ком. Делаю три шага к двери.
Вдруг у Виа загудел мобильный. Включив его, она заговорила с абонен¬том. Дикие удары сердца лишили меня способности воспринимать окружающее. Но когда Виолетта произнесла слова: «Через час я приду в твой гараж», - ко мне дошел их смысл. Инстинктивно я сгреб с подставки ключи, вылетел из квартиры и тут же замкнул ее. Виа постучала:
- Зачем забрал от входной двери все ключи?
- Чтобы никуда не могла выйти из дому.
Я побежал вниз по лестнице. Свежий ветер пахнул в лицо, даря минутное торжество. А после бродил но улицам, не находя себе места. На мой мобиль¬ный раз за разом поступали сигналы. Понимая, что связи добивается Виолетта, я отключил телефон. Затем решился на такси подъехать к нашему гаражу. Отец ремон-тировал машину. Попросил меня помочь, я пообещал. Но вскоре по его глазам прочитал, что никакую любовницу он не ждал и не ждет. Значит, у Виолетты есть еще один «гараж»?
Я снова вызвал такси и поехал к ней. Проверил дверь - на замке, никто ее не взламывал. Постояв в подъезде, отправляюсь в расположенный невдалеке хозяйственный магазин, покупаю нож. Для чего? Не знаю. Так же без понимания сути стою битый час на этаже выше квартиры Виолетты, чтобы в случае появления у ее двери соперника, не позволить ему освободить ее из «заточения». Едва же город сжался в морозных сумерках, мне на мобильный пришла эсэмэска: «Наточила полную ванну воды. Сейчас погружусь в это теп¬ло - и вскрою себе вены».
От прилива крови мозг мой зашкалило. Бегу к знакомому подъезду. Дрожащими руками втыкаю ключ в скважину, открываю дверь, кидаюсь в ванну. Сзади за плечи меня трогает Виа, ее рот расплывается в улыбке.
- Что, вспугнула тебя моя шутка?
- Но ванна полна воды...
- А мы в ней сейчас с тобой понежимся. Видишь, она двухместная.
Ночь прошла в объятиях. Виа, как никогда прежде, ласкала меня, каж¬дую выпуклость на теле обцеловала.
Едва же солнечный зайчик разбудил нас - резко отстранилась:
- За окном, гляди, зима. Жестокая погода она и в душу метель заносит. В тот первый раз ты крепко уснул, и я обследовала все твои вещи, в мобиль¬ный заглянула. Увидела там снимки, на которых я целуюсь с твоим отцом. Мгновенно догадалась, что принес елку с тайным умыслом. Сознайся: какую жестокость задумал?
- Был на этот счет план.
- И ты, актер, уже близок к его осуществлению?
- Твои песни спутали все карты.
- Позвали тебя в мою постель?
- Соединили тело и душу с таинством искусства. Я забыл о мести.
- Не верю! Ты уже достиг своего. Ты раздавил меня! Довел до нервного срыва! Торжествуй, паяц!
Виолетта вскочила с кровати, швырнула мне мою одежду:
- Одевайся! Уходи!
Я упал на колени, стал целовать ее руки:
- Не прогоняй! Без тебя - я будто в невесомости.
Она тоже опустилась на колени. Целует мою грудь:
- Пойми, мои губы облизывал не один мужик. Думаешь, я просто так вхожа в богатые дома? Я не только учу детей музыке, но и развлекаю их отцов.. Каждый из них один раз в месяц увозит меня в чужой город. Я играю на пиа¬нино, пою песни, сплю с ним. За это он меня по-барски одаривает... Разве можно любить такую женщину?
- Можно! Ты больше не будешь этим заниматься!
- Это как же?
- Брошу университет, устроюсь на работу. Я готов горы свернуть ради одного твоего поцелуя!
- Постой! Я не все сказала. Эти богатые меня не покупают. Я сама их выбрала, сама соблазнила. Их подарки - всего лишь приложение к наслаждениям. Им хочется видеть меня ухоженной, модно одетой.
- Все прощаю!
- Ты не мой господин, чтобы прощать! У меня прихотей тьма! Идет по улице простой, но крепкий мужик - я зову его к себе... Так и твоего отца завлекла.
- Все, что было до меня, забыто! В период наших встреч ты же ни к кому не бегала? Ни с кем, кроме меня, не спала?
- Не спала. Ты для меня как наваждение! Прямо-таки силком из груди сердце вырываешь!
- Это - любовь! Выходи за меня замуж!
- Смеешься? Возьми в руки мой мобильный. Справа - колон-ки цифр, слева - имена. Посчитай: сколько их?
- Более двадцати.
- Это телефоны тех мужчин, которые в любую минуту готовы быть со мной. Став твоей женой, с ними я не порву. Нужна тебе такая «семья»? Желаешь стать швейцаром в моем доме любви?..
Когда Виолетта провожала меня к двери, я заметил, что мочки ее ушей, как и при нашем знакомстве, ярко зарозовели, а в глазах возник и как бы попятился всплеск презрения. Эти ее «прощаль-ные» черточки не вы¬ходят из памяти. Не уехал я на учебу. Уже пять дней одетый под бомжа кружу вокруг дома, где ОНА живет. В мозгу бродят, как огненные стрелы, не состыкованные между собой, но убийственные ее фразы: «Отношение между мужчиной и женщиной в семье - это крепостное право, это камера пыток... Красивая женщина обязана принадлежать многим... Давно пора институт семьи заменить на институт любви... Я - образец пороч-ного идеала... Для мужских сердец моя душа своеобразная сточная канава... Свяжешься со мной - испортишь себе жизнь... Я пробовала, но мне скучно с одним... Менять мужчин - это снимать сливки любви... У нас с тобой были сладкие рождественские каникулы, забудь все, учись... Чтобы заглушить тоску, каждый вечер пускай по три капли крови и размазывай на моем портрете (она, улыбаясь, дала мне свое фото)... Думай о будущем... Ты врожденный актер, способен настолько входить в роль, что эту роль уже не можешь вытравить из себя...»
Эти фразы в те минуты, когда прощались, слетали с уст Виа с брызга¬ми иронии, хотя в интонации слышались слезы. Теперь, анализируя все, что было между нами, я весь в кипении. Неужели она права? Что если мое сердце охватила наигранная жажда влюбить ее в себя? Не забрел ли я в темный лес? Разве мне под силу со-рвать с ее души цепи разврата? Чтобы этого достичь, недостаточно поклоняться, ревновать и быть готовым жерт¬вовать всем... Да и актер из меня никудышний. Страсть вышибла из головы все домашние заготовки, отрепетированные трюки и пассажи.
Нет! Тут роль ни при чем! Ведь я не играю. Я действительно полюбил Виа. Запахи её молочной кожи в каждом глотке воздуха, что вдыхаю. Делаю шаг к ее дому - ногам легко, удаляюсь от до-ма - во всем теле тяжесть и боль. Куда приткнуть израненную душу? Как все забыть, если во мне безос¬тановочно звучит груст-ный песенный голос, а перед глазами - вздрагивает белая ножка?
Хотел отомстить другим, а отомстил себе? Хотел обыграть женщину, а стал ее рабом?.. Из души улетучились добрые гости: веселость и торжес¬тво. Остались только злые гости: уныние и страдание. Душа рвется возродить прежнюю иллюзию счастья, а тело - вернуть себе утерянный приз¬рак наслаждения?.. Почему эта тяга неостановима? Что вздумает Виа, то со мной и сделает?.. Иду к ней еще на одно истязание. Знаю: прогонит. Но все равно иду. Иду!
Алексей Рудницкий.
ЛИЦА ЖЕСТОКОСТИ
ЛЮБИТЬ - И УБИТЬ?..
В уши бьет лай собак, лязг решеток. За провожатым протискиваюсь в узкий проход. Еще и еще одна стальная дверь, скрежет засовов. И вот широкий коридор. Заходим в комнату для встреч с осужденными, где металлические стол и скамейки намертво приварены к полу.
Заводят Нестора Боруха, два дня назад приговоренного к четырнадцати годам тюремного заключения. Выше среднего роста, широкоплечий, импозантный. На голове плотная шапка волос. Та¬кая же густая темная борода. Лицо интеллектуала - правильное, чистое. Только зрачки как бы утонули в глубине глаз и пери¬одами застывают, сверля жесткой въедливостью. От их немига¬ния становится неуютно… Да, это он - мужчина, убивший лю¬бимую женщину.
На время теряюсь. Выручает подготовленный психологом тес¬товой вопросник на «отвлеченные» темы. Нестор с некоторым недоверием, но все же включается в беседу.
- Есть у Вас любимое женское имя?
- Марина.
- А запах?
- Расцветшей розы, а также женского тела.
- Чьи песни Вас не раздражают?
- Софии Ротару.
- Какую картину можете подолгу смотреть?
- «Любовные игры» никопольчанина Геннадия Шлыкова.
- Чьи стихи импонируют настрою души?
- Сергея Есенина.
- Какие занятия не надоедают?
- Резьба по дереву, чтение книг.
- Читали «Красное и черное» Стендаля?
- Нет.
- «Страдания юного Вертера» Гете?
- Нет.
- «Преступление и наказание» Достоевского?
- Кино по этой книге видел.
- Кому из современных писателей отдаете предпочтение?
- Донцовой.
- А композитору?
- Раймонду Паулсу.
- Что чаще всего становилось на Вашем пути?
- Неудачи.
- Есть у Вас неприятная Вам черта?
- Резкий я.
- Каким хочется стать?
- Уравновешенным.
- Вид какой птицы больше всего успокаивает?
- Аиста.
- В чем больше всего не везет?
- В поисках хорошей жены.
- Где предпочли бы поселиться?
- В тихой деревне близ леса и речки.
- К каким людям испытываете антипатию?
- К тем, кто предает друзей.
- Черты, которые цените в женщине?
- Трудолюбие и верность.
- Что презираете?
- Ложь.
- Что прощаете?
- Мелкие ошибки. Измену не прощаю.
- Существует земное счастье?
- Такого нет.
- У Вас есть идеалы?
- Нет.
- Какие черты в людях Вам импонируют?
- Откровенность, доброта, смелость.
- Подвиги, например, Матросова, Жанны д’Арк привлекают?
- Безразличен к ним.
- Каких друзей хотели бы иметь?
- Чистосердечных, отзывчивых.
- О чем сожалеете?
- В юности сдал документы в мореходное училище - а потом вдруг не поехал сдавать экзамены.
- Кем хотели бы стать?
- Не знаю.
* * *
В Никополь Нестор Борух приехал с желанием начать новую жизнь. Устроился подсобным рабочим на стройке. Получил место в общежитии. В первый же месяц выдали приличную зарплату. Купил костюм, туфли. И тут же дама подвернулась. Зашел в магазин за шампанским, а в упор смотрят такие ясные с голу¬бым сиянием глаза.
- Сдачи не надо, - прошептал растерянно.
- Не нужны мне Ваши медяки, - улыбнулась продавец, отсчи¬тав 41 копейку.
Нестор сунул мелочь в карман и направился к выходу.
- Задержитесь! - окликнул тот же голос. - Вы из соседнего общежития?
- Да.
- Новенький?
- Еще не обжился. Недавно прибыл из Алушты.
- А мой супруг командирован в ваш город. Какой-то сана¬торий возводит...
Так Борух познакомился с Мариной Кислицкой. Вечером в его комнате в общежитии они распили то самое шампанское, стали любовниками.
В выходной вместе выбрались на вылазку на противополож-ный берег Каховского моря. Уединились в лиственной роще. Ку¬пались, загорали. Несту (так его стала звать Марина) нра-вилось носить ее на руках. Невысокая, легкая, она, как пти¬ца, порхала вокруг него. Он, мускулистый и сильный, поднимал ее над головой, сажал на разлапистую ветвь дерева, потом, как плод, стряхивал оттуда - и ловил. Игра завершалась жар¬кими объятиями. Их тела надолго сплетались. Марина за день трижды испытала оргазм. А когда это произошло в четвертый раз, не удержалась от признания:
- Нест, ты - клад! Боюсь тебя потерять!
- Правда? Поклянись, что никогда не изменишь мне!
- Клянусь!
Она подтвердила свои слова длинным поцелуем. Нест сжал в пучок ее волосы, рывком дернул вверх, делая больно, и четко произнес:
- Я тоже не предатель! Но учти - мне нужна верная женщина!
Летели дни и месяцы, а они не надоедали друг другу. Инстинкт не утихал. В выходные вырывались на природу. А в будни после закрытия магазина Борух уводил Марину в подсоб¬ку - и, опро-кинув на мешки с сахаром и крупой, раздевал и обцеловывал с ног до головы.
Подруга, с которой Марина секретничала (эти показания фигурировали в суде), рекомендовала не терять такого любов¬ника - и по возможности подготавливать к предстоящей сов¬местной жизни. Ведь муж находится в курортном городе, навер¬няка нашел себе бабу. К тому же склонен к гульбе. А Нес¬тор не пьет, не курит и очень преданный.
Следуя советам подруги, Кислицкая все больше привязывала к себе Боруха. Чтобы быть свободнее, отвезла пятилетнюю дочь в село к родителям. Угощала Неста пирогами домашнего приго-товления, вареньем. Не позволяла только приходить к ней домой. Боялась, чтоб свекровь не засекла тайных свиданий.
Но вот пришло письмо от мужа. Досрочно возвращается из командировки. Соскучился за семьей. Везет подарки.
Как быть?
Тревога охватила Кислицкую. Очередной поход в лиственную рощу прошел как в тумане. Нест по-прежнему носил ее на руках, ис-точал страсть и нежность. Но в ходе общения раздво¬енность усугуби-лась. Ибо неожиданно узнала о Борухе то, чего не ожидала. Подбра-сывая партнершу над волнами, он вдруг во весь голос прокричал:
- За это лето я понял, что без тебя мне прожить нельзя! Ду-ша до этого ни с кем так не трепетала!
- Мне тоже с тобой хорошо, - тихо молвила Марина.
- Давай, - он поднял ее еще выше - никогда не расста¬ваться! Я решил: с этой минуты ты моя жена, а я твой муж!
- Но в моем паспорте уже есть штамп о браке.
- Расторгнешь - и новый заключим!
- А жить где будем?
- В твоей квартире.
- Но она не мне принадлежит.
- Значит, переберешься ко мне в общежитие.
- Но у тебя в комнате еще два жильца.
- Перекантуемся недельку, а там квартиру подыщем.
- Дочь тоже приведу в общежитие?
- Временно поживет у твоих родителей. Я вон со своим сыном вообще не вижусь.
- Разве ты женат?
- Развелся три года назад.
- По какой причине?
- Супруга изменяла, за это избил ее - и на два года попал за решетку.
- На меня тоже руку поднимешь?
- Зачем? Ты - верная!
- А вот через три дня мой муж из командировки возвращается.
- Расскажешь ему о нас - и придешь ко мне.
- Решать скоропалительно не могу.
- Решаю я! - глаза у Боруха потемнели. - Что сказал - закон для тебя! Не вздумай нежиться с бывшим мужем!
- Он не бывший...
Этот диалог Кислицкая передала подруге. Сообща пришли к выводу, что Борух в качестве любовника ненадежный, а в качестве мужа - тем более. Ведь не исключено, что через вре¬мя Марину опять «потянет налево». Нест же острый, как брит¬ва, ревность у него перехлестывает через край.
На следующий день, чтоб оборвать свидания с Борухом, Кис-лицкая упросила напарницу подменить ее в магазине. Но Нест - вопреки запрету - явился к ней на квартиру. Она не выгнала его. Но, ложась с ним в постель, предупредила несколько раз:
- Больше не ищи встреч! Это - прощальная!
Во время объятий Нест вроде бы с этим соглашался. Но ушел только утром. А, прощаясь, заявил:
- Жду тебя в общежитии в девять вечера. Не придешь - убью!
Кислицкая не предвидела такого жестокого поворота. В душе все обмерло. Вскоре в дверь позвонил возвратившийся из Алушты муж. Едва переступил порог, жена, не видя иного выхода, с запалом рассказала ему о бывшем зэке, который напрашивается в мужья. С ним у нее ничего не было. Но он ходит по пятам, ползает на коленях, угрожает расправой.
Слезы жены побудили супруга пойти к Боруху в общежитие...
Из показаний И. Кислицкого: «Взаимопонимания с Борухом у меня не получилось. Он сыграл в молчанку. Следующим утром из-за страха Марина никак не хотела идти одна в магазин. Пришлось провожать. Отправились пешком по улице Головко. В 6.55 были на месте. Жена открыла магазин и сказала, что теперь все нормально. Я поспешил к себе на стройку. Но беспокойство в душе не улеглось...»
Из протокола допроса Н. Боруха: «Сегодня, 28 августа, к мага-зину я подошел в начале восьмого. А полчаса назад караулил Мари-ну на автобусной остановке. Но она, понял, остерегаясь меня, там не появилась. Добиралась к работе окольными путями. А вот дверь магазина забыла закрыть. Я тихо за¬шел. Она мыла полы в бытовке. Поздоровался с ней. Она аж вздрогнула. Стал выяснять: почему раз-болтала мужу о нашем уговоре о встрече и почему его подослала ко мне? Она оп¬равдывалась: мол, ничего ему не говорила, а в наз-наченное время не могла прийти, была у кого-то на дне рождения, от¬туда вернулась с мужем в два часа ночи. Я взял замок, ключ от магазина, предложил прогуляться - а куда, сам не знал. Но имел намерение где-нибудь уединиться. Марина заяви¬ла: «Никуда не пойду!» Была она в черном халате поверх бе¬лого. Потом черный халат сняла. Я попросил закрыть магазин изнутри и здесь вступить в интимную связь. Она отказалась. Мало того, попыталась выскольз-нуть на улицу и убежать. Тог¬да я толкнул ее, ударил по лицу. Дверь запер. Видя, что я не отступлю, принялась уговаривать уйти из магазина в парковую зону. Я согласился. Взял ее сумочку голубоватого цвета. Пока вкладывал туда платье - Марина отперла дверь и снова хотела улизнуть. Это меня взбесило. Я схватил ее - и отбросил от выхода. Для острастки не со всей силы, но стукнул. Надеялся: притихнет, разденется. Но она неожиданно закричала. Тогда я поволок ее в бытовку и всерьез избил. Так как предупреждал ее о том, что убью и слова свои на ветер не бросаю, - взял под ве-сами большой магазинный нож с деревянной ручкой, вернулся в подсобку. Марина стала отмахиваться - и я ударил ее ножом по руке. Потребовала, чтобы уходил, иначе вызовет милицию - и меня посадят. Тогда я нанес удар режущей частью ножа по тыльной части руки, а по какой не помню. Спросил, сколько будет водить меня за нос? Что ответила - не помню. Я ударил ее лезвием по ло-патке и по поясу, сделав порезы. Выступила кровь. Услышал: «Больно, милый. Не надо. Я жить хочу». Поначалу стояла, а по¬том осела на мешок. По-моему, я ударил ее в пупок, в гор¬ло, в позвоночник. Точное количество ударов не помню. Текла кровь из всех ран. Обождал, пока Марина уляжется на меш¬ке - в надежде, что она оживет. В дверь кто-то постучал. Я открыл кран, вымыл руки, нож бросил в столик под весами. Кто-то стоял на улице под дверью. Открываю дверь - кум Ма¬рины. Поздоровались, я спустился со ступеней, а он зашел в магазин...»
Из показаний свидетеля: «Захожу - освещение выключено. По-звал Марину - ответа не последовало. Предположил, что переодева-ется в подсобке. Еще раз позвал - ответа нет, и мне как-то не по се-бе стало. Заглянул в подсобку: сидит на мешке, на животе где-то спе-реди кровь, глаза открыты - взгляд нап¬равлен на противоположную стену. В чем была одета - не помню. Пом¬ню, что все было в крови. Помню, что слева от двери стояла швабра и лежала сумка Марины...
Побежал на второй этаж общежития, вызвал «скорую», позвонил в милицию...»
Из заключения судмедэксперта: «Нанесено восемнадцать ко-лото-резаных ран в область шеи, грудной клетки спереди и сзади, левого плеча и левого локтевого сустава. Пять из них - проникаю-щих в плев¬ральную и брюшную полости с повреждением диафрагмы и печени. Результатом этих повреждений явилась острая кровопотеря и смерть в больнице в восемь часов 40 минут».
Продолжение беседы с осужденным Н. Борухом:
- Кого чаще всего вспоминаете?
- Марину. Ночами снится. Любил ее, люблю и всегда бу¬ду любить.
- Любить - и убить? Убить - и любить? Такое понять трудно.
- Для меня это тоже непостижимо. Буду искать искупле¬ние, если оно есть...
- Раскольников из «Преступления и наказания» нашел его с помощью Бога. Вы - верующий?
- Нет.
ЛИЦА ВДОХНОВЕНИЯ
КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА
Меня, человека интеллигентного, обстоятельства превращают в какое-то жалкое существо. Дело в том, что мой сын Виталий, 25 лет от роду, женился на женщине значительно старше его, и с которой 12 лет назад я имел интимные отношения.
Да, она очень красивая! Приехав в то лето в Никопольский дом отдыха, я обошел все его аллеи и спортивные площадки. Среди сотен лиц только ее лицо сразу же впало в око. А в солнечную погоду выбрался на пляж - смотрю рядом на зеленом коврике - лежит Она. Я долго не решался заговорить. Только перед обедом, когда принялась складывать вещи, спросил:
- Интересно, Ваша красота сделала Вас счастливой?
- Не знаю. Но отказа со стороны мужчин мне ни в чем нет... Можно попросить Вас купить два билета в летний кинотеатр?
- Пожалуйста…
Вечером едва узнал её. На грани фантастики белоснежные локоны, сияющие глаза. Все вокруг затихли, как зачарованные. А Она подошла ко мне, серенькому воробышку, одетому в такой же невзрачный костюм, взяла под руку и шепнула на ухо:
- Ведите скорее на наши места.
Я взял три билета в расчете на то, что явится с кавалером или подругой. А тут... Успокоился лишь когда на экране поплыли кадры фильма Федерико Феллини «И корабль идет». Он с первой минуты захватил и держал в таком напряжении, что красота соседки забылась... Только после сеанса я почувствовал радость от ее присутствия и благодарность за то, что побу¬дила посмотреть такую возвышающую душу картину. Третий, неис¬пользованный билет, до сих пор храню, как память о том впечатлении.
Надежда, так звали женщину, на следующий день пришла за¬горать на вчерашнее место. Мы снова лежали поблизости. Купа¬лись в море тоже вместе. Но когда в воде попытался приблизиться - резко отстранилась, слова «не прикасайтесь ко мне» про¬изнесла так брезгливо, что я и сам для себя как бы исчез.
Весь день чувствовал себя неуютно. Но после ужина Надежда подходит с билетами в кино. Купила и для себя, и для меня. Мы сели на лавочке возле роскошного куста сирени. Взяв мою руку в свои, Надя сказала:
- Мой муж на голову выше Вас. Поднимает меня одной рукой. Так люблю его, что всё время как бы присутствует здесь. Давайте просто дружить.
Это вполне меня устраивало. Постоянно видеть её лучистые гла-за, общаться - это разве не благо? В последующие дни мы осмот-рели все достопримечательности Никополя. Съездили на экс¬курсию к водопаду, что расположен в Апостоловском районе близ То-ковского гранитного карьера. Это самое красивое место на Днепро-петровщине. А Надя, уверен, была самой красивой женщиной, которая тут искупалась. Она ступала под струи водопада боязливо, как ребенок. Но вскоре, меняя позы и карабкаясь по уступам, превратилась в бесшабашного скалолаза. Я впервые видел такое шальное единоборство с потоками воды, такой неповторимый танец «русалки».
Что произошло со мной тогда, до сих пор не совсем понимаю. Ибо не только в душу, а куда-то глубже вошли пленитель¬ные «пи-руэты» этой женщины. Скажу только, что следующим утром взял в руки резец и принялся создавать ее образ. Резьба по дереву - это моя специальность по диплому. Но для семьи она не давала необ-ходимого дохода. Я работал на металлургическом заводе горновым. А вот теперь загорелся зудом ваятеля. Я крошил резцом пластину из орехового дерева, что прихватил из до¬му, с неистовством безум-ца. Хотелось достичь мастерства, поразить Надежду своим умением. Расстелив на песке коврик, она не-жилась на солнце. А я сидел рядом - и без устали вгонял резец в орех. Немели руки, со лба катился пот. Надя тащила в воду освежиться. Но я только изредка уступал ей. Не мог оторваться от работы. Подходили любопытные, мешали. Но я, как заведенный, продолжал терзать дерево.
Надежда, наконец, увела с этой пляжной «арены». Мы уединились на территории дома отдыха. Он возвышается над Каховским морем метров на тридцать. К берегу ведут широкие лестницы. А склоны спланированы в форме ступенчатых террас. Тут посажены розы, жасмин, тамарикс, черемуха, сирень. В этих цветниках мы и облюбовали полянку, с одной стороны открытую солнцу, а с дру¬гой - затененную высокими тополями, растущими у самой воды.
Перед глазами - водный простор. Рядом загорает Надя. Она не позволяет обнять, поцеловать. Поэтому, если в шутку говорить, вся моя мужская энергия концентрируется на резце. Такое ощущение, что я вдыхаю женскую красоту - и переношу ее в свое творение.
Удивительно - менее чем за неделю завершил работу. Назвал скульптуру «Водопад». Хотел подарить Наде. Но она отказалась: «У меня очень красивый и очень ревнивый муж. Ничем не хочу его огорчать».
Статуэтка привлекла внимание девушки, которая жила с Надей в одной палате. Она попыталась купить поделку. Но разве я мог продать её?
Эта же молодая особа, уяснив, что между мной и Надеждой «ничего нет», стала ежедневно приходить к нам на поляну. Вы¬нудила меня вырезать из граба (дерево она где-то достала) её лицо. И хотя получилось оно с такой же, как и в жизни, нагловатой ухмылкой, ее радости не было конца. Предлагала деньги, пыталась целовать и даже затащить в постель.
Но зачем мне это? Моя душа уже была наполнена небесным светом любви к Надежде. Я тактично попросил девушку «найти себе иного партнера».
Не знаю, Надя оценила мою ей преданность или по другой причине, но как-то вечером сама поцеловала меня, мельком, чуть-чуть. А в полночь искупался в море, захожу в палату - лежит на моей кровати, под одной простыней. Её запах, её дыхание с ходу передались мне. Эти минуты стали высшей радостью в моей жизни. Не то что не ожидал - в мыслях не мог допустить такого счастья...
Темно в комнате, а я всё вижу. Веер волос на подушке, приоткрытые глаза, сжатые губы. Ныряю под простыню. Слияние моего тела с ее телом происходит так мгновенно, что не успеваю осмыслить происшедшего.
После, лежа рядом и рассчитывая на продолжение объятий в течение всей ночи, протягиваю руку, чтобы вновь приласкать. Однако Надежда сообщает шепотом: «Мне достаточно» - и выскаль¬зывает с постели.
Опечаленный её поспешным уходом, я сделал вывод: она не полюбила, только позволила себя любить. Проявила женское милосердие, чтобы вселить в меня уверенность, поднять мой дух.
В подтверждение этого, прощаясь со мной через два дня, Надя сказала: «Если затоскуешь, Яша, - бери в руки резец... Я буду оживать в твоем таланте…»
Так и вышло. Она вроде ввела в меня «программу». Все эти двенадцать лет после разлуки я нахожусь под гипнозом её глаз. Чуть свободная минута - берусь за скульптурную работу. Сыну и дочери навырезал развеселых зверюшек: лису, ежа, зайца, мыш¬ку, суслика. Изобразил в дереве Горького, Шевченко, а также повторил в своей манере те скульптурные группы, которыми любо¬вались с Надей в доме отдыха. Потом перешел к жанровым ком-позициям: «Купальская ночь», «Кумушки», «Свидание у колод-ца»... Удачными получились барельефные изображения известных ученых и исторических деятелей. Увлекся резьбой по дереву на-столько, что рассчитался с завода. Пару моих скульптур на област-ной выставке купили иностранцы. Потом спрос «на меня» распро-странился по всем континентам. Хотя славы вроде и нет, но деньги пошли крупными суммами. Я приобрел уютный особняк в престижном мес¬те.
Но после женитьбы сына меня будто переломили надвое. Прежде, беря резец, всякий раз вспоминал Надежду, творил как бы для нее. Во всех женских фигурах присутствовала её краса, озарявшая меня и создаваемые мной образы. Мы прописаны в од¬ном городе, но встреч не было. И все же она продолжала жить во мне, питать мою душу радостью…
А теперь все изменилось. Войдя в нашу семью в качестве снохи и поселившись в нашем доме, она нарушила ритм моей жизни. Хотя ни движением глаз, ни словами наедине со мной не показала, что знает меня.
Поначалу думал: хитрит. Но потом убедился: в ее жизни я был эпизодом, который память не сохранила. Жила ведь бурно. До Виталия трижды побывала замужем. К каждому супругу испытывала горячие чувства. Когда же они затухали - брак обры¬вался. С моим сыном вроде всё иначе. Он - настоящий красавец, да и моложе Надежды на девять лет. Она первой его «зацепила», долго искала пути к сближению. Полна к нему необузданной страсти. Впервые, в свои 34 года, забеременела. Прежде Виталий увлекался гулянками - теперь весь в работе (он – врач).
Внешне Надежда почти не изменилась. А я потолстел, стал лысым… Но вот увидел её - и ко мне будто молодость вернулась, воскресли давние чувства. Не могу не любить эту женщину. От наплыва эмоций нет покоя ни днем, ни ночью. Ле¬жу с женой, а мысли «там». Когда Надя при мне целует Ви¬талия, ласкает его - не нахожу себе места. Но от сына скрываю своё состояние. Ей тоже ничем не выказываю, что когда-то были знакомы. «Водопад» и все женские скульптуры спрятал под ключ.
А вот вчера не удержался. Потянуло к ней в спальню рассказать о своей двенадцатилетней тоске, пробудить её память.
Открываю дверь - а в постели с Надеждой - Виталий. (Сын должен быть на работе, а оказался почему-то здесь... ) Понимая несуразность своего поведения, я выбежал из дому и целый день скитался по задворкам, как неприкаянный. Потом сбивал жар холодным душем.
Где найти силу, чтобы взять в руки резец? Есть заказы, позарез нужны деньги - а я не в состоянии работать. В душе - буря. Куда она меня унесет?
ЛИЦА НАСЛАЖДЕНИЙ
КРАСНЫЙ КАМЕНЬ
Иду в Никополе по улице Карла Маркса, а перед глазами точно с таким же названием улица моего родного городка в Западной Украине. Там моя душа испытала сверхпотрясение. И как ни гоню от себя воспоминания, они ежечасно (наяву и во сне) холодными клещами сжимают сердце. Знаю, от них не избавлюсь и после этой исповеди. Но, может быть, она послабит душевное оцепенение, уймет страх перед Божьей карой.
А все из-за Верона. Когда впервые увидела его – вроде ступи-ла на облако, высоко-высоко поднялась в небо. Передо мной стоял ангел – со светлым благородным лицом, с глазами, которые, казалось, загляделись в вечность. Лишь мельком взглянул на меня – и моя кровь понесла к сердцу радостную весть: есть кого любить. Подобное чувство уже лет двадцать не возникало во мне. Попадались приятные мужчины, соблазняла их. Но сквозь душу они не проходили. А тут…
Однако, на что я, сорокалетняя, надеюсь? На свое обаяние? Да, мужчины еще посматривают в мою сторону. Ноги у меня не кривые. Грудь своя – не силиконовая. Лицо подрисовывать умею. Одеваюсь моднее других. Помогает во всем и гражданский вес мужа – двенадцать лет он первое лицо в нашем городке. Но для любви все это – лишь привесок. Она рождается от взрыва чувств, от подвига доброты. Нужны суперобстоятельства, чтобы вспыхнула страсть, чтобы ее семена проросли.
И – о Бог мой! Для нашего сближения в тот же день возникли предпосылки. Верон, выпускник вуза, по министерскому распределению приехал преподавать физику в нашей школе. Денег нет, жилья нет, а уже имеет жену, дочь и сына (наивных красавчи-ков девки окручивают еще в студенческие годы). Словом, новый учитель гол как сокол. Кто позаботиться о нем? Кто поможет обустроиться в нашем бедном захолустье? Я, только я – жена городского головы. Имея это в виду, директор и позвал меня, учительницу химии, к себе в кабинет, познакомил с Вероном Николаевичем Бондарем.
– Вы мне очень понравились, – сразу же созналась я. – Все, даже невозможное, постараюсь сделать.
– Я остановился в гостинице. Вот мой телефон. Звоните в любое время.
Переговорив вечером с мужем, я не удержалась и набрала мобильный Верона:
– Как Вы там?
– Живу надеждой на Вас!
– Мое сердце Вас понимает. На следующей неделе получите ключи от квартиры. Она не новая, но просторная: три отдельные комнаты, кухня, ванная, туалет…
Продолжаю перечислять бытовые аксессуары, уведомляю, что жилые метры – из служебного фонда, собственностью жильцов никогда не станут. Зато плата умеренная.
Словесным напором оберегаю собеседника от шока. Понимаю: новость его ошеломила, привела в крайнее возбуждение. С волне-нием Верон справляется только минут через семь, тихо произносит:
– Я готов расцеловать Вас…
– Возражений нет, – возбуждающе чувственным голосом поощряю его.
Два дня спустя на своем маленьком «Форде» привожу Верона к себе на дачу. Там заранее все подготовила для интимного сближения: спиртное, постель. Он пьет французский коньяк, я – «Советское шампанское».
Происходит что-то наподобие общения учительницы с учени-ком. Обстановка доверительная, лирическая. Противодействия с его стороны нет. Имея опыт, дарю партнеру высшее сексуальное сча-стье. Ласкаю, как никого прежде: с жаром, искренне и безоглядно.
А на следующей неделе на правах «шахини» (так окрестил меня Верон) беру на себя все хлопоты по переезду его семьи. Заказываю фургон, грузчиков. Жена Верона Рая, слава Богу, вос-принимает мои старания как широту души. И действительно, моя душа, ощущая нежность молодого мужчины, с каждым мгно-вением прирастает добротой. С Раей за чаем беседуем как подруги. Она благодарит за заботу, заверяет, что отныне дверь ее квартиры всегда для меня открыта. И с этого момента берет за правило советоваться со мной по всяким семейным неурядицам.
Думаю, это как раз она подогревала симпатию мужа ко мне. Иногда прямо при нем восхищалась моей одеждой, лицом, умением вести себя просто, раскованно. Сама же Рая никак не могла вывести прыщи на щеках, во всем торопилась и не успевала. Годовалый сын и трехлетняя дочь забирали у нее всю энергию. Так что наличие у мужа «старухи-любовницы» ее вполне устра-ивало. По-моему, Рая сознательно способствовала моим с Вероном свиданиям.
Но так вышло, что я не просто увлеклась, я по-настоящему полюбила этого «мальчика». Сердцем, телом, мыслями. Мне особенно нравилось, когда его рассеянная кротость на людях в постели сменялась неукротимой утонченностью инстинктов. Если не уединялась с ним хотя бы раз в неделю – теряла спокойствие, ревновала, плакала.
От мужа свои терзания тщательно скрывала. Однако эмоции неожиданно выплеснулись на дне моего рождения. Отмечала его в три захода. Вначале устроила вечеринку для родственников. Затем для нужных в городе людей (это был кворум влиятельных болванов). А напоследок собрала педагогов нашей школы. Выпили, закусили. Вдруг вижу – с Вероном танцует учительница младших классов, открыто прижимается к нему и увлекает в соседнюю пустую комнату. Я не сдержалась, вслед за ними заскочила туда, включила свет и произнесла в запальчивости:
– Здесь вам не бордель!
Они ретировались и, полагаю, тут же забыли об инциденте. Но всплеск моей ревности впал в око моему мужу – Виктору Александровичу. Он пригласил меня на танец и с демонстративной светской непринужденностью зашептал на ухо:
– Тамара Петровна, этот мальчик хотел наставить рога жене? Шевельни пальчиком – и я его проучу…
Мой Боров (так про себя я именовала супруга) всегда шутил топорно. На этот раз тоже не поняла, к чему он клонит. Но то, что заметил мое смятение, – это факт. Все же надеялась, что у него на-прочь отсутствует чувство ревности, что он чисто с позиций целесо-образности контролирует меня, ибо я (так он считает) имею «врож-денную склонность к амурным приключениям»… Познакомились мы 17 лет назад – в роддоме. За три дня до этого я родила дочь Настю. В связи с Днем матери в роддом пожаловал Виктор Алек-сандрович Зарубин, тогда заместитель городского головы. Как положено, произнес речь, от мэрии вручил роженицам подарки. Меня, как самую симпатичную, попросили сказать пару слов благодарности. Я подошла к микрофону растерянная, вся в слезах.
– В такой день – и невеселая? – вырвалось у визитера.
– А чему радоваться? – отвечаю. – Мужа нет, квартиры нет. Не знаю, как жить дальше. Наверное, придется отказаться от ребенка…
– А сколько Вам лет?
– Двадцать один год.
– Работаете?
– Нет. Учусь на последнем курсе педагогического.
– А мне 33. Вдовец. Предлагаю на время поселиться у меня.
Спустя неделю Зарубин забрал нас с Настенькой из роддома. А через месяц я с ним расписалась. Он оказался страстным, сильным мужчиной. Веселая деспотичность, которую проявлял в сексе, доводила тело до кипения. Ссорились редко. Единственный недоста-ток – весь в работе, пообедать некогда, домой может вернуться за полночь. Зато верен до беспредельности. При этом исповедует со-знательный эгоизм: такой же верности требует (при показном отсутствии ревности) и от меня. Когда однажды гульнула на ку-рорте – проведал все до деталей и наказал по-мужски: избил так, что теряла сознание. Водой отливал. Затем, как ребенок, плакал, просил прощения. Это уже был не тот человек, за которого выхо-дила замуж.
Не забыла его кулаки до сего дня. Поэтому свой новый роман всячески маскировала. В мозгу вертелось: «Верон. Верон», а ухитрялась произносить «Рая». Слово «Рая» и сама Рая не раз выручали меня. Эта женщина во всем подчинялась мне. Благодаря ей мое счастье протянулось на три года.
А споткнулось оно, можно сказать, на ровном месте. Директор школы объявил, что уходит на пенсию. Мне захотелось «подарить» эту должность Верону. Для этого пригласила на ужин Раю. В непринужденной обстановке она (по моей подсказке) попросила Виктора Александровича посодействовать карьере мужа. Обосновала это (как я советовала) наличием двух детей и незаурядными педагогическими способностями супруга. За годы работы в школе он в самом деле показал себя с хорошей стороны. Но имелись опытнее специалисты. Они тоже метили в кресло директора, ходили на поклон к мэру. Виктор Александрович долго все взвешивал. Потом поинтересовался моим мнением.
– Верон Николаевич Бондарь, – голос выдал мое пристрастие, – необыкновенно талантлив, дети его обожают. К тому же его жена – моя подруга…
– Добро, быть по-твоему. Молодость - качество невосполнимое…
В ответной реплике мужа я уловила нотку скрытого раздражения. Неужели он настолько проницателен, что разгадал все мои ухищрения в пользу Верона?
Корень зла в моей страсти, в моем безумстве. Соблазнила мальчика, попользовалась – отойди. Издали любуйся его красивой внешностью.
А я не смогла отступиться. Заглядывая в его глаза, ощущала, что в них сливается воедино мое прошлое и будущее – и это пик счастья. Я продолжала любить, покровительствовать. Зарубин под моим нажимом подписал приказ о назначении В. Н. Бондаря директором.
А дальше?.. В глазах темнеет, как вспомню… Я уехала в Крым на курорт. Там смотрю – в магазинчике вино «Красный камень». Прежде с Виктором Александровичем часто его пили, считали лучшим из лучших. А потом оно вдруг надолго исчезло из продаж. Говорили, погибли плантации виноградника с одноименным названием. Теперь, выходит, плантации возродили?.. Я купила пять бутылок сразу. В тот день шофер мужа привез на отдых мою дочь. Пользуясь случаем, я передала три бутылки Виктору Александровичу, а две – в школу.
Шофер почему-то передал те две бутылки не Верону, а завхозу. Тот организовал застолье, и вышло так, что первым вино выпил… Верон. Его мгновенно стошнило. Но он еще оставался при памяти – и сам вызвал «скорую».
В больнице, куда доставили потерпевшего, отнеслись к рассказу об отравлении с улыбкой. Врач, не завершив осмотр, неожиданно отлучился по какому-то экстренному вызову. Больному довелось бегать (лифт не работал) по этажам, требовать у персонала внимания к себе. Одна из пациенток позже свидетельствовала, что «В. Бондарь рыдал, умолял прочистить желудок. Но никто на его мольбы не реагировал». (Мой мальчик остался наедине со своей пораженной ужасом растерянной душой. А я в этот день и час плавала в море, наслаждалась лаской волн – и не думала о нем). Когда через два часа возвратился врач, уезжавший по вызову, то нашел Верона на койке приемного покоя бездыханным. Экспертиза показала: умер от разрыва сердца. В крови (анализ проводился в специализированном научно-исследовательском институте Харькова) не обнаружили никакого яда. В раскупоренной бутылке «Красного камня» его тоже не оказалось. Объяснили: погиб из-за мнительности, из-за панического страха.
Я, слепая ко всему вокруг, прервала свой отдых в санатории. Но, выпотрошенная и пустая, все же помогла Рае похоронить мужа. Стоя над могилой, осознала, что счастье внутри нас, и что я его лишилась… А нутро Виктора Александровича (видела это в его глазах) переполняла свирепая радость. Он не отказал мне в просьбе: детям Верона в соответствующих городских службах начислили приличное пособие. Квартиру Бондарей исполком исключил из списка служебных – и семья ее приватизировала.
А вот врач избежал всякого наказания. Этот и другие факты (в тайнике мужа я обнаружила пленку с записями моего с Вероном разговора во время наших свиданий на даче) показали, что он «заказал» уничтожение моего любовника. Был использован метод подмены бутылок. Вначале в вино подмешали яд. А когда произо-шло отравление, следователю подсунули другую – «чистую» бутыл-ку. Применен, понятно, «спецслужбовский» яд, которого нет в медицинских каталогах. Естественно, и в крови его никто не вы-явил. Этот криминальный план Виктор Александрович осуществил за большие деньги руками «спецов». Перепроверив все обстоятель-ства, я окончательно в этом убедилась. Но объявить мужа убийцей не могла. Отсутствовали улики, не говоря уже о свидетелях. И еще, я почувствовала, что он, если пикну, уничтожит и меня.
Наступил период рабского подчинения условностям. Этот наихудший компромисс длился два года. Жила, как в каземате: тише воды, ниже травы. Только когда дочь окончила вуз и уехала на работу в Никополь, появился существенный предлог удалиться от Зарубина. Ныне мы в разводе. Но до сего дня живу в страхе за свою жизнь. Такой человек может достать где угодно. Публикация этой исповеди, надеюсь, оградит меня от преследований. А Господь, молю об этом, примет мое покаяние. Ведь это я, я тот кровавый камень, что лежал за пазухой Борова – и которым убит небесной нежности молодой мужчина.
Но что наиболее печально и страшно? Душа Виктора Александро-вича оказалась способной отстраниться от преступления, которое он совершил. Она не угнетена, не парализована, как моя. Он живет в своем накатанном начальственном ритме. Штампует приказы, вершит людские судьбы. А дома его встречает новая молодая жена – Рая.
ЛИЦА СДЕЛКИ
КУПЛЕННАЯ ЖЕНА
Наш с Аллой законный брак длится шесть лет. Прижили дочь. И вот сейчас семья на грани распада.
А познакомились ещё в детстве. Родители купили мне котенка сибирской породы. Я иду улицей и хвастаюсь этим пушистым Мурчиком. Мой корешок Гена рядом ведет на поводке бультерьера. Вдруг котенок с плеча скок на землю. Собачья пасть мгновенно раскрылась - и втянула в себя голову Мурчика. Кричим, бьем буль¬терьера - безрезультатно. Но вот подскакивает меньше нас девчон¬ка, в каком-то месте щекочет пса - и тот отпускает жертву.
Хотя спасительницу моего котенка уличные пацаны дразнили заикой и перекривляли на манер «Ал-л-л-ка и-и-и-грал-ка!», нам с Геной она стала другом. А в подвижные забавы вовлекала не только нас. Если играли в ловитки - редко кто мог догнать её. С прыткостью ласки взбиралась на дерево, смело прыгала с большой высоты. Даже Гена, который на голову выше меня, с трудом настигал неуёмницу. Она кусала его, царапала, выры-валась. Но победу в таких схватках одерживал он.
А когда подросли, Алла, Гена и я стала вместе гулять по Набереж-ной, загорать на пляже. В воде она всегда окуналась с голо¬вой, часто подныривала под меня, хватала за ноги и подбрасы¬вала вверх. А Геннадий то же самое проделывал с ней. У меня это не получалось, так как габаритами не вышел: низкорослый, щуплый.
Окончив школу, мы с Геной поступили в техникум. А Алла в ту осень пошла в десятый класс. Но все равно наша «троица» не распалась. Вместе проводили вечера, бегали на тусовки. В ка¬че-стве связующего звена выступал я. Мои родители преуспевали в предпринимательстве. Мог брать сколько хочу карманных денег. По¬этому не жмотился: покупал билеты на троих, угощал сникерса-ми. Это моё преимущество позволяло выбирать, куда пойти и чем за¬няться, что не всегда совпадало с намерениями Геннадия. Алла же в этих «нестыковках» почему-то держала его сторону.
Помню, она получила аттестат зрелости. Я обрадовался, зака¬зал столик в ресторане. Но они «отменили моё решение». Мы отмечали это событие на лоне природы, и вскоре я пожалел, что согласился с ними. Ибо вечером, под воздействием спиртного, Ге¬ннадий и Алла бросились в объятия друг другу - а затем уедини¬лись под кустом сирени. Я оказался в положении третьего лишнего.
Вот тогда и понял, что люблю эту девушку. Обида вдвойне мучила ещё и оттого, что их сближение считал легкомысленным и поспешным. Ибо неделей раньше Гена при мне целовался с со-курсницей. Хотя, с другой стороны, я знал, что Алле он нравит¬ся больше, чем я. Лицом пригожей. Физически здоровее. Пони¬ма-ние этого еще больше угнетало. Если в прежние годы соперничест-во предполагалось, то теперь оно стало осязаемым и жес¬токим. Мне ничего не оставалось, как сжать душу в ком и удалиться.
Долго бродил по берегу залива. Затем пришел домой, закрыл¬ся в своей комнате. Но уснуть не удалось. Под утро всё та же непере-носимая ревность подняла с постели. Оделся и опять направился к водоему. Глаза ослепли от слёз. В этом состоянии полного отчаяния сбросил шведку и брюки. Кинулся в воду и поплыл, решив, что возврата не будет... Когда же начал терять силы, это было где-то в километре от берега, - из темноты по¬явился отец на моторной лодке. Он подал руку, вытащил. На руках у него я пуще прежнего разрыдался и рассказал о своих переживаниях.
- Не отчаивайся, сынок, - молвил родитель. - Любовь прихо-дит и уходит. Главное, чтобы у тебя было здоровье, деньги. А ты, слава Богу, не больной и не бедный. Окончишь техникум - пода¬рю магазин. Не продавцом - полноправным хозяином станешь. От де¬вок отбоя не будет.
- Мне никто, кроме Аллы, не нужен.
- И она не устоит, если увидит тебя состоятельным человеком.
Предположения отца вскоре реализовались.
Геннадий заявил, что его зовет к себе богатая прабабушка, ко-торая живет в далеком русском городе. Получив диплом, он укатил к ней. Перед этим хвастал, что ему уже подарили иномарку и ключи от отдельной квартиры. Аллу с собой не позвал. Она хо¬дила как в воду опущенная. Даже адреса своего ей не сообщил.
Девушке ничего не оставалось, как клониться ко мне. Месяца через два после отъезда Геннадия пригласила меня на концерт заезжих артистов. Навестила дома, когда заболел.
А я, приняв магазин от отца, никак не мог определиться с выбором продавца. Алла к тому времени заканчивала курсы бух¬галтеров, искала работу. Но мне недоставало смелости поговорить с ней на эту тему... Отец, проведав о моей нерешительности, в тот же день поймал нас на пляже, посадил в лодку, прокатил с ветерком. Затем на середине водоема заглушил мотор.
- Сколько отсюда километров до берега? - спросил меня.
- Примерно три.
- Доплывешь?
- Не уверен…
- А ты, Алла, доплывешь?
- Доплыву!
- Вот такая тебе, Рома, жена нужна. Если не возражаете – в следующее воскресенье свадьбу сыграем.
Это был пир на всю улицу. Белая фата сидела на Алле, как на куколке. Я не скрывал радости, хотя волновался... Невеста улыбалась на все стороны, но порой в её глазах поблескивала слеза. Поначалу объяснял это прощанием с девичеством. Но когда после очередного возгласа «Горько!» её губы не ответили на при-косновение моих губ, ощутил, как где-то во мне «заскребли кошки».
После свадьбы наши отношения длительное время были неопределенными. Алла не шла на душевное сближение. Спали на одной кровати, а было ощущение, что находимся далеко друг от друга. Хотя она старалась побороть неприязнь, порой у неё возникали вспышки нежности ко мне.
Переломным моментом стало ЧП. Мы поехали в гости к её бабушке в село. В тот день выпал первый снег. Я усадил беремен¬ную жену на санки, сам приспособился на полозьях - и мы прокати-лись с горки. Дальше был пруд. Я, ретивая лошадка, впряг¬ся в веревки, похожие на хомут, и побежал по скользкой поверхности. При развороте под ногами затрещало. Мне удалось проскочить, а Алла вместе с санками бултыхнулась в разлом с головой. Не ве-даю, откуда взялась моя прыткость. Прыгнул в воду, схватил Аллу и, упираясь ногами о дно, выбросил на лед.
По инерции она откатилась в безопасное место. А я барахтался, не в состоянии выбраться. Утонул бы, но подоспел рыбак с багром и вытащил меня.
Этот случай укрепил нашу семью. А после рождения дочери Алла, как раскрывшийся бутон, благоухала. Стала радостной, отзыв¬чивой. Аромат её жизнелюбия распространился и на меня. Во всем шла навстречу. В магазине вместе со мной выполняла фун¬кции и продавца, и бухгалтера, и заведующей. Я стал больше внимания уделять выбору и доставке товара. Составлял отчеты, платил налоги. Доходы от продажи росли. Просветлели и чувства, очищаясь от прежних туманностей. Вечерами я брал на руки дочь, похожую на Аллу, и танцевал по комнатам подаренного отцом дома.
Но вот месяц назад в наш город возвратился Геннадий. Он тоже стал семейным, имеет сына, наша дружба возобновилась.
А на днях застаю его в спальне с Аллой. Он мощный, изво-ротливый, набрасываться на него с кулаками или даже с ножом - бесполезно. Я хлопнул дверью - и хотел убежать куда глаза глядят. Но Геннадий настиг меня и попридержал железной рукой.
- Прости, - говорит, - я поступаю не по-товарищески. Но ты должен знать, что шесть лет назад я оставил Аллу не по своей воле. Это твой отец пришел ко мне и уговорил уехать. Мотиви-ровал тем, что я красивее тебя, энергичнее - найду себе девку по-лучше. За мой уход «со сцены» купил мне «мерседес» и квартиру в том городе, откуда я приехал. По условиям «конт¬ракта» я должен был жениться на другой и в течение шести лет здесь не появляться. Это все выполнено. Но сердце человека своевольное. Оно возврати-ло меня к Алле. У неё тоже сохранились прежние чувства. Я не намерен разрушать ваш союз. Не желаю сиротить ни твою дочку, ни моего сына. Давай дру¬жить семьями. Может, время ублажит меня или ты охладеешь к Алле. Я постараюсь как можно реже с ней уединяться, чтобы не растравливать тебе душу. Но отречься не могу. Мне легче умереть.
Алла подтвердила сказанное. Согласилась исполнять обязанности жены, не бросать меня. Если буду терпим к её редким свидани¬ям с Геннадием.
Отец посоветовал принять эти условия. Но делить жену с другим выше моих сил. Вот стою за прилавком - и вдруг мураш¬ки по коже: не целуются ли сейчас? Раз за разом бегу до¬мой, проверяю, слежу... Мое положение хуже каторжного. Мучаюсь, страдаю, а выхода не вижу.
ЛИЦА НЕБА
Эссе
ЦАРСТВО ДУХА
Молодой монах сидел на берегу у самой воды и совсем не замечал, что накрапывает дождь. Когда же хлынул ливень - пере¬брался ко мне под навес. Там я и услышал от него эту не то легенду, не то быль.
- Преподаватель вуза Константин был очень набожным челове¬ком. Используя любой повод, он с глубоким душевным убежде¬нием внушал студентам, что Царство Духа - это чтение книг, мо¬литвы и посещение храмов. Но сидевшая ближе всех к кафедре девушка по имени Вероника имела такие пытливые глаза, так чутко реагировала на каждое его слово, что в последнее время он терялся, ловя себя на мысли, что чего-то недосказывает.
А после того, как на Рождество Христово девушка преподнесла ему подарок в виде небольшого стихотворения, ее образ стал все чаще тревожить его в снах. И там, в снах, ее глаза были еще красивее.
В канун Пасхи его постигло несчастье - обворовали квартиру. Чтоб унять горечь - решил выйти на природу. Шагает рощей. Вспоминает молитву о том, что в минуты тревог надо поднимать гла¬за к небесам. Смотрит на облака, сквозь которые пробиваются лучи солнца, и на сердце немного теплеет. Оно уже улавливает голос иволги, что свила гнездо в кустарнике. Чтоб не спуг¬нуть певунью, путник осторожно опускается на траву и замирает.
В этом новом положении перед взором Константина открывается берег реки - и там он видит (или это ему только кажется?) Веронику. Девушка в купальном костюме занимается аэробикой под легкую музыку. После, выключив магнитофон, танцует сама по себе.
В этом ее природном ритме Константин сразу же улавливает что-то близкое и родное. В его ощущениях ее танец сливается с шелестом листьев, всплеском волны, стуком дятла о дерево. Звуки, что плывут со всех сторон, душа легко соединяет в еди¬ный поток. Они входят в его сознание, пробуждая желание воспроизвести их. Он никогда не сочинял музыку. Едва знаком с нотной грамотой. Но сейчас вынимает из папки, которая всегда при нем, лист бумаги и записывает мелодию. Она не похожа ни на одну из тех, что слышал раньше. Это звучание его души, и ее сладкие страдания, ее трепет в предчувствии чего-то неизведанного.
Вероника тем временем вошла (или это ему опять-таки ка¬жется?) в реку и плавает среди лебедей. Они взяли ее в круг и как бы забавляются. Девушка, в свою очередь, ныряет и под водой ухо-дит от них. Птицам нравится ее поведение - и они с усиленной рез-востью продолжают игру. Вспархивают и садятся воз¬ле купальщи-цы в прежнем порядке, повернув к ней красноклювые головки... Константин любуется необычным соревнованием - и губы неволь-но нашептывают стихи. В детстве он баловался рифмованием. Но все без толку. А теперь, чувствует, рождаются строфы высокой про-бы. И все они хорошо ложатся на записанную перед этим мелодию.
Вот так всколыхнула его душу Вероника. Он уже не может сидеть незамеченным. Выходит из полосы кустарников на откры¬тую поляну и приятным голосом, пусть не отлично поставленным, но сочным и проникновенным, исполняет вот только что создан¬ную песню.
Услышав его голос, Вероника появляется из-за деревьев и медленно идет навстречу. Следом по воздуху несутся лебеди. Но девушка не замечает их. Мелодия так тронула ее, что видит только Константина. И разве это не чудо? Он еще не ознакомил ее с текстом, а она уже поет синхронно с ним. И в ритмике не ошибается, и слова знает.
- Все это передалось мне на уровне чувств, - тут же объясняет удивленному Константину.
Да, она - вроде бы он сам. Чтобы заняться чем-то для обоих интересным, подводит его к закрепленному на мольберте холсту, раскрывает этюдник (все это готовила для себя) и просит нарисовать ее. Карандашом Константину приходилось выполнять эс¬кизы церквей, икон. Но маслом никогда не работал. Ныне же в залихватском азарте усаживает Веронику позировать, берет в правую руку кисть, в левую - палитру. И без предварительных набросков, без длительных раздумий и проб - чистыми красками за час переносит лицо Вероники на полотно. И как похожа! Вроде кто-то помог передать загадочность улыбки, изысканную бледность чела, а родинку между бровей - преподнести как знак судьбы.
С разных позиций осмотрев портрет, Вероника спрашивает:
- Откуда у Вас, Константин Дмитриевич, столько талантов?
- От счастья…
Обоих окружают лебеди (не из зооцирка ли они, что очень ручные и натренированные «брать в кольцо»?) и как бы подтал¬кивают друг к другу. Рука невольно тянется к руке. А после и губы сливаются... Константин наконец осознает, что Вероника и привиделась, и выдумана им, и одновременно - реальна: обни¬мает, целует… Близость с ней пробуждает в душе доселе неведомые чувства. Они пронзительнее только что сочиненной мелодии, проникновеннее стихотворных строчек, звучнее песни, красочнее картины… Из чувств прорастает все лучшее, в них источник человеческого гения.
Как бы в подтверждение этих ощущений небо наполняется светом, расступаются облака - и взору Константина и Вероники предстает один из уголков Царства Духа. В обрамленные боже-ственным сиянием врата входит Мария с младенцем Иисусом на руках. Их сопровождают апостолы, святые, великомученики. Зод-чие по пути их следования возводят храмы. Художники создают живописные картины. Композиторы пишут музыку, поэты - сти-хи. На огромной площади знакомят людей со своими произведе-ниями писатели, кинематографисты, философы, ученые. На возвы-шении дискутируют друг с другом Рафаэль и Рембрандт, Данте и Шекспир, Моцарт и Верди, Кант и Камю, Достоевский и Эйн-штейн, Довженко и Феллини... Над ними неоны высвечивают слова: «Косность и Беда губят Талант. Не живет он и без Любви. Без нее не войти в Царство Духа...»
Видение длится недолго. Но оно как бы освящает любовь преподавателя и студентки. Они решают всегда быть вместе.
Однако уже утром следующего дня ректор вуза велит Констан-тину отбыть в командировку в соседнюю страну сроком на полный месяц.
Там, даже во время чтения лекций, в нем непрерывно звучит голос: «Мой дух без Вероники слабеет. А рядом с ней он удваи-вался... Всякий человек достигает высшей духовности только при взаимной любви, большой, единственной, негасимой». Сопоставляя эти слова с Нагорной Проповедью Иисуса Христа, со всем тем, что засвидетельствовали о нем апостолы, Константин находит там полное подтверждение своим чувствам. От этого душа еще сильнее тянется к Веронике.
И вот он дома. В своем лучшем костюме спешит на лекцию. Он прямо в аудитории объявит о своей любви, попросит Веронику стать его женой. То, что она студентка, а он преподаватель, - не помеха. Разница в возрасте всего шесть лет.
Взойдя на кафедру, Константин ищет глазами свою избранницу. Но не находит на привычном месте. Там почему-то лежат цветы.
- Где Грекова? - спрашивает старосту.
В ответ слышит, что две недели назад она погибла в авто-катастрофе. Не выдержав тяжести этих слов, Константин осе¬дает на пол, впервые в жизни прилюдно рыдает.
…Когда я поднял глаза на завершившего рассказ молодого монаха - он утирал слезы.
ЛИЦА УНИЖЕНИЯ
ПАРИТ ОРЕЛ НАД КУРГАНОМ
Отец всегда учил меня быть ответственным за свои поступки, при любых обстоятельствах не предавать друзей, а тем более - родных и близких. Поэтому я ни капли не поверил, когда мать сказала, что он спит... с моей женой.
На Белле я женился два года назад. До неё встречался с сокурсницей по институту, дело шло к свадьбе. Но как-то выб¬рался в гости в соседний город. На обратном пути ехал в од-ном купе с юной пассажиркой. Долго молчали, увлекшись чтением. Мельком посматривая, отмечал прозаичность ее лица. Когда же разговорились, моё впечатление постепенно менялось - и в какой-то момент пробудилась симпатия к попутчице. Выявилось: читаем одну и ту же книгу под названием «Алхимик». Оба любим итальянские телесериалы и английскую музыку. Протягивая руку для знакомства, Белла сказала: «Ваше имя, Феликс, в моем созна-нии соединилось со словом «феникс». И эта фраза, и последующие располагали к искренности. Глубокий, грудной голос девушки затрагивал во мне какие-то струны, о существовании которых прежде даже не дога¬дывался. Она как бы открывала «меня для меня». Я слушал её рассказ об окончании техникума, о только вчера полученном дипломе, а мои глаза неотрывно ловили малейшие движения её рес¬ниц, рта с пушком над верхней губой. Передо мной вроде журчал родничок, из которого я пил радость.
Увлеченный беседой, не замечал, как за окном мелькали богатые летними красками степи. Но вот поезд остановился.
- Смотрите! – рука Беллы коснулась моей. - Сколько у насыпи ромашек! Их бы сюда в вагон.
- Давайте, - с заиканием (от волнения) заговорил я, - сой¬дем на этом полустанке. Выкосим глазами красоту, а потом вечерней электричкой поедем дальше.
Белла вслед за мной спрыгнула с уже набирающего скорость поезда. Мы, словно подростки, бросились кувыркаться среди цветов. Поиграли в ловитки. Выглянули за лесопосадку - а там тьма сон-травы и фиалок. Сквозь колючки шиповника пробрались к скифскому кургану. Отсюда поля и перелески - как на ладони. Такое ощущение, что этот простор прежде никто не видел, что это мы его первооткрыватели. В небе зазвенел жаворонок: «Для нас поёт», - молвила Белла.
Под воздействием жары я сбросил одежду, лёг загорать на валуне. Белла сидела рядом. Потом нашла поляну, окруженную зарослями дикой розы. Сказала, что полежит в цветах, чтобы надышаться ароматом. Попросила не подходить, так как тоже разденется. Я пообещал. Но где-то через час мной овладел непонятный страх. Его навеял орёл, что хищно парил над курганом. Я понимал, что бояться нечего. Однако бесконечные виражи птицы тяготили. Лежать в одиночку становилось невмоготу. Захотелось общения. Чтобы не спугнуть Беллу, подкрался к ней по заросшему кустар¬ником северному склону. Не дыша подполз ближе. Вижу - глаза закрыты. Значит, задремала? Я наклонился - и поцеловал схожие на яго¬ду губы. А дальше…
Сам не ведаю, как всё произошло... Опомнился - когда понадо-билось утирать ей слезы, успокаивать. Она рыдала, выкрикивая, что я, как зверь, изнасиловал её… А едва утихла, мне опять захоте-лось целовать припухшие губы, ласкать горячие груди. В соседстве с красными розами белое тело казалось наполненным солнцем. Его лучи проникали в меня и как бы расширяли и освещали душу.
Белла упиралась, но я прямо с поезда потащил её к себе домой. Пользуясь теменью, тайком провел в свою комнату. Там мы и провели свою первую совместную ночь.
Утром я познакомил Беллу с родителями. Объявил, что мы уже муж и жена.
Мать напомнила, что я обручён с другой, что всё это не по-людски. Но отец сказал, что обязан уважать выбор сына, даже если он ошибочный. А, выяснив, что Белла экономист по образованию, пообещал устроить на работу.
Семья у нас большая: мать, отец, я и трое моих младших братьев. Дом одноэтажный, но длинный. Для каждого – отдельная комната. Есть превосходно обставленная горница, а также зал для банкетов, кухня, столовая, спортзал. Все это обустроил роди¬тель собственными руками.
Теперь мне с Беллой он отвел недавно возведенную пристрой-ку. Вход - отдельный, все удобства. Это по сути такой же, как у родителей, дом. Только без двора, сада и сауны. Они оставались в общем пользовании. Кстати, банное место отец оборудовал с такой изобретательностью, что от гостевых посещений отбоя не было. Циркулярный душ, парилка, бассейн с при¬способлениями для подводного массажа - всё с «царским» размахом.
После моей женитьбы зачастили друзья, школьные, институт-ские. Их прельщали и уют нашего семейного очага, и желание пообщаться с Беллой. Она встречала всех радушно. Охотно танце¬вала с гостями под музыку Гордона Метью (Стинга) и Боба Дилана. А вот в новогоднюю ночь в банкетном зале собралось только на-ше семейство. Хотя был ещё мой однокурсник Виктор. Так вы-шло, что с первых минут он «приклеился» к Белле. Под¬саживается к ней, предлагает выпить на брудершафт, даёт волю рукам. На его нетактичное поведение первым среагировал отец, велев мне одернуть друга. Но я ссор не люблю. Просто увел Беллу в нашу спальню – и мы до утра отдавались любви.
Такие бурные ночи повторялись всё чаще. Жена, когда возвращался с учебных занятий, всегда встречала ласкающим взглядом и какими-то стеснительными (как в первый раз), но жаркими поцелуями. Ещё больше сблизило нас рождение дочери, которую я назвал ее именем.
Белла работала у отца экономистом. Он окончил рыбопромыш¬-ленный вуз, в одно время мы жили на Сахалине, где он занимался засолкой селёдки. А в период разгосударствления соб-ственности создал в родном городе частную фирму. На Дальнем Востоке сту-денческих лет кореш ловит траулером рыбу, неболь¬шую ее часть в замороженном виде отправляет рефрежираторами отцу, здесь её перерабатывают на консервы и продают. Белла с полгода присматри-валась к порядкам, установленным на этом мини-заводе. Потом взялась за их реорганизацию. В частности, упраз¬днила охрану, на содержание которой уходило более ста тысяч гривен в год. Семьдесят процентов этих средств направила на увеличение зарплаты работникам. Те, в свою очередь, обязались не только обеспечивать технологический процесс, но и выполнять охранные функции, а главное - не воровать. Проходную, где прежде людей проверяли, «шмонали», переоборудовали в комнату для психологи-ческой разгрузки. Проверка веса продукции и количества банок показала, что нововведение не только подняло настрое-ние (и зарплату) людям, но и принесло экономическую выгоду хозяевам.
Отец отзывался о Белле-экономисте все более в восхититель-ных тонах. То она помогла без взятки растаможить рыбу, посту-пившую из России. То заинтересовала гривней технологов – и качество консервов возросло.
В вечернее время вся семья, кроме мамы, которая готовила общий ужин, стекалась в спортзал. Здесь общение разнообрази-лось увлекательными состязаниями. Отец, в юности служивший в морфло¬те, привил нам жажду соревноваться, кто больше ото-жмется от пола, подтянется на перекладине, кто художественней выпол¬нит упражнения на лесенке, брусьях, бревне. На любом снаряде превзойти родителя трудно. Только на кольцах я, старший из сыновей, порой достигал тех же результатов. Отец и ныне, в свои 46 лет, всех сильнее и гибче. А на ковре нашу мужскую «четверку» запросто «складывал в штабеля». Белла, видя, как мы отчаянно сопротивляемся, как-то подскочила, чтобы поддержать нас. «Феликс! - кричит, - дожимай его!» Мигом хватает отца за руку, чтобы не дать положить меня на лопатки. Но его мышцы так спружинили, что отлетела, как мячик. Эта резкость отбила охоту вмешиваться в наши схватки. Белла переключилась на уп-ражнения по укреплению ног и брюшного пресса. Взбиралась на брусья, вращала телом обруч.
Ничто не предвещало бури. Но вот прихожу домой, а мать с кри¬ками и слезами сообщает, что отец и моя жена...
О лучше бы мне оставаться в неведении!
Как горько было слушать объяснения Беллы. Я воткнулся в подушку и ночь пролежал без движения и слов. А жена выклады¬вала все как на духу. В тот день она долго парилась в бане, ра-зомлела, охватило состояние какой-то воздушности и мечтаний. Привычно выскочив из парилки, плюхнулась в бассейн. А там неожиданно оказался Вилен (так отныне мы называем отца).
Тело по энерции столкнулось с его торсом, руки коснулись ног – и сразу же, как молния, вспыхнуло притяжение. Вилен отталкивал её от себя, но потом сцепил в объятиях. Оба не смогли побороть природный инстинкт. Уверяет, что с ней произошло то же, что со мной в день нашего знакомства, я тогда потерял конт-роль над собой, она - сейчас. Разницы никакой. На вопрос: «Поче-му же «случайности» в бассейне повторялись много раз?» - Белла долго не отвечала. После погладила меня по голове и сказала: «Я сама не знаю на это ответа. Вилен завладел чем-то внутри меня…»
Жена до утра проплакала. Клялась, что её любовь ко мне не поубавилась. Потерять меня - равносильно лишиться слуха и глаз. Нас ведь сроднили и вкусы, и пристрастия, и даже тем-перамент.
Утром позвал к себе отец. Предложил ключи от квартиры, которую он, предвидя нынешний конфликт, заблаговременно приобрёл для моей семьи. Попросил во имя дочери не разводиться с же¬ной. Если же это произойдет - он оставит мать и будет жить с Беллой.
Я отказался от отцовской квартиры, уволил жену с мини-за-вода. Перебрались жить к чужим людям. Ютимся втроём в тесной комнатке, которую нам отвели. Я уже получил диплом. Но устро-иться по специальности никак не могу. Работаю грузчиком на рынке. Прежде деньгами обеспечивал отец, да и жена хорошо за-рабатывала. Теперь мы порвали с Виленом всякие отношения. Весь рабочий день, таская мешки с крупой и сахаром, думаю о Белле. Если возвращаюсь с рынка, а её нет дома - охватывает то-ска и паническое ощущение страха (точно как было на кургане при виде орла). Но едва жена переступит порог, обнимет, приласка-ет - состояние растерянности проходит. Хотя прежнего погруже-ния в покой и счастье нет. В жилах пульсирует ревность.
Не могу простить измены. Когда же прохожу мимо родитель-ского дома, пробуждается жестокая ненависть к отцу: застрелил бы, если бы имел в руках оружие.
Вот так в одночасье я лишился родителей, и жена, не пойму, есть она или нет: целует, как прежде, но души наши где-то по¬рознь. В теле тоже нет всеохватывающего довольства, есть мучительное наслаждение сквозь брезгливость. Хочется бежать. Но куда? Посмотрю в голубые глаза дочери - и плачу.
По Библии: любить - значит приносить счастье себе и людям. Почему же в нашем случае любовь - во зло всем? Я люблю отца, он любит меня. Я люблю Беллу, она любит меня. Отец любит Бел¬лу, она, по всей видимости, тоже любит его... И для всех троих - страдание. Отчего так? Отчего предельно запутаны и подчас трагичны человеческие отношения? Почему Творец этого не испра¬вит? Я обращался за советом к священнику - он разводит руками: Бог, мол, дал человеку свободу выбора… Но какой тут выбор, если меня с Беллой свела случайность, если Вилена с Бел-лой тоже подстерегла случайность?.. Несовершенен человек! Несоверше¬нен мир! По какому праву орел с высоты небес обруши-вается на жертву? По чьей воле отец, не желая того, исковеркал мою судьбу? Да и свою тоже. Ведь он фактически потерял сына.
ЛИЦА ШПИОНАЖА
ПАЛАЧ
Не ожидал такого: мне приказали убить… мою любимую женщину.
…С Кариной мы познакомились 19 лет назад в Гагре. Тогда с диагнозом вегетативно-сосудистая дистония по кардиогенному типу я лечился в санатории «Маяк». Это выше уровня моря на 200 метров. Но, несмотря на проблемы со здоровьем, не пользовался автобусом, который доставлял курортников на пляж и обратно. Предпочитал в одиночку скакать по крутым тропам вниз, а затем вверх. Купался тоже, где вздумается. И вот на третий день смотрю – из воды выходит необыкновенно красивая девушка. Капли стекают по ее бедрам, а мне хочется ловить их и выпивать. Кожа белая, как снег, а волосы – черные. Из-под таких же черных бровей смотрят огненные глаза.
– Вы первый раз на пляже? – спрашиваю.
– Общаюсь с морем больше недели.
– Однако даже в бинокль, – демонстрирую прибор, – не заметен загар.
– На Востоке, – девушка смеется, – загорелая кожа не ценится.
– Вы, значит, – позвольте угадать – из Хорезма? Кабула? Тегерана? Бухары?
– Нет, я из Еревана.
– Если можно, объясните, почему у меня такое чувство, что я давно Вас знаю и что судьбой Вы определены именно мне?
– В детстве я жила в Украине. Судя по акценту, Вас тоже что-то связывает с эти краем?
– Многое. Так что, если не возражаете, будем считать, что мы бывшие соученики.
– Не согласна! Лучше назовемся мотыльками: Вы – Серо-глаз, а я – Галатея…
Через пару часов я уже почти все знал о Карине. Ей – 20 лет. Учится в консерватории. Отдыхает вместе с подругой Аидой. В Ереване у нее есть жених. Перед свадьбой он разрешил ей побывать на море, пройти сквозь лабиринт соблазнов, а если полюбит кого – пусть остается в этом лабиринте.
Для бесед у нас нашлось много общих тем. В юности я неплохо играл на гитаре, сочинял слова и музыку к ним. Подруги не поленились прийти ко мне в гости, послушать, как я пою. Карина, в свою очередь, более часа играла мне на фортепиано. Инструмент, который мы нашли в актовом зале санатория, был неважно настроен. Но мелодии Рахманинова в ее исполнении звучали проникновенно.
Мы купались вместе. Вечером, взявшись за руки, гуляли по городу. Но мои попытки обнять, поцеловать Карина пресекала. Меня это угнетало. Еще большую бурю чувств вызывал возникший подле Аиды парень, который одновременно зыркал и на «моего Мотылька». Когда мы вчетвером отправились в поход к гротам и пещерам в прилегающем к Гагре ущелье, этот Михаил то и дело помогал девушкам преодолевать преграды, выталкивая их вверх, как гири. А я из-за возникших болей в сердце на рыцаря не тянул. Потом вообще отстал от бойкой троицы… Но после Карина вроде бы забыла об этом. Позволила слегка обнять, поцеловать руки. Правда, тут же объявила, что завтра улетает домой, билет на самолет у нее на руках.
Я решил не провожать «Мотылька». Коль в Ереване ее ожидает жених, зачем «прилипать»? Но на следующее утро по какой-то сверхъестественной команде подхватился – и через полчаса сидел в электричке, что мчала в аэропорт.
В кассах уже началась регистрация пассажиров на рейс в Ереван. Когда я подошел к Карине с одинокой желтой розой в руке, она от растерянности уронила сумочку на пол, покраснела. Затем приняла цветок и…осталась со мной на целых две недели.
Это были дни счастья. Мы возвратились в Гагру, сняли комна-ту в частном секторе – и предались беззаботной жизни. Купались, без удержу ныряли. На затененном пляже находили спаренные лежаки, ложились рядышком и глазами выпивали один другого. Накручивая на палец мои рано поседевшие волосы, Карина раз за разом нашептывала: «Ты Богом мне дан. Ты Богом мне дан…» В ответ на эти признания я целовал ее – и на наши щеки выкатывалось по слезинке. Еще большая сентиментальность наплывала ночью. Сплетались так крепко, словно боялись, что кто-то невидимый рассоединит, заставит спать порознь. В наших ласках было столько изобретательности и сладости, будто до этого «наизусть» выучили «Камасутру». Хотя Карина была первой моей женщиной, а я был первым ее мужчиной.
Расставались тягостно. Словно уходили на смерть. Я объявил, что жениться не могу. Служу в транснациональном холдинге. Работа в вечных разъездах, по условиям контракта обязан быть холостым. (Врал, конечно. Не мог же я открыться, что уже два года являюсь агентом спецслужбы своей страны и выполняю самую грязную работу – работу убийцы).
Карина, слава Богу, не задавала вопросов. Ни в чем меня не упрекала. Только нашептывала: «Я – любима? Я – любима? Я – любима?..» Осыпая ее поцелуями, я клялся каждый день жить воспоминаниями о «Мотыльке Галатее».
Так оно и было. Хотя уже через несколько дней меня переброси-ли в Африку – и круговорот событий уничтожил во мне проявление нежности. Предстояло «обезвредить, как значилось в инструкции, лицо, причастное к заговору против законного президента». Моя за-дача сводилась к роли палача. Я долго выслеживал этого террориста и, улучив момент, слегка уколол зонтиком. То есть специальным шприцом, вмонтированным в стержень зонта, ввел в мышцу вещество, от которого через два дня «объект» скончался «от инфаркта».
Подобные задания шли одно за другим. Посылали в «коман-дировку» то в Азию, то в Южную Америку, то в Австралию, то снова в Азию. Отправил на тот свет немало негодяев. Возвратился на территорию Союза Независимых Государств (СНГ) только по истечении трех лет. Поправлять здоровье опять послали в Гагру. Прибыв туда, сразу же позвонил в Никополь, где в то время на-ходилась Карина. И уже через семь дней – своим глазам не верю: стоит она передо мной – улыбчивая, родная, желанная. У меня накопилось много денег, хотел снять номер в отеле. Но Ка-рина уговорила поселиться в привычном для нас частном домике.
Прожили вместе почти месяц. О «специфике» моей работы говорить не мог. Поэтому, вспоминая поездки, рисовал экзотику разных стран, рассказывал смешные случаи, что возникали из-за моего незнания местных обычаев. Карина, в свою очередь, делилась впечатлениями о своих гастролях по городам России и Украины. Замуж она не вышла. «С той секунды, как отдалась тебе, – созналась однажды в объятиях, – мне никто, кроме тебя, не нужен». Ее верность поразила до жжения в сердце. Во время поездок за границу мне всякий раз подсовывали женщин. Я не отказывался. Но ощущал их только телом. В душе не прерывалась тоска по «Мотыльку Галатее».
Поэтому обрадовался, когда Карина попросила встречаться как можно чаще. У нее есть загранпаспорт, появились средства, и она готова добираться в любую точку земного шара – лишь бы побыть со мной недельку или две.
В избранном нами «перелетном режиме» прожили 16 лет. Женская преданность Карины значительно повлияла на мой характер. Если прежде в загранотряде я рвался выполнять самые опасные задания, то постепенно жажда риска в моем поведении поубавилась.
А месяц назад вызвали в «Центр», начальник управления положил передо мной папку с надписью «Карина Арамовна Багдасарян» и велел: «Читай!» Перед глазами поплыли строчки: «Агент по особо важным поручениям спецслужбы соседней страны, 19 лет находится в близких отношениях с нашим агентом Богданом Николаевичем Сушкевичем, по паролю – «Палач». Собрала обшир-ное досье на всех наших агентов, с кем он общался. О каждом их шаге шлет донесения в свой «Центр». Когда наши страны вошли в состояние вражды, помешала «Палачу» обезвредить террористов в Гане и Венесуэле. Мешая нам, получает большие деньги от тех, кому помогла остаться в живых…»
После разъяснений мне выдали в суперобложке книгу любимого Кариной Мопассана и рекомендовали преподнести ей в качестве подарка. Это я вскорости и сделал.
…Пошла третья неделя, как мы с Кариной купаемся в Черном море. Она читает Ги, а я терзаюсь: правильно ли поступил? Может, ее можно было спасти ценой своей жизни?.. Нет, моя спецслужба обложила нас со всех сторон. Не выполню приказ умертвить Баг-дасарян – это вместо меня сделают другие. Спрятать ее некуда. Все уголки планеты опутаны сетями нашей агентуры. И под землей отыщут. Единственное, что я мог сделать и сделал, – это сплани-ровал ее и мою гибель в одни и те же сутки… Настоял поселиться не в привычном для нас частном домике, а в гостинице. И себя, и Карину зарегистрировал по поддельным паспортам – в качестве бездомных бродяг.
Расчет простой: наши трупы никому предъявлять не станут, а зароют, как бомжей, – в общей безымянной могиле. Так что целую вечность будем рядом.
…Не прочитала Карина и сотни страниц книги, как появились сонливость, безволие. На лице стала прорезаться тусклая печать смерти… И вот настал день, когда, взглянув в зеркало, а затем в мои глаза – поняла: ее спецслужба проиграла «битву» с моей спецслужбой. Приговор ей вынес не я. Меня винить не в чем. Тем более что Карина брала гонорары со спасенных ею смертников без ведома своего «Центра». Поэтому там не предпринимали и наверняка не предпринимают никаких мер по ее спасению. А я что? Пешка, исполнитель чужой воли. Мне под силу только уте-шать, вместе плакать… Я вытер ее слезы, она – мои. Проанализи-ровали ситуацию. Выхода действительно нет.
Успокоившись, Карина поцеловала меня. Затем извлекла из медальона крошечную фотографию подростка и молвила:
– Это твой сын Богдан. Ему 14 лет.
– Почему прежде о нем ни разу не упоминала?
– Не хотела растравливать ни твое, ни свое сердце.
– А где парень сейчас?
– После того как отлучила от груди, – отдала ребенка на воспитание двоюродной сестре в Никополь…
Какие сходные судьбы! Я вырос в том же городке в семье дальних родственников. Жили бедно, питались впроголодь. Когда окончил школу, из-за отсутствия средств вынужден был поступить туда, где полное гособеспечение. Так оказался в общевойсковом училище. На стрельбах из пистолета и винтовки особо отличился – и в качестве поощрения перевели в школу разведки. Не скрою: там почувствовал себя как рыба в воде. Все экзамены и зачеты сдавал на «отлично». А потом более двадцати лет выполнял самую сложную и ответственную работу, – убивал неугодных моему «Центру» иностранцев: террористов, шпионов, политиков, журна-листов. Осечка произошла только последние два раза, когда помешала Карина…
Сейчас, глядя ей в глаза, – в печальные любимые глаза – я сказал:
– Мы любим друг друга – и друг другу должны все простить. Мы служим разным странам – и остались верны им. Одновременно мы остались верны своей любви… Пусть знает об этом наш сын. Пусть, если сможет, простит нас за то, что были плохими отцом и матерью…
Пока я говорил, Карина задремала. Каким-то родным светом за-сияло ее чистое, нежное лицо. Смотрю – и насмотреться не могу. Словно из сказки явилась. Щекой прикасаюсь к щеке, целую в губы – и Карина просыпается. Просит: «Перенеси меня с кресла на кровать». Бережно беру ее на руки, балконная дверь распахну-лась, подул свежий ветер. «Ты, – шепчет, – пахнешь морем». Ед-ва удобно расположились в постели – расстегнула халат и зовет: «Войди в меня!»
Лицом прижимаюсь к белой груди, поочередно «сосу» коричневые соски. Ее руки опоясывают мою шею, притягивают к себе. Я не ложусь на нее, только прикасаюсь животом к животу, бедрами к бедрам. Наконец, вхожу в ее лоно. Как священно это последнее совокупление! Каждую клетку пронзают сладость и восторг! Не дышу – лечу в пьянящую бесконечность. Еще! Еще! Еще! Не прерывайся экстаз! Продлись! Слей наши чувства с трепетом Вселенной! Ведь любовь – это космическое чудо…
На лице Карины удовлетворение. Она засыпает. А я допишу эти строки, вложу в конверт, вброшу его в почтовый ящик – и подамся в ущелье. В то ущелье, которое девятнадцать лет назад «покорял» вместе с Кариной, Аидой и Михаилом. Там в жестоком темпе буду преодолевать подъемы и спуски – пока не сорвется сердце, не упаду мертвым. А если оживу – в запасе есть то самое вещество, что обеспечивает инфаркт.
До встречи, любимая, в безымянной могиле. Прости, что не смог преодолеть навыков палача и так гнусно спланировал твою и мою смерть…»
Эта исповедь шпиона пришла ко мне в Никополь по почте. Полагаю, имена в ней изменены, а события и люди – реальные. Богдан просит опубликовать ее «ради сына».
ЛИЦА НАСИЛИЯ
«ВСЕХ ТРОИХ
Я ПО-СВОЕМУ ЛЮБИЛА...»
Эти слова потерпевшая Вера Паныч в суде повторила несколько раз. Без утайки давали показания и парни, сидевшие на скамье подсудимых.
Алексей ГНИДЕНКО:
- На вопрос «Давно ли знаю Веру?» - могу сказать: мы с ма-лолетства неразлей вода. Но не я, а она ко мне прилипала. Как-то все уши прожужжала, выканючивая плюшевого мишку. Я долго упирался, но в день ее семилетия подарил эту игрушку. В первом классе Паныч усадила меня за одну с ней парту, следила, чтобы не вертелся. А после школы поднималась со своего второго на мой пятый этаж, проверяла, выучил ли уроки. Она задиристостью и простотой окрутила меня. Когда возникал спор - я всегда уступал ей. С возрастом притяжение между нами усилилось. Нередко нас принимали за брата и сестру. В парке, на вечеринках и дискотеках мы неизменно держали друг друга за руку. В такой же слитности любили прошвырнуться набережной - пока к нашим прогулкам не подключился Василий из параллельного класса.
Василий ПИРОВ:
- Как-то в девятом классе иду со школы, а впереди девчонка: оглядывается и язык показывает. Я погнался, а она убегает, обора¬чивается - и опять гримасы корчит. Настиг за поворотом, схватил за шиворот, спрашиваю: «В чем дело?» А она смотрит серьезными с искринкой глазами и говорит: «Приходи в воскресенье на набережную глазеть на звезды». Не ожидал такого поворота - рассмеялся. А в воскресенье ноги сами понесли в обозначенное девушкой место. Полагал, что встреча будет наедине, но за Верой плелся Алексей. Правда, они оба оказались такими виртуозами розыгрышей и потех, что вечер пролетел как одно мгновение. И в дальнейшем совместные тусовки не приносили огорчений. А вот появление Мстислава в нашей компании поначалу я не приветствовал.
Мстислав ТИМОШКО:
- В эти гульки меня вовлек двоюродный брат Алексей, мой одно¬годок. Вера, знакомясь со мной, воскликнула: «Ты не род-ственник актера Меньшикова?» «Нет, - отвечал я. - А что, похож?» «Чуточку». Паныч сразу же подхватила меня под руку, заговорила об учебе. Я сказал, что больше всего люблю математику, участвую в областных конкурсах по этому предмету. Благодаря открытости и обаянию Веры я, как говорится, без сучка и задоринки влился в их «тройку», сделав из нее «четверку». Душой компашки, конечно же, была Паныч. Мы беспрекословно ей подчинялись. Но в те дни, когда по какой-то причине она не появлялась на тусовках, наша мальчишечья стая не унывала, неслась вскачь, веселилась. Но о Вере все трое помнили, к другим девчонкам не клеились.
Вера:
- Алексей открылся мне в своих чувствах в пятнадцать лет. Василий - в шестнадцать, Мстислав - в семнадцать, как раз накануне того случая. Возможно, парни по-настоящему увлеклись. Мне же казались смешными объяснения, тем более предложения в будущем стать мужем и женой. Каждому из троих я отвечала одинаково: «Давай окончим школу, определимся в жизни - тогда, если не разочаруемся друг в друге, по-взрослому обсудим эту тему». Прибегая к шуткам и прибауткам, мне удалось всех троих, по отдельности, конечно, убедить, что каждый из них мне очень дорог, но сейчас я озабочена другим - скоро получу аттестат, а семья в полосе трудностей, за учебу в вузе платить нечем, поэтому надо где-то что-то выкручивать бесплатное.
Судья:
- Как же так? - он обратился к Вере. - Вы всех троих ценили, они вас любили, кто же преступление совершил? Вас, Паныч, изнасиловали не эти хлопцы, на которых мы надели наручники?
Адвокат:
- Суд обязан принять во внимание то, что сразу же после содеянного ребята, опомнившись, плакали. Плакали от того, что собственноручно убили... свою любовь...
Суд несколько дней исследовал обстоятельства преступления. Кроме выступлений прокурора и адвоката (он один защищал троих обвиняе¬мых), были выслушаны показания двадцати четырех свидетелей, среди которых были родственники, соученики и учителя Веры, Алексея, Василия и Мстислава. Парней допрашивали по нескольку раз. А потерпевшей было задано более ста вопросов... В итоге события высветились как на ладони.
В тот майский день Паныч с тремя парнями поехала на вылазку в ближайший от города лес. Дружно купались в реке, загорали. Самым активным был Мстислав. По его «проекту» из сушняка изготовили каркас шалаша. Припасенным для этого кривым ножом, похожим на серп, нарезали двадцать снопов камыша. Уложили их на каркас - и получилось, как выразился Алексей, «клевое жилье для ночевки». Так же коллективно сварили кулеш из ячневой крупы и рыбных консервов. Съели его с огромным аппетитом. Уничтожили также энное количество редиса, сыра и колбасы. Из спиртного употребили бутылку полусладкого шампанского. У Василия был портативный магнитофон, включили музыку. Чтоб никого из парней не обидеть, Вера танцевала с ними по очереди. Стояла жара, ребята были в плавках, она - в купальнике типа бикини. Среди сосен братва выглядела дикарями, о чем и выкрикивали: «Мы - папуасы! Мы - папуасы!» Попсовые ритмы усиливали слияние с природой. Раскрепощенная пляска разгоралась.
Но неожиданно небо расколола молния. Хлынул проливной дождь. Все бросились к шалашу. Кавалеры, демонстрируя вежливость, первой дали возможность укрыться от стихии девушке. Она с ходу плюхнулась на пахучую траву, которой здесь было в избытке. Рядом завалился Мстислав. Его примеру последовали Василий и Алексей. А через мгновение Вера вскочила и в знак благодарности за то, что соорудили такой просторный и уютный шалаш, поцеловала каждого в щечку. Ребята в ответ стали целовать ей руки...
Что было дальше - парни объясняли суду.
Мстислав:
- От прикосновения к Вериной ладони в меня вошла какая-то дерзкая потребность прижаться лицом к ее голому локтю. После увидел вздрагивающие плечи, все тело Веры как бы извивалось, протестуя против сближения с моим телом. Но сопротивление пробудило во мне новую волну притяжения. Ноздри уловили дразнящий запах женского пота. Я уже не мог отстраниться, жадно обхватил талию и припал губами к выскользнувшей из лифчика стоящей торчком груди. Смена ощущений происходила мол-ниеносно. С трудом помню, что я делал, о чем просил ребят.
Алексей:
- Когда вспыхнула игра (в первую минуту я так поименовал эту потасовку между Мстиславом и Верой), я как раз целовал ей запястье – и зрелище разгоряченной девушки, стремящейся вырваться из объятий, ударило мне по зрению. Глаза заволокло пеленой, я почти ничего не видел. Но почему-то не отпустил руку, мало того, еще крепче стиснул ее, а потом, чтоб не дать Вере подняться, всем корпусом навалился на ее плечо.
Василий:
- Алексей придавил Вере правое, я - левое плечо, при этом удерживали от движений ее руки. Это была какая-то групповая мужская страсть. Вера закричала, но Мстислав зажал ей губы пальцами... Потом мы с ним поменялись местами. Алексей был последним - тело девушки к тому времени совершенно обмякло, она уже не отбивалась.
Вера:
- Почти год существовала наша «четверка». Но ни с кем из пар-ней я не уединялась, не сближалась, не целовалась. Ни одному из них не давала не то что повода, а даже намека на предпочтение. Всех троих держала на расстоянии. При этом каждого считала ум-ным, порядочным, сдер¬жанным. Никогда не думала, что обстоя-тельства за миг могут превратить их в зверей. Как-то меня поразил фильм, в котором стая волков загрызает олененка. Так вот: когда мне зажали рот, мои глаза опять увидели «те же» дикие повадки, блеск краснеющих глаз, ярость, оскалы, бешеную прыть и - главное - отсутствие сострадания к жертве. Насильников не остановил ни мой крик, ни слезы. Они переступили даже через невероятную боль, которую я испытывала и которую не могли не заметить. Ни у одного из троих не екнуло сердце при виде того, как конвуль-сирует мое тело, как безумеют от боли глаза, как обваливаюсь в обморочное состояние. Внутри все порвали, из меня хлынула кровь... За три месяца пребывания в больнице многие функции организма так и не восстановились. Детей, сказали врачи, мне уже не рожать. Благодарю Бога, что в тот страшный час на мой зов «Спасите!» откликнулась проходившая лесной тропой женщина, и ей удалось вызвать милицию. Всех троих арестовали в том же шалаше. Это спасло меня. Ибо после удовлетворения сексуальной потребности мои «друзья», поплакав, стали метаться, как замести следы. Одно из предложений гласило: «Додушить всеми любимую Верочку». От мучений и пережитого страха у меня появился и до сих пор не проходит тик в голове, продолжают дрожать руки и ноги. Прежде была веселой и уверенной в себе, а ныне, как старушка, часто плачу. Вот и сейчас не в состоянии унять слезы...
Показания Паныч подсудимые выслушали с опущенными головами, вину свою признали по всем пунктам.
А вот их родители и адвокат, выступая перед судом, стали истол-ковывать факт иначе. Они утверждали, что трагедия разыгралась исключительно из-за стечения обстоятельств. А их творцом и «ар-хитек¬тором» они считают Веру. Мол, это она собрала вокруг себя троих парней («Выступила в роли суки, которой мало одного кобе-ля»). Ей льстило, что симпатичные мальчики ухаживают, объясняют-ся в любви. Почему не определилась, не выбрала одного? Уже то, что предпочитала находиться в обществе троих, создавало нездоро-вую психологическую атмосферу. Возникло соперничество, пусть не оглашенное, но оно повлияло на ребят. Повлияло на них и другое: они невольно ощущали, что в совокупности больше нра-вятся, чем поодиночке. Каждый боготворил ее, а «взаимность была разделена на троих». Паныч, может, и бессознательно, но побуждала ухажеров к взаимной спайке, к слиянию «трех сердец в одно». Это же не секрет, что в процессе каждодневного общения парни выступали в роли одной стороны - мужской, а Вера - второй, женской. О чем она думала, соглашаясь на ночевку с парнями в одном шалаше? Разве «свидания вчетвером» не подготовили их чувства к тому, что девушка желает принадлежать не одному, а сразу всем троим? Сексуальный взрыв в тот день - это результат ее неправильного поведения.
Судья по поводу этих обвинений выступил со специальным разъяснением.
- Да, - сказал он, - из-за неопытности Вера Паныч в какой-то мере спровоцировала насилие. Но в пылу той же наивности она и мысли не допускала о сексуальных отношениях. Представьте: юноши бегут лугом, и вдруг перед ними пропасть - разве кто из них прыгнет в бездну или столкнет туда соседа? Или другой при-мер. Вы идете с товарищем на охоту, даете подержать ружье - и тут же просите: «Стреляй в меня!» Неужели друг нажмет на курок? Человек - мыслящее существо. Он обязан контролировать себя, не допускать преступлений. Я верю, что парни после содеянного плакали. Ведь они, поддавшись дьявольской вакханалии плоти, как бы растерзали собственную душу, свою духовность. Сейчас всех троих тоже мучают угрызения совести. Мне жаль их. Но еще больнее видеть ту, которую они превратили из здорового че-ловека в инвалида и, по сути, испепелили ее судьбу. На днях по телевизору крутили ленту о Распутине. Авторы преподносят данного персонажа как святого человека. «Моя душа принадлежит Богу, а тело - мне», - говорит он, пытаясь оправдать свои низмен-ные поступки, разврат, пьянство. Такая «философия», как показало время, привела к гибели и Распутина, и всей царской семьи, которая доверилась советам и «пророчествам» «святого». Правосла-вие не признает подобной раздвоенности: душа и тело должны находиться в гармонии. Да и фактически все религиозные и философские течения нашего времени в практических выводах сходятся на том, что человек ответственен за свои поступки и за все, что происходит вокруг него. Вина Гниденко, Пирова и Тимошко судом установлена и доказана. Понимаю чувства их родителей. Но суд обязан руководствоваться не эмоциями, а буквой закона. Она же предписывает неотвратимость наказания. Это выстра¬данная человечеством мера. Выстрадана в течение тысячелетий. Без этой меры люди превратились бы в стадо безответственных животных. Строг, особо строг закон к тем, кто насилием побуждает к половому акту. Во многих странах к ним почти во всех случаях применяется смертная казнь.
...Суд приговорил А. Гниденко, В. Пирова и М. Тимошко (каждого) к семи годам тюремного заключения.
ЛИЦА МАГИИ
ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ
Судья:
- Поясните, Максим Павлович, как вы докатились до такого преступления?
Подсудимый М. Савенко:
- Это произошло помимо моей воли... Нине с детства нравилось целовать меня в губы. Говорил: «Нельзя!» Но дочь впадала в ис-терику - и свой каприз отстояла. И вообще ей присуще бурное вы-ражение эмоций. Прибежит из школы, покажет «пятерку» в днев-нике - и тут же бросается ко мне, обнимает, целует. Я качаю ее, как маленького ребенка, глажу по головке, ласкаю, напеваю песню. После кувыркаемся на коврах, бесимся, щекочем друг друга.
В этих шалостях мы не знали устали. А в процессе повзросле-ния Нины еще больше приблизились к безрассудности. Отмечали ей 14 лет: подошла и так нежно, с таким призывным чувством по-целовала, что перехватило дыхание, все мое тело встрепенулось и взбурлило мужским желанием. Я прогнал его, как наваждение. Стало стыдно за свою чувственность. Мое замешательство заметил Рогов, работник магазина, приватизированного моей женой Викто-рией Кирилловной, и с издевкой бросил: «Нина любит тебя, как Джульетта Ромео?». Я резко оборвал его. Но потом вновь и вновь мысленно возвращался к тому поцелую. Он и притягивал, и страшил.
Дочь попыталась возобновить наши невинные игры. Я же вся-чески противился. Только если нельзя было отвертеться - уступал ее неукротимой настойчивости. И опять же - сдерживался, не прояв-лял мужских инстинктов. Хотя, сознаюсь, меня взволновали пры-щики, что вдруг появились на ее лице. Я понял: она созревает как женщина. Но греховных мыслей не было. Просто на меня хлы-нула музыка. Я творил мелодии, находил к ним слова - и пел. Все это посвящал Нине, хотя утаивал от нее. Выдавал песни за на-родные. А себя убеждал, что буря чувств постепенно утихнет. Что между нами не будет ничего интимного. Дочь останется на бу-дущее только импульсом к вдохновению, святым идеалом, чистым родником счастья. Поверьте, я готов был ради нее совершить героический или какой-нибудь сверхблагородный поступок.
Судья:
- Но вместо этого изнасиловали свой, как вы выразились, идеал, свою родную дочь?
- Это неправда!
Истец Виктория Кирилловна Савенко:
- Это правда!
Адвокат:
- Чтобы прояснить ситуацию, разрешите огласить дневнико-вые записи Нины Максимовны Савенко, которые она предоставила защите.
Судья:
- Читайте!
- Вот запись от 29 сентября: «На уроке литературы задали вопрос: «В самом деле в древности жил человек по имени Эдип, ко-торый женился на своей матери, и она имела от него двоих сыно-вей?» Учительница ответила: «Это мифический герой, нереальный, выдуманный...». Мне стало не по себе. Значит, и я какая-то «нереаль-ная», коль мечтаю, чтобы мой родной отец стал мне мужем?.. Как раз сегодня я окончательно осознала это свое желание. А шла к нему не помню сколько. Может, с тех моментов, как он раз-жевывал пищу и языком переправлял мне в рот?.. Из его рта я ела мясные и рыбные продукты, зернышки подсолнечника, орехи и да-же яблоки. Первое слово, которое произнесла, было «папа». Он на-учил меня подтягиваться на турнике, жарить картофель, талией вертеть обруч, сервировать стол, кататься на коньках и лыжах, танцевать и петь. Помню, съезжая с горки, я ударилась кобчиком о землю, да так, что ноги отказались ходить. Отец в испуге схватил меня в охапку и три километра нес к травматологии. Успокоился лишь после того, как рентген показал, что все кости целые. В девять лет после воспаления легких я изнемогала от скопившейся в брон-хах мокроты, вот-вот могла задохнуться. Но папа прикипел ртом к моему рту и, ритмично сдавливая и разжимая мою грудь, высосал смертоносную слизь. И тут же, массируя мне мышцы шеи и спины, запел песню про «червону калину». Я вос¬приняла его голос как голос спасения - и впервые после длительной бессонницы без-мятежно уснула.
С тех пор его песни уподобились ангелам-хранителям. Я росла физически слабой и болезненной. А он склонится над детской кроваткой, затянет жалостливую мелодию - и моя хворь вроде в нее уходит. Утром поднимаюсь свежей и бодрой. И опять он поет, зовет к жизни. Если в школе или где-нибудь в другом месте меня одолевали огорчения, его нежный голос возникал из ничего - и отгонял их.
Постепенно вслед за ним и я потянулась к песне. Видя, что в унисон ему подтягиваю, отец еще больше ударился в музыку. Купил аккордеон, посоветовал избрать этот инструмент в музшко-ле, куда оформил меня. Внушил, что имею все данные, чтобы в будущем стать способной артисткой. Он вырос в бедной многодетной семье, освоил профессию плавильщика, от гудка до гудка пахал на заводе. А вот душа парила в народных песнях. Он перенял их от своих бабушек и дедушек. С детства играл на гармошке, а теперь освоил аккордеон, нотную грамоту, и меня приобщил к ним. Каждую субботу мы давали дома концерты. Слушателем и зрителем была мать. Она, упитанная, представитель-ная, садилась в кресло. И мы пели для нее. Поодиночке и дуэтом. В эти вечера я воспринимала папу как настоящего чародея. Серебряный голос, простота жестов и блеск глаз делали его обворожительным. Мать часто вскакивала и целовала его. Я присоединялась к ней. Он поочередно кружил нас, включив запись танцевальной музыки...
Но после того, как мать из заведующей магазином преврати-лась в его владелицу, а продавцом приняла Рогова, она перестала выкраивать для нас время. Мы утешались вдвоем. И вскоре открыли, что без нее нам еще занятнее и веселее. Не только в субботу, а почти ежедневно разучивали и пели песни, играли на аккордеоне. Хватало времени и на подготовку уроков. Ибо все кухонные заботы взял на себя папа. Он готовил аппетитные борщи, супы, жаркое, разные запеканки и даже баловал меня ромштексом по-итальянски и ореховыми конфетами. А перед сном, как и прежде, усаживался в кресло возле моей кровати и пел колы-бельные, всегда новые, ибо знал их несколько сотен. Пение успо¬каивало, подготавливало к крепкому сну.
Но вчера его голос был иным. В нем появились нотки какой-то глубинной печали. Она вливалась в душу и не ко сну звала, а как бы стелила дорожку по цветущему лугу. Я бежала по этим воображаемым цветам к реке, погружалась в воду и плыла. Волны хлестали в лицо, накрывали с головой. Но я изо всех сил рвалась к желтым кувшинкам, что блестели впереди. Потянулась к ним и почему-то не могла достать. Эти водяные лилии словно в прятки играли. Уже касаюсь к лепесткам, хочу сорвать - а они выскальзы-вают из рук и исчезают в водовороте. Наконец, одна, не желтая, а белая, прилипла к торсу - и я движением тела выдернула ее... Этот подсознанием созданный миг совпал с реальным прикосно-вением щеки отца к моей ладони. Я ощутила слияние наших аур, бег по кожному покрову сладостных импульсов. Они словно спеленали меня и... понесли по той же бурной реке. Не за волной, а опять против течения. Стало пронзительно радостно и мятежно. Это новое чувство как бы закричало: он тебе не только отец! Он выплывший из песни подводный цветок! Обними, поцелуй его!
И я обняла, поцеловала. И мысленно назвала своим мужем. Только после этого уснула под такую же трепетную, как мои ощущения, колы¬бельную.
Утром просыпаюсь - а песня звучит. Другая. Взбадривающая. Веселая. Не у меня в спальне, а за стеной - в зале. И первая мысль: не ложился спать? Выскакиваю в ночной рубахе, повисаю на шее, целую:
- Всю ночь пел?
- Да, разве я мог уснуть, когда душа наполнена таким ярким светом?
- Я тоже тебя люблю, - сказала. И оба поняли: он мне больше, чем отец, а я ему дороже, чем дочь.
- А ты не знаешь, - спросил он, - почему мать на ночь домой не пришла?
- Повредилась электронная сигнализация. Нельзя было магазин оставить. Рогов просил тебе сообщить, но вчера я забыла об этом сказать.
...И вот вопрос об Эдипе. Я в отчаянии. Я всматриваюсь в лица одноклассниц и прикидываю, какова была бы моя реакция, если бы мне по секрету шепнули, что «вон у той девчонки шуры-муры с родным папой»? Все бы ее осуждали, а я?.. Я именно та, что влюбилась в собственного отца. Кровосмешение проклято людьми. Это табу, неписанный запрет, страшный грех... А я люблю! Его песни звучат во мне. Они чистые, как ручьи, что были первыми на земле. Его голос не загипнотизировал, не сковал, наоборот, раскрепостил душу, открыл мне самые дивные краски жизни - краски любви. Нет, это не грех - любить! Это Божий дар! Это Богом посланное счастье! Оно живет в сердце. Пульсирует в крови. Наполняет душу ожиданием и восторгом. Телом к телу мы еще не лежали. Но это обязательно будет. Я уже познала слияние наших ощущений, наших мыслей, наших желаний, наших рук, наших губ. Его дух вселился в меня, а мой дух живет в нем. Мы две ветви одного дерева... Разлучить нас сможет только смерть».
«28 октября. В предыдущих записках была лирика, а теперь - черт знает что... Сегодня иду за продуктами в магазин - и в подс-обке застаю хмельных мать и Рогова. Лежат на диване полуголые. И даже при виде меня не всполошились, не оделись. Вместо этого мать поймала меня за руку и, перепуганную, усадила рядом.
- Знаешь, кто таков Филипп Пименович? - она ткнула пальцем в Рогова.
- Рубщик и продавец мяса, - отвечаю.
- Согласна. Но одновременно он является и твоим кровным отцом.
- А Максим Павлович кто мне?
- Тот удочерил тебя. Филипп не захотел на мне жениться, укатил на Север. А тут подвернулся Савенко, сельский наивный парень, и... пожалел нас с тобой.
Эти слова входили в меня, как яд, поражая все органы. Хотела кричать - не смогла. Попыталась высвободить локоть из рук матери - сил не хватило. А в мозгу чередовались наплывы боли и злобы, пре¬вращая окружающие предметы в каких-то бесформенных, еле видимых монстров... От всех этих впечатлений стало жутко настолько, что потеряла сознание».
Судья:
- Нина Савенко, подтверждаете перед судом, что события, описанные в вашем дневнике, действительно имели место?
- Подтверждаю.
- А вы, Виктория Кирилловна, все отрицаете?
- Несомненно!
Адвокат:
- Представляю суду документы, удостоверяющие, что Виктория Кирилловна родила дочь до оформления брака с Максимом Павловичем и родила не от него.
Судья:
- Почему же вы, подсудимый, и на следствии, и здесь, в суде, вплоть до этой минуты называли Нину не падчерицей, а дочерью?
М. Савенко:
- Я вынянчил ее. А если полюбил еще и как женщину, то стало быть, отцовские чувства возросли во сто крат. Дочь она мне, дочь!
Судья:
- Расскажите, Нина, поподробней, что произошло пятого ноября.
Нина:
- Накануне я всю неделю находилась под тяжестью того, чем удивила меня мать. Высокий немногословный продавец - мой родитель? Но ведь с первой минуты, как увидела его год на-зад, кроме чувства безразличия, ничего другого к этому человеку не испытывала. Глаза прищуренные и всегда хмурые. Походка неритмичная, речь сбивчивая. Льстит, угождает покупателю - и тут же обвешивает его, обсчитывает. Поговорить с ним не о чем. 13 лет где-то жил в свое удовольствие, а нас с мамой бросил на прозябание. А когда вернулся в наш город и узнал, что бывшая его девчонка владеет магазином, - снова прилип к ней... Да и мать хороша! Ни мне, ни Максиму Павловичу словом не обмол-вилась о прошлом Рогова, о давнем их романе. Небось, тайком спит с ним уже с полгода. Поэтому и дома почти не видим. До-шло до того, что и на ночь не приходит. А Максим Павлович? Ревнует? У него такое мягкое сердце, что личные огорчения на лице не обнаружишь. Всегда улыбается, привык лишь приятное делать людям. В тот вечер, 5 ноября, когда я пришла домой, он лежал на кровати с приложенным к голове компрессом. Я под-кралась незаметно и увидела - плачет.
- Что с тобой? - спросила.
- Сам не знаю. Дрожь в теле - и никак унять не удается.
Я прижалась щекой к небритой щеке, заглянула в глаза - и все поняла: узнал о спайке матери с Роговым.
Чтобы взбодрить отца, я запела его любимую песню о цветах, что погибли на морозе, а спустя день, согретые солнцем, ожили. Мне было приятно, что теперь не он меня, а я его успокаиваю, окутывая близкой сердцу мелодией. Наблюдая, как осушаются его глаза, и я посветлела душой. Ведь все эти дни ходила, как туча. Считала себя растерзанной, униженной собственной матерью, которая бросила меня в смерчи жестоких и подлых противостояний. А теперь, глядя в ясные глаза Максима Павловича, я оттаивала и радовалась, что не от него родилась. Что сейчас, без оглядки на кровосмешение, могу любить.
- Отныне считай меня своей женой, - сказала и осыпала его по¬целуями.
Он приласкал меня, обнял, а потом молвил:
- Я тоже весь с тобой. Но это духовная близость. Это называется родством душ. А я взрослый мужчина, и, кроме этого, мне нужна женщина. Подло в этом сознаваться, но, извини, приходится...
Растерянность сковала меня, из глаз брызнули слезы. Но Максим (позвольте подсудимого называть только по имени) вытер их и так солнечно осветил меня взглядом, что я, как мотылек, вспорхнула на середину комнаты и закружилась в своем любимом «Танці нареченої». Ноги, руки и плечи были в движении, в полете. Музыку никто не включал, она звучала в моем теле, в моих чув-ствах. Возникло ощущение, что исчезли потолок, стены, что тан-цую между небом и землей. Сама не заметила, как преодолела стыдливость и принялась раздеваться, снимая с себя одежку за одежкой, пока не осталась совершенно без ничего.
Максим не ожидал «стриптизных» пируэтов. В его глазах я увидела борьбу неприятия с восхищением. Победило последнее. Он быстро включил кассету с записью своего сочинения «Фантазії кохання». Ко мне, обнаженной, подошел одетый до пояса. Обвил руками талию и повел в тихом ритме. В музыке было все именно наше, общее с ним. В ней я обнаруживала свои грезы, порывы к счастью, сомнения, страдания, надежду на избавление от тревог, желание чистой любви - и ветер, весенний, теплый, но настолько сильный, что сбивает с ног, валит на острые шипы и терзает бесконечными подъемами и рывками.
В один из моментов, использовав подходящее па, Максим опустился на колени и в такт музыке принялся, начав с лодыжек, покрывать поцелуями мои ноги. От прикосновений я будто бы подросла, появились неведомые доселе ощущения. Возникла терпкость во рту и признаки жажды. А когда его губы дотронулись до груди, она вздрогнула, и волны щекочущего озноба поплыли вверх и вниз. Захотелось раствориться в теплом комнатном воз-духе. Но мое плечо случайно уперлось в его плечо, жар мужского тела передался моему - и я, закрыв глаза, обняла Максима. Потянулись мгновения сладостного ожидания. Полагала, что вот сейчас подхватит меня и понесет в постель. Но вместо этого он нежно-нежно прижался к моим губам и, отстранясь, молвил:
- Спасибо за музыку первой любви. Ее крещендо и фуги останутся со мной на всю жизнь. Но быть с тобой как с женщиной не могу. Тебе всего четырнадцать с половиной лет...
Он продолжал целовать - и одновременно одевал меня. Пы-талась возражать. Но мой протест утонул в его любящих глазах. С нежной неторопливостью застегивал пуговицы халата.
От этой трогательной сдержанности во мне будто фиалки расцвели. А следом в душу влился аромат весенней степи. Это Максим запел о молодом пахаре, которому во сне явилась княжна и назвала своим мужем. Он поверил в сон, как в предзнаменова-ние. Стал всем рассказывать, что скоро с ней обвенчается. Люди подняли парня на смех. Но в один прекрасный день в село действительно приехала княжна и выбрала его себе в супруги. «Зі снів прийшло твоє кохання» - в эту завершающую строку песни Максим вложил столько радости, что она, казалось, взорвала мое сердце. Это ощущение счастья еще более окрепло, когда перешел к исполнению романсов собственного сочинения. Потом мы пели дуэтом - с танцами и поцелуями. А едва заметил усталость в моих глазах - взял на руки, отнес в спальню, уложил в постель и убаюкал колыбельной.
Однако среди ночи я пробудилась, все вспомнила - и какая-то неодолимая сила потянула меня обратно к Максиму. Проскаль-зываю в его комнату, раздеваюсь, ныряю под одеяло, трогаю за руку, целую в шею. Он, видимо, воспринял это как продолжение приятных сновидений, перевернулся на бок, обнял меня. Я при-двинулась к нему, млея от ощущения, что вот сейчас стану женщи-ной, его женщиной... Но когда это случилось, резь вошла в тело. Я знала, я читала в книгах, что будет неприятно. Поэтому терпела сколько могла. Но боль не прекращалась, наоборот, неостановимо росла и, наконец, превратилась в невыносимую муку. Я не выдержала и закричала... Максим отпрянул, упал рядом на кровать.
И почти в то же мгновение в комнате зажегся свет - на по-роге стояли мать и Рогов. Они пригласили соседей, вызвали мили-цию. Максима увели в наручниках.
Судья:
- Почему же следователю вы, Нина, давали другие показания?
- Меня запугали.
- Кто?
- Разве это имеет значение? Да тут все и так ясно.
Прокурор:
- Личность подсудимого неоднозначная. В его облике нет ничего демонического и того, что нравится женщинам. Но его песни, как видим, очень повлияли на формирование характера Нины. Понимаю, они лечили от многих недугов, укрепляли здоро-вье, множили духовную силу. Кстати, в Украине издавна вечерним и утренним пением избавляют от астмы, остеохондроза, депрессии, неврастении и даже эпилепсии. Писатель Гончар отмечал, что существует до тысячи вариантов на каждый из сорока тысяч песен-ных сюжетов. А недавно ученые США и Мексики эксперимен-тально доказали, что песня, так же, как медитации магов и экстрасенсов, как ритуалы индийских йогов и тибетских монахов, воздействует на психику человека. Сам не зная того, Савенко опутал Нину паутиной своего голоса. Девочке выпала роль личинки в коконе. Максим Павлович не заметил, как сделал ее рабыней своего пристрастия. По-моему, ошибочно мнение Виктории Ки-рилловны, что муж избрал ее дочь в качестве орудия мести за то, что она расторгает брак и выходит замуж за Рогова. Отчим не мстил, он действительно полюбил падчерицу. Нина оказалась под гипнозом его песен. Насилия вроде и не было, но так ли это? Ведь половой акт Максим Павлович совершил с особой, которая по возрасту еще не готова к нему. Это только что подтвердила сама Нина, рассказав, какую боль испытывала. То, что она не достигла половой зрелости, зафиксировано и в экспертном заключении консилиума врачей, не одного врача, а, повторяю, консилиума. Этот документ в деле имеется. Поэтому согласно заявлению матери девочки требую применить к обвиняемому соответствующую статью Уголовного кодекса.
Суд «наказал» М. Савенко шестью годами лишения свободы. Кон¬вой выводил его из зала, а Нина из-за спины матери вдогонку кричала: «Я буду ждать тебя, Максим!»
Р. S. Месяц спустя после суда девочка нежданно заболела воспа¬лением легких (второй раз в жизни) и скоропостижно скончалась.
ЛИЦА КРОВОСМЕШЕНИЯ
КУЗЕН ЖЕНИЛСЯ НА КУЗИНЕ
Весть о том, что Лилия выходит замуж за Игоря, в тот же день облетела весь пригородный поселок. Повышенный интерес к данной паре был вызван тем, что они были двоюродными братом и сестрой. Их знали с малых лет как неразлей воду. Оба любили лазить по деревьям, шастать по окрестным балкам, собирая подснежники и фиалки. Сестра, на три года меньше от брата, всегда крутилась возле него. Взберется на плечи – и он «везет» ее к черешне или абрикосу. Их дворы соприкасались, поэтому и хочешь – не разминешься. А их, словно магнитом, тянуло друг к другу. С возрастом этот магнетизм усилился. Оба любили, обняв-шись, смотреть по телику спортивные программы и фильмы о сложных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Поочередно в голос читали французские романы, где главными героями выступали кузен и кузина… И вот, теперь, когда она получила аттестат зрелости, а он отслужил в армии – решили пожениться…
Родители и с той, и с другой стороны все сделали, чтобы расстроить «кровосмесительный» брак. Но ломая эти, как они считали, предрассудки, брат и сестра зарегистрировали свой союз, а затем собрали вещи и выехали из поселка.
На новом месте молодоженам повезло. Их приняла к себе участливая пенсионерка. Она с 18-летней внучкой Наташей оставила за собой половину дома. А вторую половину, состоящую из двух комнат и кухни, отдала в распоряжение квартирантов. Плата – только за коммунальные услуги. Буквально через пару дней Игорь нашел поблизости работу по своей специальности электрогазосварщика. Лиля устроилась на радиозавод монтажницей и поступила на вечернее отделение радиоприборостроительного техникума. Семья постепенно крепла экономически. А спустя год появился еще один квартирант – дочь Аня. Те страхи, что им предсказывали старики, возражавшие против родственного брака, не подтвердились. Девочка не имела врожденных дефектов, развивалась нормально.
Лиля находилась в декретном отпуске всего четыре месяца. Нянчить малютку вызвалась хозяйка, а затем к ней присоединилась и её внучка, которая работала на полставки в магазине. Это развязало руки молодым супругам. Они, как и прежде, имели возможность сходить в кино, посидеть в кафе или баре.
Лиле не понадобилось брать в техникуме академотпуск. Она продолжала посещать занятия. Правда, учёба давалась нелегко. Но за одним с ней столом сидел весьма одарённый студент Николай. Он схватывал всё на лету, по-дружески помогал соседке уяснять тонкости математических правил, физических законов и различных формул. Из аудитории они, как правило, выходили вместе. По пути к трамвайной остановке он и натаскивал Лилю по только что пройденному учебному материалу.
А весной по случаю 8 Марта группа устроила сабантуй. Рядом с Лилей оказался всё тот же Николай. Когда немного захмелели, он взял в свои руки её руки. Она хотела высвободить их, но охваченная каким-то прежде ей неведомым могучим чувством, не смогла этого сделать. А дальше всё происходило вроде бы не с ней. Охотно шла, куда её вели. Безотказно целовалась.
После, дома, стала осмысливать своё “падение”. Вспомнила, как в детстве Игорь разделил с ней апельсин, который ему достался на день рождения. Как в десятилетнем возрасте её приковало к постели воспаление лёгких, а он лёг рядом и сказал: “Если ты умрёшь – и я умру.” С того момента она полюбила его сильнее, чем отца и мать. Он никогда не предъявлял ей претензий, во всех ситуациях шёл навстречу. А как сияли его глаза, как весь светился, когда гладила по голове, нашёптывая нежные слова… Чего же сейчас у неё нет никаких чувств к мужу?.. Неужели она – плохая, плохая?..
В следующий понедельник Лиля раньше сокурсников пришла в техникум, поменяла место, полагая, что Николай останется за прежним столиком… Но вот он зашёл в аудиторию, осмотрелся и, постояв минуту в нерешительности, опустился на стул рядом с ней. Долго молчал. Видя его растерянность, Лиля заговорила первой. Спросила, как извлечь корень из такого-то числа. Тогда он оживился, объясняя всё обстоятельно и чётко… К трамваю, как и прежде, пошли вместе. Но Лиля не позволила себя обнять. Когда Николай попытался это сделать, попросила:
- Давай останемся просто друзьями…
Поняв её состояние, он не стал возражать. Но всё же на-помнил:
- Мы были с тобой в квартире, которую я купил два года назад. Но за это время лишь одна женщина переступила её порог. Это – ты. И впредь никто, кроме тебя, в неё не войдёт.
Потянулись обычные дни. Но, сказанные Николаем слова, почему-то не забывались. Лиля ловила себя на мысли, что боится сравнивать его с мужем. Однако где-то в подсознании непрерывно происходило это сопоставление. И оно, как ни противилась, было в пользу Николая. Нет, внешне он менее привлекателен. В миловидности лица и ширине плеч тоже уступает мужу. В его глазах нет и того обволакивающего тумана, которым Игорь всегда приводит её в состояние покорности. Зато в зрачках Николая есть только на неё направленный огонь. Он обжигает, требует сопротивления, сеет в душе бурю. Эта стихия захватывает и, кружа, как бы приподнимает над буднями.
Лиля начинает замечать, что однокурсницы, особенно неза-мужние, с завистью поглядывают на неё. Некоторые, видя её хо-лодность к соседу по столику, ловят его на переменах в коридоре и цепляются, чуть ли не в открытую предлагая себя. Николай равно-душен к их уловкам, отмахивается, как от назойливых мух. Он в её, Лилиной власти. Но ей от этого… страшно. Надо бы нагрубить, прогнать от себя. Но как, если сердце наполнено нежностью?
Однажды ночью Лиля проснулась и до утра пролежала с открытыми глазами… Ей привидился сон, в котором Николай обнимает другую… Целый день она была вне себя. А вечером с какой-то грустной опаской шла в техникум.
Николай встретил её у самого входа – и сильнее прежнего обжёг взглядом. Однако это внимание не убавило ревности…
После занятий, перед тем как расстаться, Лиля сама обняла его, поцеловала и спросила:
- Ты вчера вечером ни с кем не свиданничал?
- Разве это возможно? Ведь я безумно люблю тебя!
- Я тоже люблю, - тихо ответила. – Но нам невозможно быть вместе…
Она не называла причину. Всё и так ясно.
После этого взаимного признания Лиле стало ещё невыноси-мее. Сердце разрывалось на части. Исчез аппетит. Появилась раздражительность. Чтоб не вызывать подозрений у Игоря, приходилось измышлять всякие болезни. Порой подолгу бродила в ближнем парке и с трудом возвращалась домой. Воскресала только в минуты, когда брала на руки Аню. Бережно целовала дочку и просила побыстрее расти.
Из-за того, что никому не могла поведать о своих горестях, написала письмо маме. Попросила у неё и у отца прощения за неповиновение их воле. Какой “воле” не уточнила. Надеясь, что сами догадаются. О своих душевных муках ни слова не обмол-вилась. Потому что приняла твёрдое решение: ради сохранения семьи отречься от любви.
Но в один из дней на заводе так сложилось, что отпустили на три часа раньше обычного. Лиля сразу же заспешила домой. Чтобы не разбудить мужа, который после ночной смены должен был спать, на корточках проникла на кухню, присела. Хотела ставить чайник на плиту, как вдруг в приоткрытую дверь из спальни донеслись взволнованные голоса, Игоря и…
- Не плачь, Наташа, - утешал он хозяйкину внучку. – Жену я люблю всего лишь как сестру, а тебя иначе…
- Но я на третьем месяце беременности. Что мне? Сделать аборт – и навсегда остаться бездетной?
- Ни в коем случае! Ты мне дороже всего на свете!.. Ещё пару дней – и я в подходящий момент открою Лиле нашу тайну…
- А она даст быстрый развод?
- У нас с ней родство по крови и родство душ. Но истинная любовь – это страсть! Это – ты и я. Лиля, надеюсь, поймёт нас...
Подслушанный разговор мужа с любовницей застал Лилю врасплох. Она боялась пошевелиться, чтобы не заскрипел стул. Долго не знала, как поступить. Затем решила уйти. С ловкостью кошки проскользнула на улицу – и бегом побежала от дома.
Отдышалась в парке. Здесь у неё была любимая полянка.
Отыскала её и прилегла на траву, чтоб осмыслить своё душев-ное состояние... Хотелось, чтобы нахлынули тучи и пошёл дождь. Но небо оставалось чистым. Там властвовало солнце: ясное, горячее. Лиля почувствовала, что постепенно и в её сознании начинает господствовать такой же ровный свет. Она благодарна судьбе, что гроза жизни не наскочила на неё, не смешала с грязью. Всё разрешилось само собой... Отныне не надо мучить себя сом-нениями, казнить свою душу. Игорь любит другую. Значит, и она имеет право любить другого.”Я – свободная! – вырвалось в небеса. – Я – свободная!”
Всё же нахлынувшая радость несколько притупилась, когда вспомнила об Ане. Ведь уже наступило время забирать двухлетнюю дочь из яслей-садика. Лиля, шатко ступая, направилась к ограж-дённому забором зданию, что примыкало к парку. У ворот приоста-новилась, успокоила себя... И не очень удивилась, когда увидела, что Наташа её опередила. Та уже усадила малышку в коляску и, напевая, везла навстречу.
- Ты очень удачливая у меня, - молвила Лиля, беря на руки дочь. – У тебя - две мамы...
Но непрошенные слёзы забили дыхание. Она крепче прижала к себе Аню, сквозь рыдания прорвался голос – вроде не её голос:
- Кровинушка ты моя! Сиротинушка ты моя!..
ЛИЦА ИНТРИГИ
ОБНАЖЕННАЯ
Подсудимая Наталья Алексеевна Несталова:
- Марина была для меня как заботливая сестра.
Судья:
- Значит, не вы, а кто-то другой подсунул ей бокал с ядом?
- Я. Но это произошло в шоковые, и, к тому же, в считанные секунды. Мысли спутались, в висках молоты стучат. А сердце кричит: спаси люби¬мого! Спаси Касьяна!.. Вот я и поменяла бокалы...
- Касьян Вербицкий, как видно из документов, - муж погибшей. Вы¬ходит, вы вступили с ним в сговор?
- Наоборот, я была в сговоре с Мариной.
- Прошу не запутывать суд.
- А что тут непонятного? Мы с Мариной давние подруги. Вместе в торговом техникуме учились. Она в 22 года стала супругой 39-летнего Касьяна. Он бизнесмен, в ней души не чаял. Но вот она приезжает ко мне, тогда я была безработной, и просит: «Спаси! Опостылел!». Стала ссылаться на то, что я красивее ее, а замуж выйти никак не могу. «Соб-лазни, - говорит, - моего суженого и забирай себе. Мне надо с ним именно так расстаться, по-дружески, иначе потеряю большие деньги».
Через неделю я переехала к Вербицким. Марина все устроила, как задумала. Сделала меня домработницей. А себя загрузила в вечернее вре¬мя вплоть до 24 часов работой в кафе, принадлежащем мужу. До обеда я вертелась по хозяйству. А когда из офиса возвращался Касьян - ходила перед ним на цыпочках. Подавала на стол, готовила ванну, делала мас¬саж. Поначалу чувствовала себя неуютно. Особую неприязнь испытывала к телефонным звонкам. Все хотели пробиться к Касьяну Ивановичу, ре¬шить свои бизнесовые проблемы. А мне приходилось отвечать, как он велел: «Вербицкий в отъезде. Вернется через неделю». Он же в это время просматривал газеты, слушал финансовые новости по телику. Но чаще устанавливал в зале для занятий живописью мольберт и рисовал. Это была его навязчивая страсть. По тому же, что получалось на холсте, я отмечала, что особых способностей у него нет, есть только стремление ощущать себя живописцем.
Наблюдая за его потугами, я вспомнила, что в школьные годы окон¬чила изостудию. Как-то пристроилась к Касьяну сзади, попросила кисть, и первые же мои мазки привели Вербицкого в восторг. Он тут же открыл кладовку, где содержались его художест-венные принадлежности, извлек оттуда новенький мольберт и этюдник. Подарил мне также наборы ка¬рандашей, красок, кистей и велел вместе с ним рисовать натюрморт.
На столе установил вазу с ромашками, разрезал на дольки арбуз, положил рядом пару краснобоких яблок. Рисование с ходу захватило. Я как бы возвратилась в обстановку изостудии. Но теперь сердце более обостренно входило в воздух искусства, растворялось в нем, наслажда¬лось и изнемогало от эмоциональной переполненности. Что-то воскреса¬ло во мне - давнее, чистое.
В один из выходных Касьян увез меня на этюды. Собралась с нами и Марина, но в последнюю минуту под каким-то предлогом «взбрыкну¬ла»... Вода, лес, цветы. Мы искупались, сделали про-бежку. Затем прики¬пели к мольбертам. Он стал переносить на холст синь реки и белый парус. А я развернула мольберт, чтобы видеть Касьяна, и принялась рисовать его, вернее, дорисовывать то, что начала дома. Но краски ложились аля¬повато, кисть не слушалась, рука дрожала.
Виной была неожиданно открытая мужская мощь Вербицкого. Ши¬рокий торс, на плечах и спине бугры мускулов. Ноги, как у оле-ня. Жилис¬тая шея, прижатые уши. Лицо бархатистое, чуть вытя-нутое. Нос мясис¬тый, с горбинкой, из-за чего за глаза Марина на-зывала мужа «лошадиной мордой». Я же такого сходства не видела. Мне все в нем нравилось: брови дугой, выпуклый лоб, кудряшки ко-ротко подстриженных волос и затаив¬шаяся в глубине глаз нежная голубизна... Волна за волной вскипало жела¬ние подойти, прижать-ся грудью к мужской спине, а затем завалить на себя этого медведя. Но что-то неуловимое сдерживало, гасило порыв. Может, это бы-ла кисть, которая вдруг стала очень послушной и так мас¬терски наносила краску на холст, одухотворяя образ Касьяна, наделяя его и обычными, и какими-то сверхэмоциональными чертами.
Я увлеклась и дорисовалась до того, что в глазах поплыли серые пауки. Это изнурила экспрессия чувств, характерная для такой работы. Чтоб не упасть, прижалась к стволу ближней сосны, подняла глаза к небу.
Вербицкий тем временем присматривался к моему полотну, нашел изображение приемлемым. Затем, заметив мою усталость, не спеша взял меня на руки и понес к воде. Мы купались, обрыз-гивали друг друга, игра¬ли. А когда вышли на берег, я все же осмелилась обвить его голову руками и поцеловать в губы.
В таких ситуациях мужчина обычно покоряется женщине. Но Касьян прервал поцелуй и сказал:
- Я однолюб. Два года на расстоянии ходил за Мариной, сотни роз ей подарил, пока добился, чтобы стала моей женой. Я душу вложил в эту женщину навсегда... Изменять ей не могу...
Вербицкий отверг меня. Но в его голосе я уловила стремление сгла¬дить противоречия, сохранить между нами некую тайну невысказанных мыслей и чувств.
Их благостную ауру я вскоре ощутила, когда простудилась и полу¬чила осложнение в виде пневмонии. Марина - как тень: мелькнет и исчез¬нет. А Касьян, изучив предписания врача, настоял на полном соблюдении режима. Принес из аптеки все необходимые лекарства. В вечернее время массировал мне спину и плечи, икры ног. Эти минуты превращались в наслаждение. От каждого прикосновения по телу распространялись див¬ные токи. Они не согревали, наоборот, холодили. Но это был такой неж¬ный, такой желанный холод, что сердце млело, трепетало от счастья.
Потом я переворачивалась лицом вверх. Вербицкий пальцами разминал мышцы и кожу на грудной клетке. Часто из лифчика выпрыгивали соски, но он спокойно водворял их обратно. Так же методично массажировал шею, руки. А завершив процедуру, клал ладони на мои горячие щеки и как-то по-своему, одними глазами улыбался, подолгу рассматривал мое лицо, шептал неуловимые слова. Это была молитва, из которой до моего сознания доходила только одна фраза: «красивая, очень красивая».
Как только я избавилась от недуга, наши поездки на природу возоб¬новились. Нас захватывало «соревновательское» рисование. Я радова¬лась, что у меня этюды получаются лучше, чем у Касьяна. Но было горько от того, что чувства мои к нему растут, а он по-прежнему равнодушен. Хотя прибегала к самым «нечистым» женским ухищрениям. Надевала халат с прорезом, наклонялась в нужный момент, чтоб его взгляд «улав¬ливал мои прелести». В процессе купаний подныривала под Вербицкого, хватала за чувственные места. Иногда шутя терлась грудью о его грудь. Но пробудить взрыв инстинктов не удавалось.
Однако когда наступила осень и у Касьяна исчезла возможность ви¬деть меня в купальнике, он стал просить, чтобы я обнажила какую-нибудь часть тела, а он рисовал ее. Вначале это была левая рука, затем правая нога. Тяготение работать с «живой натурой» объ-яснял тем, что только так можно стать настоящим художником. Пытался убедить меня, что, если сколотит приличное состояние, за-бросит бизнес и посвятит себя исключительно живописи. Я в это не верила. Но выполняла все его капри¬зы, имея в этом свой интерес. Ведь мне было на руку обнажаться, созда¬вать ему атмосферу эроти-ческого напряжения. С этой целью однажды предложила нарисовать мои груди. Сбросила кофту, лифчик и вывалила их на блюдо. Касьян согласился изобразить их именно в таком компози¬ционном варианте. Девять вечеров работал карандашом, затем столько же масляными красками. Но получилось что-то бледное, неживое.
- Ты не вкладываешь в работу никакого чувства! - упрекнула я Вербицкого.
- Возможно, - улыбнулся он. - Порой прикасаюсь к полотну кис-тью, а думаю: повышать или не повышать цену на магазинный товар?..
Меня это взбесило. Я полностью обнажила себя, залезла на диван:
- Вот в таком виде каждый вечер буду лежать перед тобой, пока не пробудится страсть. Нет, не страсть мужика, а страсть живописца, кото¬рый готов работать до потери сознания, лишь бы на полотне забуяла жизнь.
Вербицкого рассмешила моя длинная речь. Но он одобрил мое ре¬шение позировать в чем мать родила. Подошел к дивану, помог выбрать позу, которая, на его взгляд, удачно подчеркивает мои женские досто¬инства.
- Но эмоциональным центром живой картины, - сказал Кась-ян, - все же должны оставаться твои большие глаза, наполненные томлением и печалью. Только так эта композиция, состоящая из тебя одной, станет неповторимым, прежде никем не зафиксирован-ным природным шедев¬ром.
Вербицкий укрепил на мольберте огромный холст и принялся рисо¬вать картину под названием, как он сообщил, «Обнаженная». Два месяца каждый вечер я раздевалась и умащивалась поудобнее на диване. Перед этим почти всякий раз подходила к Вербицкому и заглядывала в его хму¬рые глаза, где в самой глубине, мне каза-лось, пряталась кротость. Восхи¬щение мной улавливала потом в движении рук, в шевелении бровей, и даже в капельке слюны, что появлялась у него на губах. Опять проклю¬нулась надежда влюбить в себя Касьяна. И я старалась изо всех сил. В зале для живописных работ стояла жара. Но я сделала вид, что мне зябко, и под этим предлогом с интервалом в 30-40 минут поднималась с дивана, приседала, прыгала, делала спортивные упражнения - такие, что могли расшевелить эротические импульсы. Однако Касьян в эти минуты отвора¬чивался от меня, демонстрируя полное безразличие.
Жалуясь на проявление судороги, я однажды прямо на диване затея¬ла подъемы ног кверху. Но и такой «сексуальный» прием не подействовал на Вербицкого. Он преспокойно выдавливал из тюби-ков краску, разме¬щал ее на палитре. Только когда я возвратилась в необходимую для на¬турщицы позу, в глазах Касьяна снова вспых-нули огоньки благоговения. В этих огоньках не было и намека на похоть, вожделение. Это был взгляд восхищенного зрителя.
После рисовального сеанса Касьян всегда очень поспешно уносил холст в специальную камеру. Тут же закрывал ее на ключ. Он не позволял мне даже краем глаза взглянуть на его работу. Меня, понятно, подмывало любопытство. И вот как-то, позируя, я уснула на диване. А когда открыла глаза и не увидела в зале Вербицкого - быстро поднялась и метнулась к мольберту. Пред-ставляете, чуть не грохнулась в обморок: холст был абсо¬лютно чист. Ни черточки от карандаша, ни малейшего мазка от кисти. Загрунтованное и абсолютно нетронутое полотно.
Не знаю, как долго я бы пребывала в «заколдованном» состо-янии, если бы не голос Касьяна:
- Ложись на диван!
Это повеление я выполнила беспрекословно. Затем поудобнее распо¬ложилась в кругу разноцветных подушек и подставок. А чтобы из ситу¬ации извлечь для себя пользу, как можно довери-тельнее и с интонацией преданности спросила:
- Растолкуй, что происходит?
- В Русском музее в Москве выставлялась картина Рембрандта «Даная». Я подошел к ней в обед - и простоял до вечера. Не мог оторваться. После понял: в мире нет ничего прекраснее обнаженно-го женского тела. А когда ты обнажилась - стало ясно: ты еще со-вершеннее той, что рисовал Рембрандт. Ты красивее всех нарисо-ванных. «Этот шедевр природы, - сказал я себе, - перенести на холст вряд ли кому под силу, а тем более мне, самоучке». Вот ве-черами по часу, а иногда по два я и наслаждаюсь созерцанием неповторимого.
От слов Вербицкого я расцвела. Сердце учащенно забилось.
- А я и не знала, что могу быть привлекательной.
- В тебе, - продолжал Касьян, - природа соблюла все пропор-ции, все законы гармонии и эстетики. Точеные ножки, нежные руки, восхити¬тельный бюст, вокруг пупка очаровательная ложбинка, снежно-белая грудь. А головка - как музыка счастья. Когда ты одета - этого ничего не видно. А ляжешь вот так, как сейчас, на диване - и я весь таю, весь раство¬ряюсь в твоей красоте. И пью ее, пью взахлеб, и никак не могу насытиться.
- А не испытываешь неудобство от возникшей ситуации?
- Нисколечко. Мои чувства естественные, искренние. Я не имити¬ровал в обычном представлении. Мысленно во время каждого рисоваль¬ного сеанса «переносил» тебя на холст. Измерял с помощью карандаша параметры глаз, шеи, лица - всех составляющих твоего совершенства, всех твоих частичек, а порой и каждого их изгиба. Рядом с тобой оживало мое воображение, мой дух, я плыл куда-то в неизъяснимые живописные сны... Если чем-то обидел тебя - скажи.
- Наоборот, облагородил, приблизил к себе.
- А я без твоих добрых чувств вряд ли испытал бы такую волшебную гамму наслаждений.
- Это любовь?
- Да.
- Подойди ко мне.
Касьян отстранился от холста и сделал в мою сторону несколько шагов.
- Садись рядом.
Он опустился на диван. Я пылко потянулась к нему, намереваясь осыпать выстраданными поцелуями. Но обнять как следует не успела - резко высвободился, вскочил на ноги:
- У меня иная к тебе любовь. Это любовь к творению Бога - к твоей красоте. Ты для меня как бы произведение искусства, от любования кото¬рым испытываю глубокое эстетическое наслажде-ние. А мужская страсть горит только к Марине. Давно вижу, что хочешь быть со мной. Может, и эти два месяца, обнажаясь, жила ожиданиями. Я тоже хотел, чтоб воз¬никла тяга к тебе. Марине все некогда, вечно спешит, ласки моей избегает. А ты как солныш-ко: куда ни гляну - свет твой ощущаю. Жене до лампочки мое увлечение живописью. Тебе же это греет душу. А как я благоговею перед великолепием твоего тела! Оно для меня как икона, как божий дар. И день, и ночь смотрел бы на него и молился... Мо-жет, от его божест¬венной красоты и исходит та сила, которая убивает сексуальные порывы. Нет их! Нет!.. А к Марине есть. В ней точно дьявол сидит. С первого взгляда вошла, как кинжал, во все мои внутренности, разворотила там все, вырвать - значит умереть...
Три ночи я ревела в одиночку. А после обо всем поведала Марине. Та пришла в еще большее отчаяние.
Судья:
- И сообща вынесли приговор Вербицкому?
- Марина настояла. Она написала расписку, что сразу же после смерти Касьяна заплатит мне 2000 долларов. А я обязалась засвидетель¬ствовать, что он с давних времен страдал сердечными приступами, хотя их у него никогда не было.
Судья:
- Странно. Такой классный, по вашим характеристикам, мужик жене опротивел. В чем тут загадка?
- К Марине почти каждое утро, только муж уедет на работу, вле-тал любовник, запирался с ней в спальне - и они безумели от интим-ной бли¬зости. Еще до моего появления в доме она забеременела от него. Он - ее ровесник. Смазливый, рослый, но бедный. А в брач-ном контракте Вер¬бицких записано: если развод по инициативе жены - она остается без ничего, право на имущество имеет только в случае измены мужа или его смерти. А владел Касьян несколь-кими магазинами, кафе и небольшим предприятием.
- И вы спокойно согласились сгубить мужчину, которого, как только что живописали, так преданно полюбили?
- Марина и без меня осуществила бы задуманное. Я приняла ее план, где-то в глубине души надеясь спасти Касьяна.
Прокурор:
- Сомневаюсь в вашей сердобольности. В деле имеется под-робное описание событий, которые предшествовали преступле-нию. Там сказано, что лично вы приобретали яд.
- Я вела переговоры. А купила его у знахарки за 120 гривен Марина.
Свидетельница А. Чернявская:
- В это снадобье входят такие травы (чтоб исключить соблазн, наз¬вания опускаю - А. Д.). Вербицкая, по ее словам, приобретала яд для ле¬чебных целей. Я ее проинструктировала: месяц принимать по одной капле в день, второй месяц - по две, третий - по три. Затем перерыв 50 дней, после чего опять начинать с одной капли. Если же за один прием употре-бить более десяти капель - наступит разрыв сердца. Врачи и эксперты в этом случае бессильны и причину установить, и смерть предотвратить.
Несталова:
- Марина при мне весь пузырек этого яда вылила в бокал с ликером, который предназначался Касьяну.
Судья:
- Чего же он его не выпил?
- Мы втроем сидели за столом. Марина предупредила, что чокаться нельзя. Ибо пьем за упокой душ родителей Касьяна, которые два года назад в этот день погибли в автокатастрофе. Но вдруг в дверь позвонила Чернявская. Она сказала вышедшей к ней в прихожую Марине, что та, покупая снадобье, дала рваную двадцатку. И попросила заменить ее на целую. Мы с Касьяном из кухни все слышали. У него в кармане имелись деньги - и он поспешил к жене, чтобы вручить. В эти секунды я и поменяла бокалы. Тот, в котором находился яд, достался не Касьяну, а Ма-рине. Уже через минут пять ее лицо обрело синеватый оттенок, она обеими руками схватилась за сердце и, прошипев мне в лицо: «Предательница!», начала сползать со скамейки. Ее подхватил Касьян, отнес на диван, выз-вал «скорую». А я сидела в кухне все на том же своем месте без движения, пока по требованию Вер-бицкого не приехали три милиционера и не арес¬товали меня.
Прокурор:
- Подсудимая трижды могла избежать уголовных деяний. Во-первых, не вступать в сговор. Во-вторых, заблаговременно рассказать Вербиц¬кому о происках жены. В-третьих, даже за столом имела возможность объявить, что в бокале яд. Тогда все бы оста-лись живы... Нагое тело На¬тальи Алексеевны, по всей видимости, не имеет изъянов, а вот перед нами обнажилась ее душа - и что мы видим?..
Несталова плакала на суде, просила у Касьяна прощения. Словно это было важнее, чем приговор в девять лет тюремного заключения. Вер¬бицкий же на ее унижения не реагировал, его душа находилась в трауре.
ЛИЦА ОТЧУЖДЕНИЯ
ГДЕ МОЯ МАМА?
Мы находились во дворе большого дома. Вокруг все гудело, пело, плясало, качалось – резвилась беззаботная детвора. Вдруг одна девочка, тоненькая, с льняными косичками, вскочила на скамейку, захлопала в ладоши:
- Отгадайте загадку: «Кто всех красивее, всех милее, всех добрее?».
- Мама, - сказала Нина.
- А как ты думаешь?
Валя не знала, что ответить. «Кто же для меня такой необыкновенно хороший человек? – спрашивала себя. – Бабушка? Она дарит игрушки, венки из ромашки плетет, рассказывает сказки… Но как же ей быть самой красивой, если лицо у бабушки все в морщинах?»
Расстроившись, девочка побежала домой.
- Где моя мама? – чуть не рыдая подступала ко всем.
- Я не знаю, - робко молвила тетя Маша.
Отец, поглаживая дочку по головке, задумчиво произнес:
- У тебя нет мамы.
- Правда, бабушка?
Та тоже ничего не ответила, только тяжело вздохнула. Вконец расстроенная Валя выбежала из дома и побрела к пруду. И вдруг услышала мягкий грудной голос:
- Чего, русалочка, пригорюнилась?
Валя подняла голову. Увидела женское лицо, доброе, участливое. Ответила обиженно:
- Хочу знать, где моя мама, а от меня скрывают…
- А как твоя фамилия?
- Токарь.
- Токарь?.. Значит, кого искали, на того и напали. Володя! – женщина махнула рукой, подзывая к себе мужчину.
- Смотри, вот она – Валя.
- Точь-в-точь Ольга! – с восхищением рассматривая девочку, воскликнул тот, и, потрепав ее за щеку, сказал:
- Ты, конечно, не знаешь нас. Я и тетя Марина – родственни-ки твоей мамы. Мы приехали из далекого края, чтобы увидеть тебя.
- А она? – «она» прозвучало как эхо в пробудившейся весенней роще.
Ответ последовал не сразу.
- Ей некогда.
Опять минута молчания.
* * *
За столом разгорелся ожесточенный спор.
- Пусть едет! – соглашался с гостями отец. - По крайней мере узнает, какая у нее мать.
- Нельзя так! – твердила бабушка.
- А, может, лучше не сдерживать? – вставила тетя Маша.
* * *
Разбросанные на десять верст глиняные хаты тихо склонились над зеркальной водой реки. Вдоль берега в два ряда стоят тополи, толстые, высокие. Селу более чем триста лет. Здесь живут почти все Валины родственники. Вон в той мазанке родилась ее мать.
В доме Анны Митрофановны собрались тетушки, дядьки, двоюродные и троюродные братья и сестры. Все давно ожидали Валю. И теперь обнимали, целовали. Согретая их теплом, она долго не решалась спросить о заветном, но в конце концов не удержалась:
- Дядя Володя говорил, что дал телеграмму. Мама скоро приедет?
- Скоро… - Анна Митрофановна будто проснулась, дрожащими пальцами привлекла к себе детскую головку и тяжело, удушливо зарыдала. - Я думала, что Ольга хоть теперь одумается: прослы-шит, что ты у нас – примчит. Ан нет! И громом, наверное, не разбудить! Камень у нее, а не сердце.
Эти неожиданные слова застали девочку врасплох. Ей страшно было вспугнуть свою мечту, она запротестовала:
- Не хочу… Не хочу…
Валя выбежала во двор. И что они наговаривают? Мамы бывают только хорошие. Вон у Нины: и в кино водит, и платья красивые шьет. А Сашина? Идет на работу – целует его, приходит – тоже, даже в прятки с ним играет. Таких мам, которые обижают детей, не бывает.
Она вбежала в дом с криком:
- К маме! Везите меня к маме!
Анна Митрофановна не ожидала такого взрыва, испугалась:
- Прости, родненькая, прости. Ты устала с дороги, надо отдохнуть.
- Не покажите, где она, сама буду искать! – Валя направилась к двери.
- Я сейчас еду в Днепропетровск, - вмешалась в разговор тетя Соня. – Пусть собирается, свожу ее к Ольге.
* * *
На стук вышла соседка.
- Ольга Михайловна на балу по случаю вручения ей медали «За трудовую доблесть», - сообщила женщина. – Видели кафе на нашей улице? Там. А где же Василь? – подошла к окошку. – Он, наверное, на работе. Если бы их «Волги» не было во дворе, это значило бы, что они вместе празднуют.
Валя и не заметила, как они поравнялись с кафе, как тетя Соня обратилась к швейцару, чтобы он позвал ее маму. И только когда послышался торопливый перезвон каблучков-шпилек, тело наполнилось торжественным и сладостным ожиданием: «Узнает ли? Каким будет ее первое движение?..»
И вот «она» появилась. Стройная, с высокой прической. На раскошном костюме солнечного цвета – медаль. «Самая красивая. Только глаза черные, а не синие, как я думала». Будто какой-то невидимый вихрь подхватил Валю и понес вперед. Но мать грубо отстранила ее и, отведя взгляд в сторону, произнесла:
- Пошли! Дома разберемся.
Тетя Соня последовала за солнечным костюмом, а Валя осталась на месте. Мамины слова пригвоздили ее к тротуару.
Постояв с минуту, девочка пошла за взрослыми. Мать не оглянулась, не посмотрела в ее сторону. Каблучки стучали об асфальт звонко, ритмично и как будто с каждым шагом удаляясь. «Это она, Ольга, не откликнулась на письмо бабушки Кати, - оживал в памяти рассказ тети Сони. – Бросила тебя, когда тебе только семь месяцев было. Мы, родственники, стыдили ее. Ничто не помогло. В последнее время и знаться с нами не стала…»
За какие-то минуты в Валином сознании проплыло все, что слышала о матери, и вдруг появилась слабость в ногах: такое ощущение, словно идешь навстречу волнам и с каждым шагом все глубже и глубже погружаешься в воду. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть… Что это? Ступеньки на второй этаж…»
Зашли в уютную богато обставленную комнату. Но Валя не замечала ни ковров, ни румяных яблок, красовавшихся в хрустальной вазе. Взгляд скользил по предметам, не в состоянии на чем-либо остановиться.
- Ну, выкладывай, - облокотясь на спинку стула, обратилась Ольга к дочери. – Кто тебя направил? Я знаю, они, голодранцы, завидуют и хотят исковеркать мне жизнь. Но ты – умница, ты этого не сделаешь, правда? Ты же сама видишь, как у нас тесно. У отца хата – там просторнее…
«Чтобы получить двухкомнатную квартиру, Ольга указала в заявлении в местком, что с нею живут муж и дочь… Валя. Совсем уж совесть потеряла. И медаль бы ей не дали, кабы знали всю подноготную…»
- И еще по другим соображениям тебе нет смысла оставаться у меня, - продолжал чужой голос. – В селе свежий воздух, овощи, фрукты…
- Милая, - мягкая рука тети Сони легла на Валину головку, - успокойся.
От прикосновения чуткой ладони девочке стало легче. Она с трудом проглотила что-то застрявшее в горле:
- Мама, - голос тоненький, вот-вот разорвется. – Прими мой подарок. – Протянула букет васильков.
Ольга даже не взглянула на то, что ей предлагают, вскочила как ужаленная:
- Не надо мне твоих подарков, ничего не надо! И от меня ничего не проси.
Теперь уже Валя точно поняла, что здесь больше не останется ни на минуту, что нет у нее мамы… Уехала с васильками обратно.
Так и кончилось для Вали ее первое в жизни свидание с мамой…
* * *
Эта история необычная, может, единственная в своем роде. Но, к сожалению, она не вымышлена. Ольга Михайловна живет в областном центре, работает на одном их промышленных предприятий. Мы не называем ее более точного адреса, чтобы дать возможность серьезно задуматься над своей жизнью и изменить отношение к дочери.
11.08.1968.
«Днепровская правда».
ЛИЦА СУИЦИДА
СМЕРТЬ В ОБЪЯТИЯХ
Следователь увидел на широкой кровати их обнаженные тела впритык друг к другу. Диана лежала на боку, одна рука касалась груди, вторая – промежности Мелетия. Он же, будто в экстазе, чуть запрокинул голову, живот прижал к животу, а ноги сплел с ногами. На фоне его матовой кожи белизна ее тела казалась сделанной из снега. А глаза у обоих – открытые, синие.
Муж Дианы заявил, что она не была любовницей Мелетия, что он маньяк, заманил ее к себе и отравил, а потом и сам принял яд. Судмедэксперт дал заключение: женщина умерла раньше мужчины. Опрос друзей и знакомых той и другой стороны ситуацию не прояснил: они ничего не знали о взаимоотношениях этой пары.
Но вскоре на стол следователя легли дневники-исповеди.
Мелетий: «Впервые я столкнулся с Ней в церкви. Она стояла на коленях и отбивала поклоны. Когда наши взгляды встретились, уловил в ее глазах нечеловеческую тоску. Глядела так, будто я – последняя ее надежда. Может и забыл бы это лицо, но через неделю смотрю: та же женщина стоит на автобусной остановке «Инженерная» с маленьким сыном и дочерью. А транзистор, что у нее в руках, плачет музыкой любимого мной Пола Маккартни. Без какой-либо мысли я вынул из футляра фотоаппарат и щелкнул несколько раз. Она ничего не сказала. Но ее взгляд так же, как и в церкви, как будто обжигал меня. От возникшего волнения я и слова не смог произнести. Подрулил «Рафик», открылась дверь – женщина с детьми уехала.
Вечером жена целовала, а мои глаза видели ту, другую. Не смог уснуть до рассвета.
Утром поспешил к «Инженерной». Проторчал там более часа, но она не появилась. И так – целую неделю. Отношения с женой окончательно разладились. В гневе обозвала меня импотентом и вынудила уйти из дома. Живу в квартире друга, который уехал на заработки в Москву. А в свободное время по-прежнему просиживаю на остановке, надеясь на встречу с загадочной незнакомкой».
Диана: «Нажала на кнопку его звонка днем. Открыл дверь и ничуть не удивился моему визиту. Как нашла его? Это секрет. Встретил меня холодно, даже жестко. А когда смотрела в упор –ежился, краснел, как подросток. Однако с удовольствием фотогра-фировал, отдельно – руки, ноги. Чуть приоткрылась грудь – заснял и ее. Поглядывал все время не совсем открытыми глазами, туман в них какой-то был. Ничего не предлагал, проводить отка-зался. Только перед моим уходом спросил:
- Еще прийдешь?
- Возможно, - ответила».
Мелетий: «Она явилась через день. Ступала осторожно, как кошка. Клянусь: я не желал ее повторного прихода. Было ощуще-ние, что на этот раз обворует меня. Нет, не вещь украдет, а что-то более существенное. Тем не менее заранее на последние деньги купил шампанское, коробку дорогих шоколадных конфет.
Дверь, признаюсь, открыл с опаской. Она же – словно привидение. Заходит и своими кошачьими шагами направляется прямиком к «Норду», открывает средний отсек, вынимает все, что я приготовил для нашей встречи, расставляет на столе.
- Садись, - приглашает ласковой улыбкой, - угощаю.
Я разливаю вино по бокалам.
- Может, познакомимся? – посматривает из-под густых бровей.
- Я – Мелетий. Мне 28 лет, я работаю сварщиком на том заводе, где более года не выдают зарплату. В настоящее время одинок, если не считать верного друга…
- Покажи его!
- А вот он рядом – фотоаппарат «Зенит». С его помощью кормлюсь, делая снимки на заказ.
- А я Диана. Торговый работник. Замужем. Имею дочь Виту шести лет и сына Виктора, которому скоро исполнится четыре года. По паспорту мне 27 лет, но, кажется, прожила в два, а то и в три раза больше.
- Старушка?
- Тело молодое, а в душе какое-то сжатие времени. День как вечность. Все, что окружает, тяготит и как бы прессуется в сознании, создавая тяжесть, близкую к обреченности.
- Твою печаль я ощутил еще тогда, в храме… Отчего она?
- Чужой жизнью живу. О музыке мечтала, о театре. А коротаю дни за прилавком. Возле меня все не мое, постылое, мерзкое…
Выпили. Я попытался перейти на шутливый тон:
- Влечет сцена? Давай! С чего начнем – с комедии, драмы или трагедии?
- Не смейся, пропасть передо мной, пропасть!
- Какая?
- Люблю! Уже три года люблю тебя! С твоей женой я работала в одном магазине. Ты всегда ожидал ее под нашими окнами, так что я имела возможность через стекло видеть тебя почти каждый день… Теперь ты рядом, но есть ли у нас с тобой будущее?
Эти слова Дианы вошли в сердце как огонь, выжигая там все прошлое, уничтожая даже, как я считал, суть мою – донжуанство, вольность чувств, беспринципность. Я понял, что сам себе надеваю оковы. Ибо меня захватило ответное чувство к этой женщине. Я длительное время грезил ее телом, мечтал о близости с ней. Но не ожидал, что она так глубоко войдет в мою душу, такими сладкими клещами счастья сожмет ее.
Но я рад, что ты вот такая, Диана-воровка».
Диана: «Вошла в спальню и обомлела: все стены обвешаны моими фотографиями. Но еще больше изумилась, обнаружив, что на каждой – в моих глазах как бы отчаянный крик. Вот та, что сделал на автобусной остановке. Тогда в момент встречи с Мелетием я была сама не своя. А дети, Вита и Витя, смотри, веселые: припали ко мне как ангелы. Их бодрость рядом с моей растерянностью как знак охраны. Я же, будто смолой, пропитана унынием… Неужели фотоаппарат способен так оголить душу и показать ее неприкаянность?..
Нет, я полна энергии, страсти…
Чтобы продемонстрировать Мелетию эти качества, я тут же окликнула его, мгновенно разделась донага и легла в кровать поверх красной накидки.
Муж, когда заставал меня в такой позе, дико, как зверь, набрасывался, даже если отталкивала – не унимал похоти, пока не насыщался.
Мелетий же, увидев меня обнаженной, - тихо приближается и, словно под микроскопом, тщательно осматривает все участки моего тела, прикасается губами к губам, проводит рукой по соскам. Потом отстраняется, берет в руки фотоаппарат и снимает. От вы-держки вина крепчают, женские свойства – тоже. В процессе съемок все мои органы постепенно наполняются негой. И то, что Мелетий просит и просит менять положение тела: ложиться вверх спиной, изгибаться, приподниматься – усиливает переливы неж-ности. А в тот миг, когда он красную накидку меняет на чер-ную, обоняние обостряется настолько, что я улавливаю запах его ладоней.
Не пару минут, а более часа «находясь в объективе», я полностью освобождаюсь от земных тягот. Любой листик оживает в утренних лучах. Так и моя душа воскресает от мужского восхищения. Это оно управляет фотокамерой, поднимает в пламенную высоту мое сердце. А когда крепкие руки стискивают в объятиях, тело будто тает и пере-стает существовать. Я ощущаю себя частью комнатного воздуха, становлюсь цветами. А потом превращаюсь в какое-то живое сплете-ние, внутри которого нет ничего, кроме сладострастия и восторга».
Мелетий: «Вчера сделали вылазку на природу. На реке нашли безлюдное место, нагие купались, тешились, целовались. А в полдень занялись фотографией. Я снимал Диану и когда выны-ривала из воды, и когда загорала на песке, и когда карабкалась на деревья. Самый классный снимок – в обнимку с березой. Обе белые, тоненькие. А на фоне зеленой ели Диана выглядела неестественно. Ствол могучий, а она хрупкая, маленькая… Запечатлел и испуг на лице, когда в камышах вдруг зашелестели дикие утки… Ей трудно свыкнуться с тем, что наши встречи тайные, что надо прятаться от чужого глаза».
Диана: «Дома не удается быть прежней. Муж уже подозревает о связях с другим мужчиной. Пригрозил, что расскажет детям, родителям, соседям, сослуживцам. А если и это не поможет, то… Он способен на все. Допекать, устраивать ссоры – это у него в крови. Жестокости ему тоже не занимать».
Мелетий: «Пришло письмо с местным штампом. В нем всего несколько слов: «Оставь чужую жену в покое, не сироти детей».
Диана: «Проснулась на рассвете – и слезы душат. Жаль себя стало. Вспомнила, как в школьные годы недурно играла на скрип-ке. Как друзья советовали в музыкальное училище поступить… Но я поддалась уговорам родителей и в торговый техникум сдала доку-менты. Затем по настоянию матери вышла замуж за завмага, намно-го старшего меня. Так вот и сгубила себя. Откуда мне было знать, что жизнь с немилым хуже каторги? Только нынче поняла… Поче-му же с таким опозданием в мою судьбу вошел Мелетий?.. Его суп-руга отзывалась о нем с пренебрежением. Вечно жаловалась, что вместо того, чтобы преобрести мебель или машину, он транжирит деньги на забавы в виде фотоаппаратов, пленки и бумаги. Ее зли-ло, что не вырвать его из плена иллюзий и фантазий. Он, что назы-вается, не от мира сего. И внешность имеет иррациональную, с неясными, почти сумасбродными чертами… А я иначе его восприня-ла. Увидела в окно – и сходу влюбилась: рослый, стройный, кудри похожие на парик, глаза раскосые, лицо бледное с ямочками у разреза губ. Взгляд мягкий, ненавязчивый. Я мысленно окрестила его Художником. И не ошиблась. У него дьявольски неотразимые фотографии. Снимает как бы с немыслимой точки. В каждом чело-веке умеет уловить характер, высветить его, сделать неповторимым.
А сейчас Мелетий – мой! И я у него – единственная, святая…
Под наплывом этих утренних грез натягиваю на себя что попало и выскальзываю из квартиры… Через полчаса уже стою у двери Мелетия.
… Только к обеду оба опомнились, что не пошли на работу, что меня ищут, видимо, не только муж, но и родители».
Мелетий: «Как-то я появился с фотоаппаратом перед пяти-этажным домом, на крышу которого взобрались сестры-двойняш-ки, чтобы прыгнуть вниз… Тогда меня охватил шок и я не смог заснять самоубийство… А сейчас, когда Диана предложила вместе умереть, воспринял это и как трагическое и одновременно как торжественное событие. Ведь это высший, только влюбленным доступный шик: уйти из жизни, чувствуя, что вместе с твоим сердцем прекращает удары сердце самого близкого человека. Такая смерть – как бессмертие».
Диана: «Кольцо неволи сжимается. Муж нанял сыщика, каждый мой шаг под контролем. Не прерву встреч с Мелетием – неминуемо разразится скандал. Сплетни, грязь захлестнут душу. Она же ничего такого не хочет. Унижать она никого не стремится. Ни от кого не желает отрекаться. Она скорбит за детьми, но не может иначе, как под песни из «Белого альбома» (диск Леннона и Маккартни – А. Д.), вспорхнуть в небеса и раствориться в необъятной лазури… Если согласится уйти из жизни и Мелетий, я обниму его, поцелую… Сейчас, вопреки всем и вся, иду к нему, посоветуемся и решим».
В прощальной записке Диана и Мелетий просили своих родителей похоронить их в одной могиле. Но воля влюбленных не была исполнена по причине разногласий, обид и претензий. Помешало этому и расследование, которое проводилось «по факту смерти от отравления ядом». Только все до мельчайших деталей уточнив и выяснив, следователь закрыл уголовное дело, закрыл – «в виду отсутствия состава преступления».
«Днепровская правда»
ЛИЦА ДОЛГА
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
ЛЮБИТЕ ДЕТЕЙ ВАШИХ
Эти слова из Библии многие из нас забывают. С опозданием пробудились они и в душе Валентина. Послушаем его.
«С Кристиной я познакомился минувшим летом в санатории. Необычно все было. Иду сосновой рощей - вдруг слышу голос камышовки. Значит, впереди озеро?.. Действительно, поблескивает синяя гладь. Со всех берегов в воде полощут косы вербы. Краси¬во! Облюбовываю с изгибом ствол, сажусь на раз¬ветвление в форме кресла, чтобы книгу почитать. Но что это? На противопо-ложной стороне на таком же склоненном дереве расположилась девушка. У нее книга уже раскрыта. Чтоб не спугнуть читательницу, прячусь в листве, наблюдаю. И почему-то тре¬вожусь. На всякий случай раздеваюсь до плавок, чтоб быть готовым прийти на по-мощь. Я по профес¬сии биолог. Поэтому заранее все узнал о здеш-нем озере. На вид оно мелкое. А по карте, которую мне удалось изучить, тут глубина до де¬сяти метров. Если незнакомка не умеет плавать, утонуть может в два счета.
Но мои спасательные приготовления ни к чему. Вскоре девуш-ка сползает со ствола вербы и начи¬нает в быстром темпе шагать взад-вперед, что-то громко выкрикивая... Что бы это значило? Напрягаю слух - слов не разобрать. Молитва? Причитания?.. Про-торчал в укрытии более часа, но так и не по¬нял, что «творит» де-вушка. Нарушить же ее уединение не осмелился, так как сам тоже люблю уединяться.
В послеобеденное время застаю «читательницу» на той же вербе. На этот раз книгу она захлопывает раньше прежнего. Как и перед обедом, ходит вдоль берега. Правда, уже не кричит, а что-то вполголо¬са нашептывает. Я снова ломаю голову, пытаясь оп¬ределить «род занятий» незнакомки. И опять безре¬зультатно.
А любопытство растет. Даже ночью во сне привиделись ее бе-лые волосы. Поэтому утром раньше обычного иду в столовую, съедаю завтрак и направ¬ляюсь к озеру. Перебегаю мостки, взбираюсь на ветвистое дерево, расположенное рядом с «девушки¬ной» вербой и, замаскировавшись, поджидаю. Вскоре появляется и Она. Но почему-то не залазит на «свой» ствол. А сразу же принимается вы-шагивать по излюбленному маршруту. Это утрамбованная ее нога-ми тропа длиной примерно сто метров. По рит¬мичным движениям торса и таким же музыкальным взмахам рук улавливаю, что де-вушка отрешилась от всего окружающего. Она во власти своей соб-ственной «мелодии», обрела в ней необходимое пространство и парит. А ее голос как бы путается среди изобилия фраз, повторяет од-ни и те же слова много раз, со-единяя их, сплетая в смысловые ря-ды. Если слова не поддаются, сопротивляются - еще отчаяннее, по¬-рой сквозь слезы ищет другие, и эти новые также настойчиво сплетает.
Слушая и наблюдая, я все больше радуюсь, что эта «страдали-ца» не во власти блажи, что она не какая-то сектантка. Это обычная сочинительница стихов. В этом окончательно убеждаюсь, когда слы¬шу зарифмованные строчки:
Загадочность речки, таинственность леса
Ветром любви меня лечат...
Незамысловатый ритм стиха действует на меня как-то странно. Переносит в детство, побуждает к мальчишескому озорству. Не удерживаюсь и, подра¬жая кукушке (это умею с малолетства), принимаюсь куковать:
- Ку-ку, ку-ку...
Голос «птицы» заставляет девушку остановиться. Подняв голову вверх, она произносит:
- Кукушка, кукушка, скажи сколько весен мне на свете быть?
Сообразив, что поэтессе где-то чуть более двад¬цати, я «откуковал» ей со всей щедростью.
- Неужели доживу до ста лет? - удивленно воскли¬цает девушка.
- Я могу и двести подарить,- подаю голос с дерева...
Так мы познакомились. И сразу же обнаружили, что оба носим футболку белую, а шорты голубые. Книги, что я прочитал, читала и она. С фильмами такой же расклад. Во всем сплошные совпадения. В пристрастиях - тоже как две капли воды.
В ре¬зультате этих сходств каждый день оказываемся ря¬дом. И чаще всего в лесу. Нам нравится бродить в сосновых и лист-венных рощах. Я, как правило, бе¬ру приспособления для очистки деревьев от грибов трутовиков. Срезаю их и закапываю. Кристина в это время уходит вперед и сочиняет стихи. Было так, что творче-ское усердие завело ее в расположение лисьих нор. Если бы не моя решимость - эти с виду безобидные зверьки могли искусать ее. Но я вовре¬мя вооружился длинным шестом из сушняка и по-тес¬нил разъяренную стаю. Когда опасность миновала, Кристина в порыве благодарности поцеловала меня. Это произошло так неожиданно, что я растерялся и уронил шест. Этим воспользовался матерый лис и едва не впился зубами в ногу девушке. Но я успел отшвырнуть его ударом коленки - и мы тут же поки¬нули неприятную зону.
А поцелуй продолжал жить во мне. До этого в озере купались порознь. Теперь как-то само собой вышло, что зашли в воду вместе. Кристина выявилась умелой ныряльщицей. И преподнесла сюрприз. Сделала из камышины трубочку, используя ее для дыхания под водой. Затаилась в камышах, дождалась, когда подплыли дикие утки, и одну из них поймала. Я тоже подержал ее в руках. Но, заметив, что над нами кружит встревоженный селезень, отпустил.
- У них общие птенцы в гнезде, - пояснил.
Кристина затем написала об утиной паре стихотворение. Когда читала его мне на лавочке, скрытой за кустом жасмина, я заметил, что за нами следит молодая женщина, которая в столовой сидит за соседним столиком и часто пристает ко мне с различными вопросами. И вот только Кристина побежала в корпус переодеться, эта дама подсаживается и... объясняется в любви. Лицо в красных пятнах, заикается от волнения. Чтоб сгладить ситуацию, говорю:
- Я очень болен. Мне пора таблетки принимать....
Убежав от этой дамы, невольно задумываюсь о наших с Крис-тиной отношениях. Мы стали уже как одно целое. Даже сны у нас одинаковые. Душа в душу жить будем...
И вот наступил тот памятный, самый светлый день в моей жизни!
Сидим с Кристиной на разлапистой вербе, опустив босые но-ги в озеро. На расстоянии руки плещутся окуни. Между веток си-яет крыло горихвостки... Рассказываю, как моим коллегам биологам удалось на метеоритах обнаружить спорообразные частицы и подтвердить гипотезу Вернадского, что жизнь на Землю принесена из космоса, что во Вселенной множество таких планет, как наша... А Кристина читает стихотворение о том, что мы, «светлячки», нашли друг друга и никогда не расстанемся. Что ее «свет» и мой «свет», ее «радость» и моя «радость» вскоре сольются воедино, чтобы явить природе неповторимый «огонек любви».
Чем дополнить стих?.. Прозаические слова меркнут... Смотрю в зеленоватые глаза девушки - и утопаю в их глубине. От ощущения неимоверного счастья и у нее, и у меня льются слезы.
- Приходи ночью в мою комнату. Я буду одна,- после поцелуя шепчут горячие губы. - А тут нельзя. Туг сотни глаз на нас смотрят - и рыбы, и птицы. И ужонок, гляди, подползает...
Но вечером мне вручают письмо из дому. В нем ни единой строчки, только заснятые вместе сыновья: шестилетний Павлуша и трехлетний Зорик. Перед отъездом в санаторий я поссорился с же-ной, изменившей накануне. И ей и себе тогда сказал, что отныне перед семьей у меня нет никаких обязательств. Естественно, прибыв сюда, считал себя свободным... А теперь, всматриваясь в лица де-тей, вспоминаю их голоса и улыбки. Как там они, не болеют?.. Я как бы слышу их зов, вижу протянутые ко мне руки... Мой дед рассказывал, как в конце войны он, сорокалетний, влюбился в мо-лодую немку, хотел остаться в Германии на сверхсрочную армейскую службу. Но из Никополя пришла вот такая же фотография дочери (моей матери) и двоих сыновей - и он возвратился в Украину.
А я разве смогу вычеркнуть из своей жизни моих малышей?
Дотемна брожу по закоулкам санатория, взвешивая все «за» и «против». То в пот меня бросает, то в холод. Голова раскалывается... И уже нет сил пойти на ночное свидание с Кристиной... А утром, не зная, как объяснить неявку, у нее на глазах беру под руку ту прилипчивую соседку - и с ней направляюсь в лес. Дама обрадо-валась, прихватила водку. Но выпив рюмку, рассказываю ей о сво-ей любви к Кристине. Дама ожидала не этого - и мы разбежались.
Возвратясь в жилой корпус, узнаю, что Кристина досрочно выписалась из санатория. Из-за меня, конечно. Наняв такси, мчусь на вокзал. Нахожу ее на перроне с уже купленным билетом. Сейчас влепит пощечину? Нет, плачет... Показываю фотографию сыновей, прошу прощения и совета... Целует и уезжает.
Сейчас мы переписываемся. Получил от Кристины более де-сяти стихотворений. В каждом - боль разлуки. Особенно сожалеет, что той ночью не пришел к ней. Никаких условий она бы не ставила. И сейчас ей ничего не надо, только бы видеть меня. Я тоже сердцем с ней. Хотя бы поговорить, хотя бы заглянуть в ее такие родные глаза! Два раза приезжал в Днепропетровск, подходил к двери ее квартиры. Но кнопку звонка нажать так и не решился... Ведь бросить семью не могу. А коль не в состоянии связать с Кристиной судьбу, временная связь - это яд и для нее и для ме-ня. Мы полюбили друг друга за чистоту помыслов. Нельзя нам пасть в грязь низменных страстей, свести любовь к сексу. Да и родители приучили меня к тому, что страсть, продолжением кото-рой не являются дети и семья, - пустоцвет. Или они ошибаются? В душе такой разлад, такая путаница... Отречься же от любви - все равно, что душу вынуть и швырнуть себе под ноги. Есть ли где мудрое слово, чтобы вернуть мне покой?
ОБЛИЧЧЯ РЕВНОЩІВ
ОТРУЙНИЙ ГРИБ
Ця бліда поганка виросла в квітнику біля самого під’їзду. Розкішна, з химерною покрученою ніжкою, вона раз по раз потрапляла на очі. Та я навіть подумати не могла, що мине кілька днів – і я зірву її, а потім кину в їжу... Життя моє безталанне! Ось уже дванадцять років цей гриб у моїй пам’яті, крає душу, отруює останні краплини моєї до Георгія любові. А було ж воно, було велике і чисте кохання!
...Тільки-но я зайшла в аудиторію, як мій погляд зустрівся з сірими маленькими оченятами підлітка, що сидів за третім від вікна столом. Він дивився на мене з подивом, ніби запитував: звідкіля взялася така тендітна і красива? Його відкритий наївний погляд своєю ніжністю незвично підсолодив душу, стало якось радісно. Я відкрила журнал і почала знайомитися з „бурсаками” (це усталена назва учнів профтехучилищ). Виявилось, що той підліток на ім’я Георгій – круглий сирота (я теж росла без батьків). Спостерігаючи, як хлопець ніяковіє від моїх запитань, відчула, що цей бідолаха ніби потайки проникає в глибини моєї підсвідо-мості. Я дізналася, що мати кинула Жору ще в пологовому бу-динку. З першого дня на світі він поневіряється по дитячих при-тулках та інтернатах (мене до повноліття утримувала тітка). І ось тепер доля закинула його до нас в училище. Тут він – на повному державному забезпеченні. А яке воно нині? Розхитане ліжко в гуртожитку, де в одній кімнаті десять чоловік. У їдальні – така-сяка їжа, без вибору, без достатньої кількості калорій і вітамінів. Але, бачу, підліток дужий, з накачаними мускулами, високий, чепурний.
Перші уроки показали, що характер хлопець має допитливий: мою математику засвоює непогано, активний під час розгляду нового матеріалу. Коли я щось пояснюю, то слова подумки адресую йому одному. Від цього мова гучніша і зрозуміліша для всіх. Якщо раніше я не вміла вгамовувати галас у класі, то тепер за підтримки Георгія (він на перервах виховує бешкетників) в аудиторії завжди приємна тиша. Всі зустрічають і проводжають мене з повагою.
Якось я запросила „помічника” до себе додому. Пригостила вишуканою вечерею (я вмію і люблю готувати). Познайомила з чоловіком Миколою і донькою Мартою. Їй тоді було дванадцять років, а Жорі – шістнадцять. Діти одразу ж знайшли спільну мову: а об’єднала їх музика. Марта, як і я, захоплювалась оперними аріями. Ми мали записи „Кармен”, „Аїди”, „Пікової дами” і т.п.
Георгій приходив до нас усе частіше й поступово ставав ніби членом сім’ї. Він допомагав мені на кухні (навіть борщ готувати), охоче підмітав у кімнатах, мив підлогу, витирав пил на меблях. І коли ми відзначали його сімнадцятиріччя, у мене невимушено вирвалося з уст:
– Жоржику, переходь до нас жити.
– А що? – підтримав чоловік. – В гуртожитку таргани і прусаки, а ти в нас цю нечисть повиводив. Одна кімната у нас вільна. Переселяйся.
Хлопець і радів, і ніяковів. А з яким завзяттям облаштовував відведену йому кімнату. В нашій квартирі вона найменша, та він так уміло розставив речі, що кімната ніби вдвічі побільшала.
Навесні і влітку „квартирант” з великим задоволенням порався у нас на дачі.
Зазвичай учотирьох туди вибиралися. А того дня Марта побігла з подружками в кіно. Миколу не відірвеш від телевізора – адже грає збірна з футболу. Випало вдвох з Георгієм підгортати кущі картоплі, поливати огірки та капусту.
А сонце все припікає. Змусило оголитись як на пляжі. Та по обіді раптом пішов дощ. Злива загнала нас у хатину. Вона тісна, сісти можна тільки на металеве ліжко. Я – в купальнику, Жора – в плавках. Тіла наші щільно притиснулись. Бачу, хлопець миттєво здригнувся, а потім його затрясло, немов у лихоманці.
– Що з тобою? – питаю.
– Як уперше вас побачив – з тієї хвилини кохаю, мрію про поцілунки. Пробачте... Пробачте...
Не знаю, звідкіля все взялось. Блискавка жаги пронизала моє тіло. Я перетворилась у наскрізний вогонь, обхопила юнака за плечі, обсипала поцілунками. Він продовжував дрижати, ридав, як мала дитина. А я пестила його, голубила, притискувала до себе. Однак лихоманка не проходила. Тоді я зірвала з нього плавки, взяла губами пеніс. Хлопець застогнав, а через мить підхопився і повалив мене на спину. Він не виходив з мене декілька годин. Почуття зринали все вище і вище.
Повернулись додому збуджені, веселі. Я заснула з відчуттям щастя. Тільки вранці почала усвідомлювати те, що трапилось. Невже я покохала цього бурсака? Адже йому лише через два мі-сяці виповниться вісімнадцять років, в той час як мені уже трид-цять шість. Він міг бути моїм сином. Що ж спонукало цілувати його? Невже я розбещене стерво, як колись ще в університеті нази-вав мене один із залицяльників. Тоді я вперше відчула, що очі мої „черные”, очі мої „жгучие”. Подобалась багатьом і багатьом бі-сики пускала. З деякими цілувалась, пробувала грішити. Але в цьому сенсу не знайшла. Вийшла заміж за „перше кохання” – Миколу, з котрим у школі сиділа за однією партою. Хоча колишні й нові шанувальники продовжували насідати, деякі взагалі безсоромно тягли в ліжко: мовляв, така смачненька повинна належати не тільки одному чоловікові. Але я відштовхувала цих негідників... Чому ж до Георгія душа потягнулась? Адже він не красень: обличчя в прищах, очі, як у миші, малюсінькі. Чим зворушив моє серце? Як проник у мою душу? Може це сталося через незвичайний блиск в очах? З того дня як зайшла в клас і по сьогодні я відчуваю на собі погляд юнака. Де б не стрів мене – пестить оченятами, охоплює внутрішнім полум’ям. Не тільки в душу, в кожну клітиночку мого тіла ввійшло його ніжне захоп-лення. Він без слів проникає в глибини моєї сутності. Його очі говорять: „Ви найдобріша за всіх, Ви – Богиня, недосяжна Висота, Ідеал...”. А кому не подобається бути еталоном усього найкращого в світі? Ось моє серце, моє тіло і відкрилися коханню – першому, чистому, світлому коханню юнака.
А я покохала?.. Коли чоловік заступив у нічну зміну (він працює на металургійному заводі), я не втрималась, пішла по коридору до кімнати Георгія. Але біля самих дверей чомусь зупинилась. У стані „ні туди і ні сюди” стояла зо дві години. Серце роздвоїлось. „Заходь!” – кричала одна його частина. „Вгамуй пристрасть!” – воліла інша. Та двері самі розкрились. Не збагну, як це сталось. Ні я, ні Георгій до них не торкались. Заскрипіли – і відчинились. Жора лежав на ліжку з відкритими очима. Струмок місячного сяйва падав на його оголене тіло... Торкаюсь руки, а він, як і тиждень тому на дачі, жалісно ридає й тремтить. Не здатен вгамувати нервове збудження. Минулий досвід підштовхує мене обняти хлопця, лягти поруч.
До ранку не згасає жага. Жора немов розриває мене на частини. Солодко. Рай. Не помічаємо, як у відчинених дверях з’являється мій чоловік. Він щойно повернувся з роботи.
Скандал. Переді мною вибір: Микола чи Георгій?
Вибираю юнака.
Чоловік пакує речі і йде жити до своєї матері, де є вільна кімната.
Щоб уникнути морального тиску з боку колег, котрі зайняті плітками про моє „схиблене кохання”, залишаю педагогічну роботу і влаштовуюсь на підприємство оператором котельної (тут я працювала до вступу в університет). Георгій закінчує профтехучи-лище, починає працювати на заводі за своєю спеціальністю електрогазозварника.
З кожним днем у моїй душі все ясніше квітне відчуття щастя. Жора давно не кличе мене Еллою Романівною, а ніжно промовляє: „Ялиночка моя”. На крилах почуттів спонукає мене взяти розлу-чення з чоловіком – і ми реєструємо наші подружні стосунки.
У вирі сімейного благополуччя три роки спливають як один день. Тим часом моя донька підростає. У неї ще з дитинства склалися теплі стосунки з Георгієм. Він завжди йшов їй назустріч, виконував навіть химерні забаганки. Тепер, коли вона підросла, закріплює за собою роль „панянки”: командує, вимагає. Я роблю їй зауваження, намагаюся стримати, але Марта майже не реагує. Коли їй виповнилося сімнадцять і відчула на собі зацікавлені погляди юнаків, почала піддражнювати Георгія. Вихваляється, хто і настільки в неї закоханий. Показує цидульки, одержані на уроках від однокласників. Майже щодня примушує робити їй на спині масаж. Лізе до вітчима на коліна, коли дивимось телевізор. Ніби не помічає, що поруч сиджу я, його жінка.
Деякий час у мене виникала думка, що на ці дії її підштовхує батько. Але Микола не підтвердив мої припущення. Він тільки-но одружився на молодій сусідці, задоволений шлюбом, дружина вже вагітна.
Та ось весняним ранком повертаюся з котельної (у нас три зміни) і бачу: Марта в кімнаті Георгія лежить на дивані, гола. Моє серце затіпалось, як заведене. Вискакую з квартири і півдня блукаю вулицями не в змозі вгамувати відчай. Що робити? Як вийти з цього становища?.. Після тяжких роздумів і невтішних ридань зрозуміла: треба вдати, що нічого не бачила, нічого не сталося.
Взявши себе в руки, повертаюсь додому... А мої «голуб’ята» вже дивляться телевізор. Болісно їх бачити. Та все ж спромоглася не виказувати ревнощів. Ласкаво посміхнулася і доньці, і чоловікові. Нашвидкоруч приготувала їм обід, подала на стіл. Марта похапцем поїла і побігла в другу зміну на уроки. Георгій, не поспішаючи, пережовував їжу. Помітила: він пригнічений. Однак зі звичною закоханістю фокусував на мені свої крихітні очі. Я не втрималась і з притаманною мені чуттєвістю поцілувала його. Він підхопився, взяв мене на руки і поніс у ліжко. Як завжди, в жагучих обіймах провели кілька годин. Я, щоб привабити, все йому дозволяла. Мої ласки доводили його до нестями. В ці екстазні хвилини подумки запитувала: „Що тобі ще потрібно? Хіба інша жінка, хай навіть молода, дасть стільки радощів, стільки насолоди?..”. Його очі у відповідь говорили про кохання. Не відчула в них ні сум’яття, ні очікуваного душевного надлому.
Та ось прискакала зі школи Марта – він уже посміхається й до неї.
Коли мені випала наступна нічна зміна, я нервувала, не знаходила собі місця. В котельні хваталася не за ті важелі. Мене лаяли, принижували насмішками: «А ще з вищою освітою!» Старша над нами відкрито глузувала з моєї розгубленості й безпорадності. Це продовжувалося й надалі. Поступово, день за днем, я перетворювалась у незграбну працівницю і некрасиву жінку.
А тут знову отримала удар. Цього разу випадково підслухала розмову Марти з Георгієм. Звільняючись від її обіймів, він сказав:
– Якщо Елла про все дізнається – ми пропали. Наша близькість не може продовжуватись!
– А хіба є вихід? – запитала Марта.
– Нам з тобою потрібно зав’язати. Раз і назавжди самим собі сказати: нічого не було.
– Як? Підкажи!
– Закохайся, наприклад, в однокласника Івана. Він же тобі проходу не дає. А про мене забудь. Більше не переступай порога моєї кімнати!
– Відмовитись від тебе?
– А чому б і ні?
– Але мені класно з тобою. Та й мати нічого не помічає.
– А якщо помітить?
– Оформиш з нею розлучення й поберемося з тобою.
– Це неможливо!
– Чому?
– Вона кохає мене, а в тебе зі мною легкий флірт.
– Не лукав. Ти хочеш сказати, що її ти кохаєш, а зі мною у тебе секс без кохання?
– Це якраз так і є.
– Але я не відступлюсь від тебе. Не впустиш уночі в свою кімнату – розкажу матері про наші стосунки і примушу вас забути про кохання. Адже ти продовжуєш її любити?
– Продовжую...
Не чекала я від дочки такої агресивності. Мої ревнощі в де-якій мірі притуплялися знанням того, що Георгій все-таки віддає перевагу мені. Але як Марта посміла зазіхнути на святе для мене? Хіба мало ровесників? У нашій багатоповерхівці юнаки так і зирка-ють на неї, тільки помани очима. Виходить, підступність доньки продиктована аморальністю. Їй до вподоби шкодити рідній матері?
Поступово в нашій сім’ї утверджувалась атмосфера нещирості. Георгій зовні не показував, але для себе ніби фіксував: у нього дві дружини – старша й молодша. Якщо ми сварились, він вгамовував наші суперечки словами: «Дім, у якому нема спокою, – не мій дім. Хочете, щоб я зібрав речі і пішов від вас?..»
Відчуваючи, що так і буде, ми обидві затихали. Марта була об-тяжена ще й іншим. Вона отримала атестат зрілості і здавала екза-мени до вузу. З математики консультуватись їй доводилося в мене.
Та невдовзі я стала свідком іще однієї таємної розмови Марти з Георгієм.
– Чому, – допитувалась вона, – вночі не прийшов до мене?
– Я дав собі слово, що не переступлю порога твоєї кімнати.
– А ти не переступай, – сміється Марта, – а перелітай!
– Як ти не розумієш, мені страшно за тебе. Яке майбутнє ти собі готуєш?
– Не загадуй на завтра. Живи, як я, сьогоднішнім днем.
– Схаменись! Хіба не бачиш, що не тільки на тебе й мене, а й на твою матір чекає розчарування, скандал, а може, й смерть.
– Тіпун тобі на язик.
– Ми з тобою легковажно все почали, і з кожним днем вузол зав’язується все тугіше...
– Про що ти каркаєш?
– Не каркаю, а чесно кажу, що поступово нас усе більше тягне одне до одного. Тому попереду бачу лише проблеми.
– Сьогодні вночі не прийдеш до мене?
– Ні.
– В такому разі я прийду до тебе. Адже в матері це остання нічна зміна. Потім вона працюватиме вдень, а це значить, що цілий тиждень ми не зможемо трахатись. А я без твоїх поцілунків уже не в змозі заснути.
– Безсоння? – в голосі Георгія іронія.
– Хіба ж я камінна? Мене теж скручує цей вузол!
– Чому ж не хочеш розрубати його?
– Я, мабуть, покохала тебе.
– Відповісти тим же не можу.
– Чому?
– На це запитання я тобі відповідав десятки разів: тому що кохаю іншу жінку – твою матір.
– А як же наші цілунки, секс?
– Це все для тіла, а крізь душу воно не проходить.
У ті часи, коли ми втрьох сиділи за столом, я звертала увагу на очі Георгія і Марти. Вони були ясні й безгрішні. Дивились на мене з відчуттям ніжності й ангельської чистоти. Я ловила себе на думці: а може, між ними нічого нема? Може, мені в якійсь уяві привидівся їхній інтим? Може, не наяву, а уві сні я бачила їхні обійми?
Але перевірка підтверджувала: вони все частіше зближуються, а так безтурботно почувають себе в моїй присутності тому, що вірять у мою необізнаність. Вірять, що я ні про що не здогадуюсь.
Краще б так і було! Знання про зраду каменем зависло на моєму серці. Ні дихати, ні жити не дає. Суцільний розпач. Не знаю, куди подітись. Втекти, залишити їх назавжди? Ні, це вище моїх сил! Я так кохаю Георгія, що готова бути рабою, ганчіркою. Але при ньому – щоб бачити його мишачі оченята, торкатись його руки, говорити з ним.
Та ось настав той страшний безповоротний день. З нічної зміни я повернулась додому на дві години раніше (попрохала напарницю почергувати і за себе, і за мене). Тихенько підходжу до нашої квартири, відмикаю вхідні двері. Прокрадаюсь на кухню і там затаїлась. Прислухаюсь: Марта в кімнаті у Георгія. Але найбільше мене здивувало те, що розмовляють вони майже криком. Ніби відчувають мою присутність і хочуть, щоб я чітко почула всі слова. Дійсно, їхні голоси пронизують. Вони не за стіною звучать. Вони звучать у моєму серці.
– Без тебе, – викрикує Марта, – я вся тремчу! В ті ночі, коли ти з моєю матір’ю, я плачу, плачу з вечора до ранку!
– А як бути? – запитує Георгій. – Мені теж крає душу наша гра у схованку. Хіба приємно відчувати себе дволиким?
– Тоді давай скажемо матері про наші стосунки!
– Зачекай трохи. До цього потрібно добре підготуватись. Мені важко навіть самому усвідомити те, що всі почуття до неї – в минулому, що нині ти, одна ти пануєш у моїх мріях. Але як їй про це сказати?! Її може розбити параліч!
– Ти все одно не повинен мовчати!
– Ти права. Відкладати не треба. Завтра ж про все скажу Еллі Романівні...
Георгій уперше (я регулярно підслуховувала їхні розмови) освідчився Марті в коханні. Вперше за останні чотири роки назвав мене Еллою Романівною... Невже й справді я залишилась для нього в минулому? Раніше в розмовах з моєю донькою він завжди на перше місце ставив мене, підкреслював, що кохає тільки мене одну. А тепер Марта панує в його серці? За чотири роки я набрид-ла? З Миколою прожили набагато більше, але він не зраджував, не втрачав жаги до мене. Хоча, якщо чесно, наш шлюб тримався на волосинці. Адже вийшла за нього тому, що був кращим серед залицяльників. Трепетні почуття, безумство кохання я пізнала лише з Георгієм. Він увійшов у мою кров, в усі мої клітиночки.
А зараз моя кров, мої клітини почорніли, склеїлись від страху. Вони не можуть жити, без кохання вони мають заніміти. Але ж воно було! Буяло! Давало стільки радості, стільки щастя! Гадала, що це назавжди. Адже я красива, розумна, сексуальна! А головне – кинулась у громовиння пристрасті без вагань, усім пожертвувала, аби тільки бути з Георгієм. Невже життя – це стусани по серцю, по почуттях, по кожній клітиночці? Стусани на загибель, без пощади, незважаючи на обставини? Незважаючи на мої душевні муки? На оці муки заради кохання?
Мої руки ритмічно чистили картоплю, а з очей лилися сльози... Мені й цього разу вистачило розуму стримати себе, змовчати. А Георгій і Марта зробили вигляд, ніби мене й не існує. Взяли з холодильника ковбасу, поклали в ту картоплю, що я зварила, поїли і пішли з дому.
– Ми пробіжимось, – кинула на ходу дочка, – по ближній за балкою посадці. Там, кажуть, грибів після дощу хоч граблями згрібай.
Вони зникли за дверима. У вікно бачу: взялися за руки і пішли, посміхаючись одне одному.
А в мене, як ніколи, клубок у горлі, злість вовча, бажання помсти. Ось і згадала я про ту кляту поганку, що росла біля будинку в квітнику. Побігла з ножем, зрізала, ледь-ледь проварила і заховала.
Коли Марта з Георгієм принесли зірвані в посадці маслюки (а їх було більше кілограма), я взялась посмажити їх. У ту хвилину ще не вірила, що змішаю хороші гриби з отруйною поганкою. Але вже тоді моє тіло перетворилось у якийсь електрометалевий апарат – справжній акумулятор ревнощів. І хоча мої рухи були чіткими і впевненими (так мені тоді здавалось), однак насправді я вся тремтіла від напруження, знаходилась у стані афекту. Не розум, а цей „акумулятор” диктував, що і як робити.
Ось маслюки вже відварені й посмажені. Беру їх зі сковороди ложкою і перекладаю в дві тарілки. Дивлюся, щоб було порівну. Потім зі схованки (глибокого кутка нижнього буфету) дістаю зварену поганку. Розрізаю її на дві частини і подрібнюю. В думці: треба в обидві тарілки покласти порівну. Але руки не підкоряються. Вони обидві подрібнені частини отруйного гриба кидають у тарілку Георгія (вона за формою вища, з неї завжди їв тільки він). Хай загине цей зрадник! Кобель! Розпусник! Не можу на нього дивитись. Краще провалитись крізь землю, ніж бачити його очі, усміхнені до іншої.
А та, інша – моя донька. Вона ще ненависніша! Хіба не вона перша обняла його і поцілувала? Він опирався, відверто говорив їй прямо в очі, що не хоче мені зраджувати. Це я своїми вухами чула, коли підслуховувала їхні розмови. Та Марта нахабно лізла до нього в ліжко. І врешті-решт домоглася свого: пробудила в Георгія жагу до свого молодого тіла – тіла самки. Так-так! Моя дочка – самка! Гуляща дівка! Їй тільки-но виповнилось вісімнадцять – а вона вже трахається на всю котушку. А тим більше з ким? Зі своїм вітчимом. А ще паскудніше – з чоловіком, якого так болісно кохає її мати. Адже донька все знає про нашу з Георгієм любов. Я в свій час давала навіть читати їй листи від нього, коли той був у відрядженні в Києві. „Я тут без тебе, – писав він, – як без очей. Сліпий. Нічого не бачу. Сьогодні зайшов у салон, де виставлені знімки жінок. Дивився на різні пози відомих фотомоделей, прославлених кінозірок і збагнув, що ти, моя кохана, моя ніжна дружина, краща за всіх жінок на світі. Бо я дивився на них, а бачив тебе... Ось ти заходиш у мою кімнату. Цілую твої шоколадні груди, обхоплюю руками білі стегна. А очі! Вони сяють для мене, вони пронизують наскрізь своїми променями... На цих німих фотографіях немає твого голосу, твоєї промовистої посмішки. А мені так потрібні вони! Від спомину п’янію, лину до тебе...”
Не тільки в мене, а й у Георгія були глибинні почуття. А це мале стерво знівечило їх, розтоптало, перетворило мене в нікчемну ревнивицю, яка підглядає, підслуховує і наодинці кропить подушку слізьми. Ні! Не Георгій, а Марта має заплатити за мої страждання! За мої безсонні ночі! За змарніле обличчя! За мій страх і мій відчай!
З Георгієвої тарілки я згребла всі часточки отруйного гриба і переклала їх у тарілку Марти. Миттєво віднесла страву в залу, передала в руки кожному його тарілку. Вони прийняли їх, попросили виделки і хліб. Я метнулася в кухню, нарізала хліба, картаючи себе за забудькуватість. Принесла все. Обоє почали їсти, продовжуючи слідкувати за подіями на екрані телевізора.
В кухні я постояла деякий час над умивальником, сполоснула руки. Потім доїла залишок маслюків, зібралась і почимчикувала в свою котельну. Сама собі дивувалась: ніякої тривоги, повне задоволення.
...Збагнула скоєне лише над труною, коли опускали доньку в могилу... А ще більше збагнула, коли Георгій розлучився зі мною і, не попрощавшись, покинув наше місто.
Слідчий, до якого прийшла із зізнанням у скоєному злочині, ніяк не міг повірити, що я згубила рідну дитину. Але це так.
Ось уже дванадцять років я у в’язниці. Та тюрма ніщо в порівнянні з непрощенням самій собі, в порівнянні з тугою за втраченим коханням. І нині в мені клекоче безумство любові... і отрута ревнощів.
Жінка раптом обірвала свою сповідь, вийняла з нагрудної кишені заламіновану фотокартку (я зрозумів, що то портрет дочки) і, обливаючи знімок слізьми, заспівала:
Навіщо ти вітчима покохала?
Навіщо мужа в матері украла?
Ти ж знаєш: серцем я його люблю,
Сильніше, ніж тебе, дочку мою.
Ти молода, квітуєш, наче рожа.
А ледь всміхнешся – на царівну схожа.
До тебе хлопці линуть, як ті бджоли.
Чому ж ти за мого вхопилась Жору?
Вже на моїх очах його цілуєш.
В цілунках забуваєте про мене.
В мені трасують ревнощі, мов кулі.
Я – ніби тріска в їх свинцевій жмені.
Повір: не з лиходійства, а з відчаю
Отруйний гриб в тарілку підкладаю.
За підлі підступи ти мусиш вмерти.
Не я, страждання вимагає жертви.
Навіщо ти вітчима покохала?
Навіщо мужа в матері украла?
Ти ж знаєш: серцем я його люблю,
Сильніше, ніж тебе, дочку мою.
Із очей Елли Романівни продовжували текти сльози. Вона торкнулася моєї руки, тихо промовила:
– Ви – журналіст. Опишіть мої муки. Я не тільки своїм ко-ханням страждаю, а й коханням моєї доньки. Я й замість неї кожного дня співаю – душу краю.
За що, мамо, ти мене згубила?
За що доню рідну отруїла?
В тебе ж я одним одна дитина.
Ти без мене кругла сиротина.
Чоловіка в тебе я не крала.
Що мені належить – те забрала.
Не вбивалась я між вами клином,
Жора сам у снах до мене линув.
В нього, наче зорі, мрійні очі,
До небесних поривань охочі.
Часом в них, як в дзеркало, загляну –
Бачу пристрастей жагучу рану.
Все, що скаже, ладна я зробити –
Цілувати, вмерти, а чи вбити.
Почуття моє – від сонця злива.
Загасить і хочу – неможливо.
То хіба ж я винна, що кохала?
Винна я хіба, що цілувала?
6
За що, мамо, ти мене згубила?
За що доню рідну отруїла?
В тебе ж я одним одна дитина.
Ти без мене кругла сиротина.
Я виконав прохання Елли Романівни Зварич після того, як факти її життя підтвердив начальник тюрми, а тюремний лікар показав висновок консиліуму лікарів про відсутність у неї психічного захворювання.
Стосовно Георгія, то я з’ясував, що той виїхав у сусідню країну. Там одружився, дружина народила йому сина. Але він залишив сім’ю, закохавшись в іншу. Потім ще двічі закохувався... Остання дружина прилучила його до наркотиків – і він загинув.
Трагічні долі Елли Романівни, Марти і Георгія спонукають думати, що діти, які виростають без батьків або в неповних чи розділених сім’ях, як це було з Мартою, не отримують родинної духовної наснаги. Досягнувши повноліття, вони дуже хочуть, але не підготовлені до того, щоб побудувати щасливу сім’ю. Проблема посилюється тим, що в основному більшість жінок і чоловіків на перше місце ставлять кохання, а не дітей. Вони не звертають уваги на те, що всі релігії світу закликають не до солодкого, а до розумного життя. В результаті такої зневаги до інституту сім’ї і до виховання дітей кількість сиріт і напівсиріт на планеті зростає в геометричній прогресії. А бідні родинним духом – майже завжди безталанні.
ЛИЦА СОБЛАЗНОВ
КНИГА С НАЗВАНИЕМ «ЧЕЛОВЕК»
Это при моем, Казимира Носова, участии все происходило.
Летом иду со своей девушкой на дискотеку. Вдруг из подворотни возникает Лядов, местный недоумок, и вручает моей Люсе букет роз.
– Это Вам, – говорит и делает, как в кино, что-то похожее на реверанс.
– По какому поводу? – спрашивает Люся.
– У нашей Зорьки родился телок, – отвечает Гриша, и не понимает, почему мы снисходительно улыбаемся.
В другой раз Люся пропалывала у себя на огороде картофель. Этот чокнутый приходит со своей сапкой, становится рядом и работает, да так ударно, что за пару часов вдвоем очищают от бурьяна всю плантацию. На Люсин вопрос: «Почему бесплатно помогаешь?» – Лядов, краснея лицом, тихо изрек: «В отличие от других ты не обзываешь меня придурком».
Кстати, эта кликуха прилипла к нему, когда из-за неуспева-емости бросил школу, а тут еще парни засекли, что кормит халвой домашнюю козу.
Только родная мать понимала Григория. Где работала – туда и сына пристраивала. Вдвоем коров по найму пасли, телков, коз.
После тех случаев с Люсей Григорий, ей и мне на удивление, стал заметно меняться. Приволокся в школу, пожелал возобновить учебу. Директриса, понятливая женщина, пожала руку дылде-переростку и распорядилась по-своему: «В класс мы тебя не возьмем. Учителя выдадут тебе учебники, выучишь раздел – приходи, выкладывай свои знания». И что бы вы думали? За два месяца Лядов освоил программу ранее оставленного восьмого класса. С такой же прытью взялся «грызть учебники» за девятый. Естественно, свои успехи демонстрировал нам с Люсей.
Та училась тогда в выпускном классе, науки тоже давались ей нелегко. Но она находила время диктовать Григорию диктанты, проверять по книге зазубренные им правила. За эти услуги он работал у нее во дворе, как вол. Хотя не все выполнял по уму. К примеру, не соглашался на яблонях прореживать крону, считал, что чем больше на дереве веток – тем крупнее плоды.
Как-то мы с Люсей купались в пруду. Играли, дурачились. Я подныривал, тянул ее за ноги вниз. Она деланно верещала: «Тону – помогите!» Гриша из-за кустов наблюдал эту возню и почему-то решил, что я хочу утопить девушку. Как бешеный бросился спасать, схватил за волосы и вытащил на берег. Наше объяснение, что это была игра, совсем не воспринял.
Еще одно «спасение» – вроде анекдота. Мы с Люсей зарылись в копну – и там «трахались». Гриша каким-то образом оказался рядом. Стоны и возгласы истолковал как насилие. Схватил меня за ноги и стащил с Люси. Ох, мы и потешались над несмышлены-шем! Он понял суть только, когда я привел в пример петуха, ко-торый топчет кур, напомнил о кошках, которые в процессе спари-вания визжат и рыдают от удовольствия.
После этого «открытия» глаза у Гриши стали слезиться. И вскоре я обнаружил, что он принялся «трахать» свою козу. Сказать об этом Люсе я не решился, не хотел унижать парня. Тем более, что он, как сосед, почти каждый день подсоблял девушке, вреда ни ей, ни мне не делал.
А тут в селе возник мой однокашник по профтехучилищу. Он, как и я, бульдозерист. Но работал не у нас, а в Москве, зашибал по штуке баксов в месяц. Это и стало приманкой. Беременной Люсе я пообещал высылать деньги, Гришу попросил не оставлять ее без опеки – и подался в Белокаменную.
Возвратился спустя полтора года. К тому времени Люся родила дочь, записав на мое имя. На деньги, что высылал, купила неболь-шой домик – и, оставив родителей, перебралась туда. Работала в агрофирме дояркой, Гриша – на той же ферме – скотником. Он получил свидетельство об окончании девяти классов, поступил на вечерние курсы трактористов. И что примечательно? Жил в одном дворе с Люсей. Это невольно царапнуло мне душу. Но Люся успокоила: «Он у меня, как батрак, как тобой оставленная сторожевая собака. Спит не в доме, а во времянке, похожей на конуру».
Возобновив близость с Люсей, я почувствовал, что она не прежняя: исчезли податливость, мягкость. Преобладают какие-то резкие, властные движения. Силюсь приспособиться к этой новиз-не – не получается. А однажды ночью лап рукой: Люси рядом нет. Выхожу во двор, на цыпочках подкрадываюсь к времянке. Полная луна вместе со мной смотрит в открытую дверь. Там на деревянном настиле сплелись тела Люси и Григория. Мне под руку подвернулся топор. Хватаю, делаю пару шагов к двери – но на пороге деревенею, как пень. В мозгу вспышки, прострелы. Кто мне эта женщина? Любовница? Сожительница?.. За три года наших близких отношений я ни разу не предложил ей стать за-конной супругой. Деньги высылал? Так это исполнял, и то лишь частично, отцовский долг перед ребенком, которого она зачала от меня, а потом родила и растила. Я даже забыл привезти дочурке игрушки. Может, поэтому та и плакала, когда пытался брать на руки… А любовь? По приезде в Москву сразу же закрутил роман с Линой, буфетчицей. Помню, сексуальная сила тогда как-то ярко проявилась, затмила ту, что прежде испытал с Люсей. Лина и сейчас, в эту критическую минуту, ожила во вспышках мозговых прострелов. С ней я был самим собой, не лгал. Рассказывал все о Люсе, о нашей дружбе с подросткового возраста, о ребенке, которого обязан воспитывать. Прощаясь, откровенно признался, что возвращаюсь в село навсегда. Там есть жилье, а тут мытарюсь по общежитиям. Лина не укоряла, только плакала. И вот ее слезы вдруг пробудились в памяти, заставили опустить руку с топором, отступить на несколько шагов от времянки. Зачем мне Люся? Я отвык от нее. Забыл ее запахи. Мне дороже та, другая.
А Гриша? Разве он в чем-то виновен? Это же затравленный людскими насмешками божий человек. Злиться, а тем более ненавидеть его – грех. Если Люся приобщила парня к сексу, если он уже не «трахает» козу, а живет половой жизнью с женщиной – это для него невообразимое счастье. И это счастье заслужено. Ибо он, в отличие от меня, душой и телом предан Люсе. Он всегда был готов и сейчас готов умереть за нее.
На следующий день тихо, ни с кем не прощаясь, я отбыл из села. В записке, что оставил на столе, посоветовал Люсе зарегист-рировать брак с Лядовым и любить его так же крепко, как он ее. Мою дочь пусть удочерит, ибо прав называться отцом у меня мало.
В экспрессе, что вез меня в Москву, перед глазами раз за разом всплывал облик Лины, ее заплаканные глаза. Не сомневался, что утешу ее. Но вышла осечка. Она успела найти мне замену. На работе, наоборот, поощрили, дали новый бульдозер. И тут же шустрая кадровичка закадрила меня. А пару месяцев спустя я увлекся ее подружкой. После поменял еще с пяток баб – и приблизился к какому-то непонятному равнодушию ко всему.
Мои глаза, видимо, выдавали эту внутреннюю гнилость. Ее заметил святоша, который захаживал в нашу диспетчерскую. Он дал почитать сборник неглупых трактатов с названием «Человек». Там я натолкнулся на такие слова: «Человек – это некое странное животное, состоящее их двух чрезвычайно разных частей: из души (апіма) как бы некоего божества (пимеп) и тела – вроде бессловесной скотины. В отношении тела мы настолько не превосходим животных другого рода, что по всем своим данным находимся гораздо ниже их… Если бы не было тебе дано тело, ты был бы божеством, если бы не был в тебя вложен ум (мепз), ты был бы скотом… Ты можешь переродиться в низшее неразумное существо, но можешь переродиться по велению своей души и в высшего божественного человека…»
Размышляя над этими советами, я отчетливо понял, что превращаюсь в кобеля, который в стае с другими кобелями бегает за бродячими сучками.
А односельчанин Гриша, полюбив одну-единственную, обрел божественную поддержку. Преодолел врожденную пассивность, обуздал в себе все скотское (помните: он «трахал» козу), достиг высокой работоспособности. Ныне как бы купается в душевном комфорте. Заслуженно любит и любим. Люся в письме, переданном через друга, сознается в глубоком чувстве к Лядову. А у меня просит прощения… За что? За мою нелюбовь? За мою нравствен-ную неразвитость? За мое духовное отупение?..
Поздно, слишком поздно попала мне в руки книга с названием «Человек».
Исповедь К.Носова записал Андрей Дробот.
ЛИЦА ОБЛУЧЕНИЙ
ЦВЕТОЧЕК МОЙ СЛУЧАЙНЫЙ
1
«Здравствуй, цветочек мой случайный! С этих слов и начинает-ся наша повесть. Не для постороннего чтения, а для нас с тобой. Помнишь, я говорил, что начну с эпизода, когда в самолете встре-чаются пожилые мужчина и женщина, в период пятичасового рейса смотрят друг другу в глаза, молча вспоминают всех, кого любили, - и влюбляются один в одного, потому что он и она не-обыкновенно прекрасны и пронесенной через годы душевной на-полненностью, и чистотой помыслов, и воспоминаниями, и этой последней безмолвной любовью... Возможно, когда-нибудь напи-шу и об этом... А сейчас мне не уйти от образа твоего, от событий и чувств, которые и обессилили меня и дали силу... Да, у меня перед глазами тот вечер. Ты вошла в мою комнату и села на кро-вати. Я стал на колени, целовал пальчики рук и ног твоих, но мне до слез чего-то было жаль. Ты походила на цветочек, нежный, беззащитный, готовый отдать и стебли и корни чужой воле, а в душе у меня рыдало сожаление о чем-то... Опьяненная лаской и желанием, ты покорно освобождалась от одежды, а мое сердце почему-то одевалось в пелену страха.. Твои округлые плечи и бе-лая грудь отдавали мне лепестковый трепет, глаза, открытые, охва-ченные пламенем инстинкта, звали в белый сладкий поток, но мое тело, давно ожидавшее этого, погрузилось в течение так глубо-ко, что вдруг задохнулось, обессилело... После я понял, что любовь всегда беспомощна. А тогда я гасил отчаяние прикосновением к белизне груди твоей, целовал шею, бедра.. Это прикосновение не освобождало от подавленности, но, наполняя теплом, согревало душу. Радость твоего тела передавалась моему, оно уже не уходило вглубь, а, соединяясь с душой, парило в сиянии небесных пределов. Этот полет был таким упоительным и желанным, что время как бы остановилось.
А после я услышал слова, впервые обнаженные до такой искренности:
- Я скоро умру. Поэтому такая жажда любви... Сделали опера-цию давно, но порой так тяжело, что перестаю быть человеком.
Еще несколько недель назад я лежал в тубдиспансере. В памяти невольно всплывал услышанный там приговор: «С одним легким живут не более...» Но к чему эти мысли? Она, с необыкновенно мягким голосом, с васильковыми ясными глазами, с такой силой воли и с таким характером - нет, она будет жить долго. Я хочу, чтобы она была всегда Да, вечно! вечно! вечно!... Из уст полились подсознательно родившиеся строки:
Живи, живи, цветочек мой случайный,
Бессмертник у дороги полевой.
Ты отдала мне голос свой печальный...
Когда уходила, я спросил:
- Придешь завтра?
- Не знаю! Зачем я тебе?! - резко бросила ты.
И в тот вечер, и в каждый последующий день меня не остав-ляло чувство, что уже завтра - я потеряю тебя навсегда. И не знал, чего больше боялся: твоей смерти или твоего ухода к другому мужчине. И сейчас гложет страх, что не ответишь на мое письмо, что больше не услышу твоих грустных опьяняющих сердце слов.
Нежная, хорошая, родная! Я не хотел тебя тревожить воспоми-наниями и сомнениями. Но моя любовь беззащитна и несчастна. Вся жизнь моя, что была до тебя, как бы исчезла. И теперь ты стала моей жизнью, моим страданием, моей надеждой, моей грустью, моими слезами. Все, что с тобой не связано, мне постыло и скучно. Вот так-то, мой неожиданный и редкостный человек.»
2
«5.7. Сергей!
«Ау» тебе с высоты двенадцати тысяч метров. Слышишь гром эха? Какая прекрасная пустыня вокруг! Какой сверкающий простор! А мы здесь крохотные, жалкие, ненужные! Бесконечность подавляет... И земли совсем не видно, все в облаках. Но вдруг перед глазами твое растерянное лицо и беспомощные глаза, какими они были тут, в самолете, в ту последнюю минуту прощания. Чувство утраты, как эта бесконечность, давит. Хочется остановить, задержать это видение. Но как?
...В первом часу ночи уже летели над Сибирью. Через три часа встретила восход. Сейчас у тебя семь часов утра, а у меня - солнце в зените... Пишу, положив на колени этюдник. Пишу, как видишь, раньше тебя. Но к этому вынуждаешь ты - ибо сидишь напротив и не сводишь с меня взгляда, чего-то просишь, требуешь. Но мне покойно от этих глаз, явившихся из сна в явь. Только капельку грустно, что сейчас оторву руку от бумаги - и они исчезнут».
«6.7. Я уже у мамы в Ангарске... Твои стихи, записанные в блокнот, не дают мне покоя. Они напоминают Вчера, которое уже никогда не станет Сегодня. Если бы ты мог заглянуть мне в глаза «из меня»:, т о отметил бы, что они немного испуганы, все время немного испуганы. Я поставила бы сейчас Моцарта, «Реквием», и, наверное, заплакала бы слезами внутрь. Это больно, потому что не облегчает, не опустошает. Как слезы на висках. Много лет у меня не получаются слезы на виски, хотя и хочу их иногда, как спасения.
Все время вижу твои глаза - ласковые, убеждающие, молящие, неуверенные. Нет в них только упрека, обиды. Кажется, я скверно к тебе относилась, колко, жестко, часто желала остаться одна. Я не могла иначе. В этом - я. Да и в себе разобраться не могла. И сейчас ничего не понимаю... А сна все нет, что-то мучает меня, что-то неопределенное».
«8.7.Опять ночь. Опять без сна... Сижу со свечкой на полу балкона среди детских игрушек: то читаю, то пишу тебе... За стеклом - лес. Но идти туда боюсь... Высоко прогремел самолет. Через неделю я буду снова под облаками. Где ты, Сергей? Вспоминаешь? Или (только время от времени)?
Я допишу письмо и запечатаю его в конверт. А когда получу твое, то, не читая его, на этом своем поставлю твой адрес, которого так жду, - и брошу в почтовый ящик.
Господи, какой-то бред! Кто бы мог подумать, что в сорок четыре-то года... Мудрецу Соломону приписывают слова, что нет ничего более таинственного, чем путь рыбы в море, дороги мужчины к сердцу женщины и следа птицы в небе... Заблудилась я, хоть в лес еще будто и не входила».
«14.7. Измучена бессонницей и невозможностью побыть одной...
Стала совершенно больной... Несколько раз, пересилив страх перед ночным лесом, ходила на обрыв, к старому любимому месту. Ты - стоял рядом, а невдалеке в дымке друзья юности, не все из них сейчас живы А днем два раза ходила сюда рисовать (недовольна)...Пыталась желанным занятием отвлечься от себя. Ведь до сих пор сопротивляюсь, не хочу впускать тебя в свое сердце... А почему-то жажда увидеть тебя сидит в душе, как боль. День - ночь, день - ночь... Все 25 суток перебрала. И не могу понять, как это произошло... Пожалуйста, придумай что-нибудь... Через полтора месяца я буду во Львове. Ты там не был... И мы одни... Я не чувствую своей вины, но это будут твои дни».
«15.7. Вчера пила снотворное, а сегодня как после похмелья... Весь день ходила по родным местам, прошалась с городом. Ходила к тому дому, где так безмятежно прошли детство и юность, вышла замуж, где было так много хороших друзей, с которыми и по сию пору поддерживаю связь, хотя разбросало нас по всему свету.
Удивительно красивый город Ангарск. Нигде в другом месте я не встречала кварталов, разделенных кусками нетронутой тайги: с тропинками, лесными цветами, муравейниками... Рисовала дерево, под которым часто сидела на обрыве 23 года назад, даже фотография сохранилась. Теперь оно совершенно высохло, со странно переплетенными ветвями. Но странности этой я не смогла передать на холсте - и было очень грустно».
«16.7. Я снова в самолете. Снова вокруг голубая пустыня. Снова невыспавшаяся... Но в сердце светло, как от свечи на балконе. Чьи это стихи: «Как странно кончается жизнь: как будто бы все впереди...»?
3
«Нет, не подкарауливал я тебя у выхода из столовой. Не было банального вопроса: «Который час?»... Мы познакомились с тобой в открытом море.
Я по привычке заплыл далеко от берега, чтобы почувствовать освобождение от сотен людей, что хлюпаются в пляжной мели. И вдруг на водном просторе в нескольких метрах от себя увидел женщину. Она покачивалась на узких волнах и, видимо, полагая, что вокруг нет чужих любопытных глаз, играла, как рыба, в лу-чах солнца. Игра заключалась в том, что она поочередно подстав-ляла им то один бок, то другой, то грудь, то бедра, то плечи. Я невольно залюбовался легкостью движений и исходившей от ее тела радостью. Здесь в воде она походила на белую вольную струю. И тут я обнаружил: женщина - нагая. Но в сознании не возникло ни удивления, ни беспокойства: будто испокон веков люди купаются в море только голыми.. Наоборот, я ощутил в душе природный покой. Это чувство еще более укрепилось, когда, увидев меня, женщина не вздрогнула, не шарахнулась в сторону. Глаза ее продолжали наблюдать за солнцем, а тело играть с ним. Меня восприняла, как давнего напарника по игре. Подняла руку и изгибом ее показала: лови! Это предложение вошло в меня как естественное продолжение безмолвного диалога. Набрав в легкие побольше воздуха, я сделал усвоенный еще с детства мощный рывок - и кончики пальцев дотянулись до пяток. Еще рывок - и ладонь коснулась бедер. В следующее мгновение рука обхватила талию, но тут же отпрянула, боясь нарушить установившуюся гармонию игры. А женщина все в том же ритме перевернулась на спину, замерла - и на солнце засияли упругие белые груди. Мои ладони нежно погладили их, а губы, как пчелы, потянулись к расцветшим над водою соскам. Близко всплыли глаза, зеленые, тихие, наполненные грустью, как у рыб, когда они в весеннюю пору выходят на мель в поисках места для метания икры. Время остановилось. Тела будто совсем потеряли вес. Мы удалялись друг от друга и мгновенно, как магниты, снова сближались. Душа до такой степени казалась обмытой и чистой, что излучала счастье.
Это не было торжеством полового инстинкта. Да, мы, мужчина и женщина, наслаждались прикосновением. Но наслаждение имело отношение к иному коду чувств. Как птицы в воздухе, так наш дух вместе с телом парил в воде. Парение - как сон. Я приподнимал тебя на ладонях - и чувствовал, что это погибшее много тысяч лет назад, а теперь ожившее, мое родное дитя. Я прижимал губы к твоим соскам - и понимал, что я - ребенок, который давно изнемог от потери родного запаха и теперь наконец-то отыскал его. Я ловил плечами твои нежные взгляды и верил, что это - струи дождя в пустыне. Дотрагивался к тебе и ощущал, что я - слепой - руками вижу красоту всех женщин, написанных и еще не написанных художниками. Я знал, что в плеске волны, что обволакивала твое тело, звучат никем не исполненные мелодии простоты. В словах, которые так и не были произнесены, улавливал тоску всех метафор, что еще будут изобретены.
Это было наслаждение от слияния с природой. Мы, как капельки, затерялись в волнах и радовались тому, что мы - та же неделимая стихия. Наслаждались друг другом, потому что неожиданно сами для себя открыли: в мире нет ничего совершеннее и вдохновеннее, чем любимое тобой существо.
Да, все шедевры искусства, все, что создано руками человече-скими, - бледная тень по сравнению с тобой - нагой женщиной, наполненной солнцем.
Да, это была ты, моя любимая. Имеющая имя, отчество и фамилию: Алла Назировна Евдеева.
Но почему записал эти слова - и у меня слезы на глазах? Уже тогда во время первой нашей встречи в море я понял, что ты для меня ненадолго. А сегодня уяснил, что в будущем году, хотя ты и обещала, не увижу тебя среди волн. Не приплывешь сюда в последнюю субботу июля...
Но тогда дай мне хоть частицу своих символов. Пришли обещанную акварель и какой-нибудь рисунок. Я буду чувствовать в них присутствие твоей души, которое облегчит мою печаль.
У тебя, знаю, нет времени. Но хоть хаотично, хоть как-нибудь рассказывай о себе. Опиши, например, самый страшный день своей жизни. Начни просто: «Я легла на операционный стол. Хирурги спросили: «О чем сейчас думаете?» «О страданиях ради жизни»... Или вспомни о другом мучительном. Ведь у тебя было много непогожих минут, часов, недель и месяцев.»
4
«18.7. Шестнадцатого поздно вечером, измученная долгой дорогой, появилась дома. Оказывается, у меня в квартире в При-пяти так уютно, что растворяются все беспокойства и усталость. А семнадцатого - звонки и в дверь и по телефону, визиты... Один из звонков отозвал меня из отпуска раньше времени. Отка-зать не могла и в понедельник отправилась в мою лабораторию - то есть в самый опасный отсек атомной электростанции, где рабо-таю уже несколько лет. Утром вошла в свои белоснежные катаком-бы, поздно вечером - вышла чужая, усталая. В глазах долго мерцают экраны, мелькают схемы, лица... Не было отпуска... Не было моря... Не встречала тебя... Но все же завернула на почту. Твое письмо... письмо твое..
Начало - четко, а дальше - мираж в голове, руки вздрагивают, не могу осмыслить... Начинаю сначала... только стихи вернули сознание. Так до сих пор в тумане и читаю твое письмо... Опять балкон и шум ветра в ветвях».
«1.8. Ровно месяц назад... Моя комната. Я нездорова была. Среди дня ты пришел... Беспамятство... зной... испуг... благо-дарность.
А сейчас вечер. Все «катакомбы» опустели - и мы с тобой одни в моей лаборатории. Ты меня не узнал в этом белом безразмерном балахоне. Открыл мой блокнот, чтобы записать свои новые стихи, и вдруг из него выпало... Знаешь что? Это как чудо... Крохотная длинненькая ракушка... Как сохранить этот подарок моря? Начала подбирать фон... На синем и зеленом теряется. На темно-коричневом заиграла. Темно-коричневый квадратик фанеры, а посередине в капельке бесцветного клея Твоя Ракушка. Прикрепила рядом с установкой между шкалами и переключателями... Такая трогательно маленькая... И мы одни.»
«3.8.Уже много лет мне снится один и тот же сон. Как часто? Ну два раза в год уж точно. Бывают вариации, но всегда дорога, поезд... Чаще всего он с грохотом проносится мимо, и я в страшном отчаянии, что опоздала. Обмираю на пустом перроне или в глухом лесу возле железной дороги... Затихает где-то грохот, просыпаюсь в слезах и горе.
Но иногда каким-то чудом оказываюсь в поезде (только во сне возможно) и долго еду какими-то кругами мимо холмов, полей, и мне почему-то спокойно, празднично. Иногда приезжаю на какую-то неприметную станцию в горах. Иногда в город необычайной красоты: дома причудливой архитектуры так гармоничны с горами и быстрой горной рекой, из которой фонтаны брызг и радуги, и вместо улиц много извилистых лестниц. Я живу там... вижу много знакомо-незнакомых лиц... Просыпаюсь радостная, обновленная.
Вчера ночью опять ехала... Грохот... Что-то мелькает, и вдруг узнаю, что еду не туда. Отчаяние, как перед глухой стеной: ни объехать, ни лбом пробить... Второй день хожу под впечатлением этого сна. И сердце сдавливает сильнее.. Снижается давление... Головные боли... Слабость.
Я буду ждать, отчаянно буду ждать тебя во Львове... Мечтаю, однажды открыв глаза в темноте, увидеть тебя, почувствовать твои руки и упасть в бездонную сладость твоей ласки... Летишь и нет дна... Только непереносимое сияние... а может, неперено-симый мрак».
«8.8. Выходные дни провела с братом и детьми в нашем «имении» - то есть в сельском домике на берегу Припяти. Возле нашей усадьбы, как в Евпатории: долго идешь по мели, а потом резко - фарватер и очень быстрое течение. Я этого еще не знала и решила переплыть реку. Туда легко перебралась, а обратно - едва сил хватило, река широкая, течение стремительное... Утонула, когда бы не ты. Не знаю, откуда пришел мне на помощь: из глубины речной или от солнечных лучей. Вначале несло нас с тобой, как горсть соломинок. Но у тебя сильные руки - выбрались ниже парома, от пережитого напряжения дрожала каждая клеточка, и внутри пусто... Но ты нежно трогал меня, успокаивал: «Все хорошо, все хорошо, водоворот остался в стороне». Потом поцеловал меня.
Не пойму: при сверхэмоциональности и сверхранимости по-чему у тебя такие жесткие губы? Говорят, это о многом может сказать? Удивлен вопросом? Я - это я! Или такая - или никакой! Это все: и грех, и молитва, и свет, и бездна, и нежность, и экс-таз, и раздражение... Если я стану другой - жизнь потеряет смысл или я потеряю интерес к ней... У меня, как у стариков, готовящих себе домовину в последнюю дорогу, приготовлена коробочка с сильным снотворным Это выношенное: зрелое решение, оно не страшное, ты вдумайся и поймешь. А коробочка... Она у меня давно, со времен болезни, когда были тяжелые минуты депрессии. Только не бойся... Мой нынешний интерес к жизни такой обширный! Коробочке еще долго лежать без дела».
«10.8. С утра, как всегда, много людей вокруг и дел, а потом появилось чувство, что ты рядом, упорно рядом. В обед выйду из зоны, поеду на почту, там лежит, должно лежать твое письмо».
«11.8. Да, письмо было... и стихи... “Твое лицо - страдание». Много раз перечитывала, и было до слез грустно. Сергей, ну почему: страдания - и я? Да я ведь счастлива, понимаешь? Всегда счастлива! Если больна, то рядом всегда есть прекрасные любящие люди (это ли ни счастье?!). Если здорова -то я ведь живу, дышу, удивляюсь, радуюсь, смеюсь - каждой клеточкой живу (это ли ни счастье?!) Конечно, бывают тяжелые минуты, но это элементарное нездоровье... Ну почему: страдание - и я? Зачем ты придумываешь меня такой? У каждого своя жизнь. Моя могла бы быть богаче событиями, интереснее, но мне и так никогда не было скучно... Были потери, была боль утрат, были разочарования и, наконец, просто физические страдания... но ведь это у многих. Всякий по-своему чувства воспитывает, по-своему делает выводы из пережитого. Сергей, еще 11 месяцев: год этот будет для меня молитвой, светлой молитвой, потому что ожидание счастья всегда прекрасно. Я ведь тебе поверила. Я буду ждать и обязательно наступит последняя суббота июля, должна наступить. Ты только поверь! А акварель уже есть, высылаю. Есть у меня и четыре дня отгулов и договоренность на отпуск на следующее лето».
5
«Сознаюсь, это чувство, которое теперь неистребимо живет во мне, возникло в тот дождливый день. Ты пригласила к себе и ска-зала: «Сегодня такая погода, что лучше никуда не выходить». Че-тырем стенам я всегда предпочитал улицу. Поэтому ответил молча-нием на твои слова, надеясь, что выглянет солнце - и мы пойдем к морю. Но вот ты велела пройти на балкон. Потихоньку, словно больная, опустилась в шезлонг, а мне предложила кресло. И тут я увидел твои глаза. По всякому прежде смотрели на меня: с ува-жением и неприязнью, любовью и ненавистью. Но такого взгляда никто не дарил. В нем было столько света и простора, что я, как бабочка, почувствовав рождение крыльев, захотел лететь. Здесь, под поднявшимися над балконом ветвями акаций и кленов, твои глаза образовали такой цветистый и яркий мир, что я забыл обо всем на свете, в том числе и о только что промелькнувшем желании лететь. Я сидел и почти физически наслаждался его роскошью. «Не надо слов. Я хочу побыть в абсолютной тишине», - попросила ты. Прежде молчание в присутствии человека, которого мало зна-ешь, представлялось неестественным и всегда тяготило. Теперь же, глядя в глаза твои, я обрадовался возможности смотреть и смотреть в них. Они освобождали от всяких привычек и обязаннос-тей. Глубина родства в мыслях и чувствах позволяла слушать безмолвие. Тепло и счастье, исходившие от них, были такими не-объятными и искренними, что не оставляли места для какой-ли-бо неловкости. Стали такими родными, что я услышал их голос: «Пусть ты неуклюжий и мнительный. Пусть робеешь перед красотой - но забудь кто ты. Представь, что это обычные луговые криницы. Бери и пей из чистых родников! Мы для тебя! Слышишь - для тебя? Только для тебя! Мы долгие мучительные столетия томились одиночеством в ожидании тебя. И вот ты раздвинул нетронутые - веками нетронутые - дикие травы и заглянул в глубину криниц. Спасибо тебе! Любим тебя! И знай: будешь до смерти помнить нашу бездонность. Только здесь ты насытишься сном наяву. Не надо торопиться уходить. С кем мы останемся? Для чего душа жила ожиданием? Для кого пробивалась из бездны подземелья сквозь каменные лабиринты и липкую глину? Она верила, что придешь ты, несчастливый и робкий, который и глоточку рад. А мы тебе всю силу, всю полноту своей свежести!»
Я не замечал бега времени. Ты неотрывно держала меня в расцветающих глазах своих. Я не растворился в них, а, наоборот, окреп и порозовел, как и ты, от прилива разбуженной в недрах тела энергии. Захотелось припасть к губам твоим, но голоса духовного благоговения не отпускали глаза от глаз. Оно было большим наслаждением, чем губы к губам.
- Если бы не пришел, - вдруг сказала ты, - я бы рисовала вон тот уголок ветвей, где листья слились с воздухом. Рисование - мое хобби.
Я направил взгляд, куда показала рукой, и тут же в испуге вернул свои глаза твоим глазам. Без них я как бы задохнулся... На подоконнике продолжали лежать нетронутыми краски, листы ватмана. Но с этой минуты я почувствовал, что ты рисуешь меня. И не просто рисуешь, а творишь нового. Прокладываешь на лбу глубокие морщины В растрепанный ежик вкрапываешь белые клочья седины. На белки глаз натягиваешь красную сетку жилок, создавая неистребимую печаль. В зрачки бросаешь блик от своего огня. Губы одухотворяешь мечтою своей. Но вот с новой силой вспыхнули твои глаза, раскрыли мою душу, вошли в нее, наполняя своим пламенем. И эта обновленная душа осветила мое лицо изнутри, дала ему зарево восхищения, а мне высший миг счастья.
Счастье по законам цепной реакции росло, проникало в каж-дую клетку моего организма, увеличивалось - и уже не покидало меня ни на секунду. Весь день мы смотрели глаза в глаза...
С тех пор помню одно: никто никогда меня так не любил, как Глаза твои. Неотрывный благоухающий взгляд освободил меня от разрушающих волю былых страданий. Сотворил меня нового, жаждущего красоты и бессмертия.
Это Глаза твои пишут вместе со мной стихи, сокрушают слабость и болезни, сохраняют меня в этом перенасыщенном катастрофами мире.
Глаза твои давно освободились от тебя. Ты вдалеке, а они всегда рядом со мной. Услышат весеннюю мелодию - лепестками станут, услышат грустную -медленно вянут. Заплачу - приблизятся к моим глазам на расстояние ресниц и нежностью утешают. Сломит жгучий надлом - входят в башку мою, сцепляются с недугами жизни моей и всегда побеждают.
Во снах я тебя не вижу. Только Глаза ко мне приходят, наполненные, как цветы, соком, красой и торжеством жизни... А сегодня были в слезах. Отчего? Может, велишь им на другого смотреть с таким же восхищением? Но - нет! нет! нет! Это боль твою Глаза принесли. Не только они, а и ты всегда со мной - с того самого короткого, самого длинного дня, который в календаре помечен 16 июня 1974 года».
6
«2.10. Оживи меня, помоги... Галька на берегу серая, тусклая. А опусти ее в воду - сколько красок, сколько узоров и каких!.. Вот и я такая тусклая сейчас без твоей нежности.
Львов - очень интересный город. Бесчисленные узкие улочки, бесчисленные магазинчики. Много парков, много музеев. Я ду-маю: душа моя здесь успокоится. По вечерам допоздна сижу над книгами. Между мыслей ищу свои мысли, свое прозрение. А в здешних лабораториях надеюсь найти то, что ищу вот уже двадцать лет. Сейчас, как никогда, я близка к открытию, за которым не одна гоняюсь».
«3.10. Завтра пойду на «Ричарда III» в исполнении грузинских артистов, что приехали во Львов на гастроли. Пытаюсь выяснить, в каком костеле действующий орган. Я думаю, через неделю я оживу. Ведь ты приедешь. Снова услышу плеск волн... Почувствую ласку твоей руки... А сейчас я, как робот, опустевшая и бесчувственная от усталости.
Я снова хочу плыть, слепнуть от света, от полноты жизни... Оживи меня! Помоги мне, Сергей Федорович Холодков, ты же учитель, все знаешь, всем советы даешь. Исцели! Стихами исцели!!!»
7
«Знаю, что это письмо не получишь, но все равно пишу. Хо-чу побеседовать с тобой. Да, с тобой, хотя тебя уже нет на земле.
Каждый год приезжаю, как ни странно, не на твою могилу, а сюда, где знал тебя самой нежной, самой красивой, самой счастливой.
Не плачу. Молча иду берегом. Лучи слепят глаза. Но я отчетливо вижу в центре расцвеченного диска твое лицо. Оно, расширяясь, становится солнцем. Доброе, ясное, с бликами мерцающих глаз. На пляже много людей. Но никто не замечает сияния твоего образа. Раздеваюсь, плыву в открытое море - а он надо мной, опускается низко, шепчет: «Мои лучи просвечивают волну до морского дна. Протяни руку - почувствуешь мое тело». Протягиваю руку и чувствую упругие ноги, талию, шею - и уже ты вся передо мной, смеющаяся, играющая, быстрая, как дьявол. Своим прикосновением вливаешь в мышцы такую силу, что я поднимаю тебя на руке над волной - и долго несу в необъятном пространстве. Потом слегка подбрасываю - и ты становишься чайкой. Вся плавно расправляешься и сверкаешь огненной белизной на голубом фоне неба... И опять ты плывешь рядом. Опять рукой дотрагиваюсь до талии. Целую плечи...
Иду в комнату, где ты жила десять лет назад. Нынешние отдыхающие, узнав причину, охотно пропускают меня на балкон, а сами уходят. Я опускаюсь в шезлонг - и явственно вижу тебя, сидящей в зеленом кресле. Твои глаза постепенно расцветают и становятся такими же, как прежде... Рукой хочу дотянуться к руке, но, как и тогда, воздерживаюсь, чтобы не вспугнуть сияние над тобой чего-то невидимого и неповторимого.
Вечером в баре сажусь за тот же столик, где вместе ели мороженое: ты, я, Катя и Нина. Бармен прежний. Вспоминаю неприятный диалог о нем, размолвку между нами, затянувшуюся на двое суток. Непроходимую боль души. Отчаяние. Затем встречу как ни в чем не бывало. Осязаемую печать такого же страдания на твоем лице. Розы. Покорность и нежность... Они опять опьяняют сердце. Ибо ты - рядом.
Допоздна, как и тогда, бродим вместе по набережной. Зовет и зовет в море твой голос, тихий, печальный.
Не встретились мы в последнюю субботу июля, как не увиделись ни в Ангарске, ни в Припяти, ни во Львове.
Но самое непостижимое для меня и страшное, что ушла ты из жизни не от недута, который преследовал годами, а вследствие внезапного облучения в той желанной лаборатории, куда так стре-милась. Ради идеи, что жгла твое сердце, ты нарушила все запреты... Не помог я тебе. Не оживил. Хотя ты во мне, как я сам.
Сажусь в темноте в своей комнате - следом бесшумно заходишь ты, опускаешься на кровать. Целую пальчики рук и ног твоих. Слышу слова: «Я скоро умру, от меня ничего не останется...» «Нет, - отвечаю. - Ты будешь жить вечно. Вечно! Вечно! Вечно!»
г. Скадовск. 1984.
ЛИЦА РАЗДУМИЙ
НЕЗАБУДКА
«Раздвоенный подбородок. Черные волосы с кудряшками, похожими на каракулевые завитки. Этот паренек – точно я в юности. Но почему у него на коленях сидит Вита? Неужели не замечает, что вижу их в зеркале? Дочь говорила, что едет в Никополь на моей маршрутке ради спортивного интереса. А у нее, выходит, девичий интерес? Смотри, сплела руки с его руками. Но и этого ей мало. Едва потемнело в салоне, уже целует хлопца.
Чтобы пресечь эти «вольности», включаю свет.
Парень стушевался, покраснел… В выражении его сконфужен-ного лица опять улавливаю свои черты. «Не сын ли он мне – внебрачный?» - мелькает мысль. И тут же смеюсь над собой: «Донжуан – на барашка похожий…» Этой фразой в молодости подтрунивали над моей неказистой внешностью коллеги из автогаража. Любила повторять эти слова и… Дарина… Постой! Впервые за 20 лет после нашего разрыва еду в ее город?..
Тогда тоже была весна… Сейчас езжу на микроавтобусе, и еще восемь таких же имею в частной собственности. А в те годы водил государственный «Икарус». Помню, приехал в Никополь вечером. Иду мимо баб, что торгуют яблоками, семечками и цветами. А среди них не то что грустное – до слез печальное лицо. Взглянул – и мимо пройти не могу.
- В какую цену розы? – спрашиваю.
- Трояк за штуку.
- А за все?
- Тут их около двадцати…
Я вынул из кошелька пять червонцев:
- Достаточно?
Молча приняла деньги. Заворачивает цветы в фольгу, протягивает мне.
- Я купил их Вам, чтобы не грустили, - тихо сказал я – и мгновенно удалился…
Через две недели снова выпал рейс в Никополь. Не удержался – опять подошел к той цветочнице, купил розы и также хотел подарить их.
- Букет не возьму, - запротестовала.
- Почему?
- А зачем мне цветы? В прошлый раз я не знала, что с ними делать… Вы исчезли – и я снова их продала…
Пришлось познакомиться. Разговор у нее неторопливый, движения плавные. А глаза с какой-то удивительной синевой: смотришь и насмотреться нельзя. Влекло, не знаю почему, и скорбное выражение лица. Хотя, как после узнал, это результат неудачного замужества. Муж, от которого ушла, пил, поднимал руку – пришлось из Оренбурга перебраться с шестилетней дочерью Юлей к сестре в Никополь. Та жила с семьей в частном доме, работала на предприятии, а на приусадебном участке в теплице выращивала розы. Дарина устроилась на краностроительный завод контролером ОТК (за плечами у нее был индустриальный техникум), а в свободное время продавала цветы.
В тот вечер повела себя строго. «Женатые, - заявила, - мне не нужны». Я, понятно, пустил в ход «легенду». Солгал, что живу в областном центре один в двухкомнатной квартире. Мол, жениться недосуг. Наматываю, как у нас говорят, километры. Могу сквозь игольное ушко провести автобус. Вот мне, 26-летнему, и доверяют междугородные пассажироперевозки. А виртуозы классом ниже работают на пригородных и городских линиях.
Не знаю, эти слова повлияли на Дарину или что-то другое. Она передала мне ведро с розами – и мы пошли к моему «Икарусу», что стоял в освещенном месте. В путевом холодильнике было при-пасено все для таких встреч. Выпили шампанское, потом коньяк. Дарина, к моему удивлению, неожиданно вполголоса запела. Песня была тягуче-заунывной. Но в мое сердце входила с нарастающей радостью. Гостья ведь была готова сбросить с себя оцепенение. Да и как иначе? Аромат цветов, заполоняя салон, располагал к нежности. Вскоре мы запели вместе. Потом говорили, говорили.
Свидания в автобусе повторялись в течение всего лета. Чтобы чаще выпадали рейсы в Никополь, оттуда привозил диспетчеру вяленых лещей. И всякий раз ехал к Дарине, как на праздник. Вскоре она с дочерью перебралась от сестры в однокомнатную квартиру, которую ей доверили знакомые, уехавшие за длинным рублем на Север. Теперь останавливался у нее на правах жениха. Приходил всегда с подарками. Деньги у меня не переводились, потому что по дороге всегда подбирал «левых» пассажиров.
Так и продолжалась бы эта идиллия, если бы осенним утром, собираясь в спешке, не уронил на пол служебное удостоверение. Дарина раскрыла его – а там фотография моя, имя мое, а фамилия не та, что ей называл. Довелось сознаться в «конспирации». Дарина тут же записала адрес моего автопредприятия. Сказала, что отныне мне не доверяет. А спустя две недели показывает ответ на ее за-прос по месту моей работы: «Даниил Григорьевич В. родился в 1957 году, имеет дочерей – Клавдию, 1979 года рождения, и Виту, 1981 года рождения…»
Размолвка наступила не сразу. Ее оттянуло мое признание в любви и обещание развестись с женой… Но гармония отношений нарушилась. У Дарины возникали вспышки тревоги. Она поглядыва-ла на меня с опаской. Прежде имел право брать Юлию из садика, общаться с ней. Теперь переступал порог квартиры только после того, как девочка уснет. А на рассвете перед ее пробуждением обязан был уходить. Связанное с этим обстоятельством нервное напряжение снизило мою мужскую потенцию. Однажды Дарина заявила:
- Мне с тобой плохо. Больше ко мне не приходи.
Это был «от ворот поворот». Но я не поверил в произнесенные слова. Считал, что мы любим друг друга и всегда будем вместе. Мое сердце обливалось кровью, билось, как рыба об лед.
Последнюю отчаянную попытку вернуть прежние отношения предпринял 31 декабря 1982 года. Позвонил Дарине на работу, сообщил, что вчера подал в загс документы на расторжение брака. Предложил вместе встретить Новый год. Она сказала: «Это невозможно. Ко мне приезжает брат из Оренбурга». Я умолял, но она осталась непреклонной.
А во мне пробудилась ревность. В полночь, как ни сдерживал себя, оказался у дома Дарины. Несколько раз подходил к ее двери. Но роль незванного гостя не для меня. И все же уйти не смог. За-таился на расположенной невдалеке спортплощадке и наблюдал за окнами. Где-то в час ночи свет в квартире погас. На балкон вы-шел невысокий с рыжеватой шевелюрой мужчина. Следом вы-скочила Дарина и спровадила его обратно в комнату. Она, уверен, чувствовала мое присутствие… А я кипел. Ибо ее брата знал по фотографии. Это был не он, а мастер цеха, где она работала. Прежде как-то издали показала его и даже пошутила: «Этот вдовец оказывает мне знаки внимания». Теперь, увидев их вместе, понял: надо вырывать из сердца эту женщину. До нее у меня случались романы. Ведешь автобус, сядет рядом девушка, ластится – разве устоишь? Но то были кратковременные связи. А Дарина вошла в душу основательно.
До сих пор не забылась незабудка. Хотя после пережитого в ту ночь стресса уже не искал с ней встреч, не звонил… Повинился перед женой, стал примерным семьянином, воспитал хороших дочерей. Клавдия уже работает медсестрой. Вита учится на последнем курсе университета… Вот только где она подцепила этого паренька? Кто он?..
Когда приехали в Никополь, подхожу к дочери. Юноша, обняв ее, стоит рядом.
- Это Кирилл, - отрекомендовала Вита. – Учится у нас на третьем курсе. Мы собираемся пожениться…
Я спросил фамилию (не моя), имя отца, где работает. Вопросы задавал механически, а ответов вообще не воспринимал. Ибо все время выискивал в чертах юноши опровержение своей догадке. Когда же прозвучало имя матери – Дарина – я едва не сомлел от потрясения. Хотел закричать: «Ты мой сын! Моя кровь!» Но не смог – перехватило дыхание.
Дочь заметила мое волнение. Но истолковала по-своему:
- Папа, не переживай. До защиты дипломной работы обещаю замуж не выходить…
На следующей неделе, приехав в Никополь без дочери, я отыскал Дарину. Мы встретились на том месте, где она когда-то продавала цветы. Преподнес букет. Как и 20 лет назад, учащенно забилось сердце. На лице у нее нет следов прежней скорби. Однако поглядывала с агрессивной отчужденностью. Не подтвердила, что Кирилл мой сын. Вместе с тем потребовала, чтобы я не допустил его женитьбы на моей дочери. И что особенно больно – категорически отказалась от каких-либо контактов.
- Забудь о нас, - попросила. – У тебя своя семья, у меня – своя. У Кирилла есть отец, который, кстати, удочерил и Юлию. У нас полное взаимопонимание и доверие.
После этой встречи до сих пор не проходит обида. Я любил и люблю эту женщину. А коль родила от меня сына (это подтверж-дает дата его рождения) – значит, она тоже любила? Почему же и 20 лет назад отвергла и ныне отвергает мою любовь? Ведь и тогда хотел и сейчас хочу быть с ней. Что предпринять? Имею ли право сказать Кириллу, что он мой сын?… На душе такая тяжесть, что выезжаю в рейс, – и возвращаться домой не хочется. Все думаю: как это он жил и живет без меня? Дитя от любимой женщины вдвойне любимо. А мне запретили его любить…»
ЛИЦА МУЗЫКИ
АЛЬБОРАДА, или ПОПРАВКА
К ПСИХОАНАЛИЗУ ФРЕЙДА
Мягкие черты лица, открытый взгляд, мозолистые руки – всё в этой крестьянке говорило о трудолюбии и доброте… Почему же она оказалась на скамье подсудимых? Неужели наше жестокое время любого может толкнуть на преступление?..
Да, мы в своей жизни часто видим рядом погоню за большими деньгами, за удовольствиями, за всякого рода престижами. Тот использует административное кресло, чтобы обогатиться. Этого жажда наживы сделала похожим на паука. Иные подались в лакеи, лишь бы платили побольше. Вечерами с опаской выходим на улицу, боясь насилия, разбоя, грабежа. На каждом шагу стремятся тебя объегорить, нажиться за твой счёт… Эпидемия? Болезнь?
Говорят, что это реалии сегодняшнего дня толкают людей на всевозможные уловки и авантюры, на предательство и даже на убийство. Возможно… Но можно ли потом с этим грузом подлости жить? Под силу ли человеческой душе такое напряжение? Не разломится ли, не погибнет? Ведь жить ей можно только в Богом данных пределах…
Давайте пройдём в зал судебного заседания, где рассмат-ривается дело этой женщины.
Адвокат:
- У прокурора не было и нет никаких вещественных доказа-тельств вины Софьи Павловны Поклонской. Всё держится на её личном признании. Но где гарантия, что она не оговаривает себя?..
Судья:
- Послушаем подсудимую.
С. Поклонская:
- 17 лет назад мой муж погиб в автокатастрофе. Двоих сыновей довелось одной ставить на ноги. Недавно хлопцы женились. На земле, что досталась нам как пай, гнут спины от зари до зари. Но бедность продолжает хватать их за горло. Поэтому я ложилась и просыпалась с мыслью: как помочь детям?
Как-то привезла на городской базар молоко. Как всегда, долила в бидон воды. Немного, на одну четверть. Это по-божески – другие на половину разбавляют. Стою, значит, за прилавком. Подходит старик, попробовал и дальше пошёл по ряду. Потом снова ко мне возвращается.
- Касатушка, - говорит, - я куплю у тебя все 10 литров мо-лока и творог в придачу. Но помоги мне их домой отнести. У меня левая нога плохо сгибается.
По дороге покупатель назвался Бондарем Леонидом Исаеви-чем и всё расспрашивал о моих семейных делах. Посочувствовал, что не имею ни супруга, ни ухажёра. А по поводу того, что мои сыновья физически здоровые и приспособлены к крестьянскому труду, сделал вывод:
- Им вредна материнская опека. Да и зачем становиться обузой для детей? Моя единственная дочь живёт с семьёй в областном центре. Зовёт к себе. Но я туда не поеду. Мне лучше будет с тобой. Переходи ко мне жить.
От этих слов я как бы встрепенулась. Гляди, жених нашёлся! Сутулый. Хромой, да вдобавок ещё и нос крючком. С таким даже идти рядом не хочется.
Однако, когда приблизились к усадьбе, большой дом, крытый железом, произвёл впечатление. Если его продать, подумала, можно сыновьям трактор купить.
Это обстоятельство и заставило меня стать женой инвалида. В период переезда прикидывала: поживу, присмотрюсь. Может, сам дуба врежет? Как-никак ему семьдесят, а мне всего пятьдесят шесть.
После регистрации брака старик повёл себя так, вроде он пан, а я служанка. Придирался по поводу и без повода. Я вскапы-ваю огород, а он стоит рядом, опирается на палочку и указывает, как надо лопату держать, чтобы корни деревьев не повредить. Сажаю помидоры, прошу рассаду подать – без особой охоты подносит, а наставлений кучу выплёскивает. За столом тоже привередничает, с хмурым видом ковыряется в тарелке.
Только с наступлением темноты какая-то иная натура пробуж-дается в нём. Садится за инструмент, который именует “пианинуш-кой”, и длинными пальцами бегает по клавишам, исторгая то ти-хие, то громоносные звуки. Вслушиваюсь – но мало что понимаю. Все эти музыкальные голоса из чужой жизни недоступны мне. Хотя, знаю, в моём роду в нескольких поколениях были сплошные кобзари и бандуристы.
В сельском дворе я управлялась кругом бегом. Теперь, на новом месте, тоже всю трудоёмкую работу взвалила на свои плечи. Леонид Исаевич под разными предлогами спешил в школу, где прежде преподавал музыку. Дома только пыль вытирал. Для этого у него был целый набор тряпочек: влажные – для подоконников, сухие – для комодов и этажерок, мягкие, сверкающие белизной, - для пианино. После каждого употребления тряпочки тщательно выстирывал и вывешивал во дворе. Полы тоже протирал.
А я пахала на приусадебном участке. Обработать семь соток земли нелегко, если хочешь иметь и помидоры, и перец, и огурцы, и морковь, и лук, и чеснок, и картофель. А я ещё умудрялась выращивать патиссоны, фасоль, баклажаны, клубнику. Но от Леонида Исаевича вместо “спасибо” слышала только насмешки.
- Пенсия и у тебя, и у меня одинаково куцая. Но мне ежеме-сячно дочь высылает по сто гривен. Вот на эту сумму ты и должна отрабатывать.
Вопреки моим настояниям, супруг так и не убрал со стола портрет покойной жены. Однако после нескольких недель нашей совместной жизни однажды вечером нагло лёг в мою постель и потребовал женского внимания. В моём сердце все минувшие годы хранилось чувство к погибшему мужу. После него только заведующий фермой, где работала дояркой, спал со мной. Но то не было любовью. Он пользовался моим телом, а я его поблажка-ми. Вот и Леониду Исаевичу я поддалась в расчёте на смягчение отношений. И, действительно, он малость изменился к лучшему. Удивил и тем, что всякий раз после интимной близости (а это было по воскресеньям) поднимался с постели, надевал свой празд-ничный костюм и по три часа кряду играл на своём инструменте. При этом громко объявлял название произведений и их авторов. Но я в это не вникала. Слушала музыку только потому, что он просил, часто засыпая под эти его сюиты и сонаты.
Минуло два года. У сыновей возникли проблемы. Вот я и решила свести на тот свет Леонида Исаевича. Зелье подсыпала в еду. Он давно состоял на учёте в поликлинике как сердечник. Новые приступы ни его, ни врачей не насторожили. Это подтолкнуло меня увеличить дозу до смертельной. Произошло это в больнице. Я была вне подозрений.
Судья:
- Что же побудило вас сознаться в содеянном?
С. Поклонская:
- И в день смерти Леонида Исаевича, и в особенности во время похорон во мне зазвучала его музыка. И потом, когда я вытирала пыль на стоящем без дела инструменте, - её звучание как бы возобновлялось и уже не покидало меня. Сознание прогоняло эту музыку. Но в стихию аккордов я втягивалась будто в сон. В этих видениях ощущала себя какой-то непонятной и абсолютно неизвестной мне ни то девушкой, ни то рощей под названием Альборада. Потом вспархивала бабочкой, стараясь пробиться сквозь лесную чащу. После расстилалась в виде просторной местности и наполнялась колокольным звоном. В небе летали грустные птицы и требовали, чтобы я плакала. Также неожиданно на меня плыли, накрывая с головой, чёрные волны, через мгновение они преобразовывались в яркие зеркала и каким-то невероятным образом высвечивали всем на показ мою подлую душу. Я вырывалась из плена зеркал, превращалась в лодку и плыла по реке. Бурное течение несло судно в океан. Но и там залитая солнцем водная гладь постепенно раскачивалась – и в конце концов шторм подбрасывал лодку вверх, кидал вниз – я раскалывалась на щепки… В эти секунды мозг прояснялся. В памяти всплывало то, что недавно пережила.
Больничная палата. Сижу рядом с умирающим Леонидом Исаевичем. Он прижимается ко мне и шепчет на ухо: “Не забывай меня и мои мелодии. Я полюбил тебя так же сильно, как и первую жену…” Он тихо дышит и наконец упокаивается у меня на руках – на руках своей губительницы.
Видения и воспоминания терзали меня, как коршуны. Ночами в спальню вползали страх и бессонница. Я пыталась молитвами ублажить эти музыкально-кошмарные фуги. Не помогало… Я понимала, явка с повинной ничего не даст, кроме позора мне и моим детям. Огласка не принесёт душевного облегчения. Напротив, унизит, раздавит. Но не смогла побороть эту бурю внутренних непостижимых аккордов… Это после я осознала, что люблю Леонида Исаевича…
Судмедэксперт:
- Супруг Поклонской исполнял в основном фортепьянные пье-сы Мориса Равеля из циклов “Зеркало” и “Ночной Гаспар”. В них зарисовки природы (“Ночные бабочки”, “Грустные птицы”, “Доли-на колокольного звона”, “Игра воды”, “Лодка в океане”), жанро-вые сценки (“Альборада”)… Вот к подсудимой и вернулось их зву-чание. Важно заметить, что, когда муж играл эти сочинения, её сознание, так она утверждает, не участвовало в восприятии. А вот подсознание, по всему видно, подобно губке, впитывало эти звуки. Выходит, к покаянию Поклонскую привели “глубины неосознанной душевной жизни”, “преисподняя психики”. Это термины Зигмунда Фрейда. Но есть одна поправка. Он в своих научных исследованиях, в своём психоанализе делал акцент на том, что в “дебрях бессознате-льного” кроются причины самоубийств, преступлений, болезней и иных трагедий. А в данном случае, наоборот, “бессознательное” привело к моральному возрождению. Поклонская сознательно шла на преступление, а в милицию пришла под давлением “бессозна-тельного”. Сохранившаяся на уровне “бессознательного” музыка (возможно, не только та, что играл муж, но и в какой-то мере и та, которая передалась на генной основе от увлекавшихся игрой на инструментах предков) помогла Поклонской победить в себе зверя, убийцу, преступницу. Иначе саморазоблачения не было бы.
Таков вывод консилиума врачей с участием двух кандидатов наук и ведущих специалистов психоневрологической клиники. Показания Поклонской подтверждены эксгумацией трупа погиб-шего, в котором выявлена названная подсудимой разновидность яда. Это и есть неопровержимое вещественное доказательство вины Софии Павловны. Намёки адвоката на то, что она невменяема, не имеют под собой никаких оснований. Поклонская вполне здорова. На данное время здорова и физически, и нравственно.
…Учитывая, что преступление было раскрыто только благодаря явке с повинной самой преступницы, суд приговорил Софию Поклонскую к трём годам лишения свободы условно с конфиска-цией собственности, полученной по завещанию от Леонида Исаеви-ча Бондаря, с последующей передачей этой собственности его дочери Алле Леонидовне Ремизовой.
“Днепр вечерний”.
ЛИЦА СТРАСТИ
КАПЛЯ РОСЫ
Встречая меня на пороге своего дома, Филат всякий раз повторяет:
- Ты, Ивона, своей чистотой очищаешь мне душу...
А впервые эти слова он произнес двенадцать лет назад. Тогда мне было четырнадцать, ему - двадцать один. Он студент, я школь-ница. Жили в пригородном поселке по соседству. Наша улица была крайняя со стороны степи. Филат в воскресные дни брал меня, мою восьмилетнюю сестру Наташу - и втроем бро¬дили по лугам и перелескам. Ната собирает цветы, ловит кузнечиков. А мы с ним, взявшись за руки, как бы сли¬ваемся с природой. Следим за еле уловимым движением в небе, в полях. Смотрим, как солнце, заливая нивы лучами, расцвечи-вает их в свои краски, заставляет сверкать, дышать. И уже голосистей поют птицы, выше взлетают мотыльки. Всюду проявле¬ние счастья, его трепет. Солнце раскрепощает и наши желания. Глаза Филата, встретясь с моими, из синих становятся черными и аж чуточку красными. В них будто огонь кипит. Будто лучи солнца растворяются в его зрачках и расширяют это свечение. Оно обретает такую силу, что я вся загораюсь от него. По часу стоим и смотрим глаза в глаза, пьянея душой. Нам ничего не надо: ни объятий, ни поцелуев. Мы выпиваем, вби¬раем в себя друг друга глазами, одними глазами. Ни с кем никогда я не испытывала таких мгновений восторга. И Филат, по¬лагаю, испытывает их только со мной.
Но продавцу магазина Лизавете, ровеснице Филата, которая уже тогда держала под прицелом симпатичных парней, наши про¬гулки кололи глаза. Она донесла моему отцу, что «Филат по рощам уединяется с ребенком», то есть со мной. Отец ничего не запрещал, никаких наставлений не давал. Но одного вопроса: «Правда ли это?» - было достаточно, чтобы наша любовь сжалась в комок. Нет, она не погибла. Но походы в степь прекратились. Молва затуманила чувства. Они, как в каземате, теснились теперь в тайниках вспугнутых сердец.
Сбросить оковы, и то не в полной мере, удалось только год спустя, когда Филата прислали в нашу школу в качестве институтского практиканта. Ему поручили вести у нас и еще в пяти классах уроки английского языка. Появилась возможность каждый день видеться, подходить с вопросами, касаться рукой руки. Щемящее чувство возвращения к былой радости особенно усилива¬лось на уроках. Едва Филат открывал дверь и заходил в каби¬нет - его взгляд устремлялся ко мне. Немое, с помощью глаз, об¬щение вызывало у него небывалый приток энергии. Филат с блес¬ком излагал новый материал, виртуозно строил диалоги. Все с хорошим настроением включались в работу. Никто не догадывался о нашем тайном влечении друг к другу.
И вот в полной тишине он принимается диктовать текст. Учащиеся склоняются над тетрадками... А я в этот миг подни¬маю глаза — и наши взгляды сливаются. Как и год назад, лов¬лю кипение в мужских зрачках, впитываю их иссиня-красный пла¬мень. Под его напором мой восторг распахивает окна, вырывается из класса и парит, парит где-то в необозримых степях.
Когда же мне исполнилось шестнадцать лет, и, получив пас¬порт, намеревалась сама обнять Филата (чтоб не остановило его то, что я несовершеннолетняя) - он неожиданно женился на ка¬кой-то супермодели. Сколько я слез пролила. Ведь свадьбу иг¬рали в поселке. Ныне знаю, что если бы тогда смело вторг¬лась в его жизнь, объявила о своей любви - он бы всех бро¬сил и пошел за мной. Но робость меня сковала. Я потеряла способность думать, анализировать, действовать. Бродила по по¬лям босая и неприкаянная.
Впоследствии запал ревности, что накопился в те дни, пере¬ковала в жажду учебы. Чтоб и ему, и самой себе доказать, что я не только внешне привлекательная, но и душа у меня стоящая, засела за английский, да и по другим предметам под¬тянулась. Окончила школу «хорошисткой» и поступила в тот же вуз, где прежде учился Филат. Два первые курса получала имен¬ную стипен-дию ректора. Александр из параллельной группы все время подса-живался ко мне, «сверял конспекты». Он чуткий, услужливый. Вскоре предложил руку и сердце. Мы зарегистрировали брак и стали жить в одной квартире с его матерью. В двадцать я родила Женечку, а спустя пару лет - Оксаночку. Нянчить малышей помогает свекровь. Окончив вуз, и я, и муж наш¬ли хорошую ра-боту. Начали собирать деньги на покупку отдель-ного жилья.
Но тут, как из небытия, заявил о себе Филат. «Ивона, - написал он в письме, - ты единственный человек, ко¬торый может понять и спасти меня. Я погряз в бесчестии, разврате и лжи. Женой мне стала очень красивая женщина. Мы ра¬ботали вместе в коммерческой фирме, имели солидный доход. Но мой шеф втянул меня в неприличные дела. Я стал участвовать в оргиях, разного рода распутствах. Полагал, это не отразится на семье. А вышло, что шеф специально все подстраивал - и в конце концов увел у меня жену. Они исчезли, выехав в сосед¬нюю страну. Скоро год, как я заливаю горе, а точнее горло вином. Работаю, где придется. С кем попало сплю. Возможно, стану бомжом.
Ожидаю тебя, Ивона, в следующую субботу...»
Трудно было решиться, но я все же явилась по указанному в письме адресу. Филата не узнать. Медлителен в жестах. Лицо помятое. Одежда не отутюжена... Но когда поднял глаза и наши взгляды встретились - на меня, как волна, нах¬лынули забытые ощущения ранней юности. Черно-красные искринки его зрачков проникли в самую глубину моего естества и пробудили давний нереализованный огонь желаний... Мы замечаем росу на листьях, но не видим ее прихода и ухода. Так и мои чувства проявились незримо. Не ведаю, как все было, что происходило. Только через несколько часов опомнилась, посте¬пенно осознавая, что лежу в постели, а губы Филата касаются моих глаз, наполненных слезами.
Через несколько дней опять пришла к нему. И так потекла неделя за неделей. Запрещала себе эти встречи, но наступал час свиданий - и снова бежала, вроде ветром гонимая. Моя любовь - дивное зернышко: она как родилась в мои четырнадцать лет, так до сих пор и не потеряла «всхожести». А теперь, когда судьба опять свела меня с Филатом, проросла и потянулась к солнцу.
Вскорости Филат оформился в поселковую школу учителем. На жительство перебрался к маме (отец полгода назад умер от ин¬фаркта). Понимая, что сын вернулся к нормальной жизни благода¬ря мне, Елена Петровна поощряет мои с ним встречи. Создает все условия для интимных свиданий. С ее согласия Филат предложил мне переселиться к нему с детьми.
- Мать, - заверил, - будет называть их внучатами. Согласна и нянчить, и всячески опекать. Увольняться с работы тебе не придется.
Это меня обрадовало. Я стала готовить почву для развода с му-жем. Но мои попытки затеять ссору ничего не дали. Алек¬сандр человек бесконфликтный, уступчивый. Правда, однажды я все же решилась уйти от него. Одела Женю и Оксану во все самое луч-шее. Остальное, думаю, пусть остается. Выходим из подъезда. На-правляемся к автобусу. Вдруг откуда ни возьмись - Александр. На час раньше, говорит, с работы отпустили. Дети бросились к не-му. Обнимают, целуют. Он обеих подхватил на руки и понес в рас-положенный рядом парк. На качелях качал, играл, развле¬кал шут-ками... Глядя, как любят его дети, я не решилась лишать их отца.
Вот и живу на два двора. По сути, у меня два мужа. Большую часть времени отдаю семье, урывками навещаю Филата. Порой чувствую себя шаткой березкой, на которую раз за разом обрушивается стихия. Она в дугу сгибает ствол, выкручивает ветви, срывает листья. Чтоб выдержать этот натиск, собираю силы в кулак и, обливаясь слезами, ищу надежду... Как-то она забрезжила, как ни странно, со стороны Лизаветы. Та выгнала очередного мужа и настойчиво пыталась соблазнить Филата. Затем взялась за него бывшая жена, которая объявилась в поселке. Но всех «претенденток» он отверг. Сказал мне: «Отныне и до конца дней ты у меня - единственная». Успешно учительствует, а в свободное время переводит на украинский Томаса Гарриса.
Нет, я не обрадуюсь, если Филат кого-то полюбит. Но это было бы для моей семьи спасением. Ибо по своей воле оста¬вить его не могу. Многие не верят в любовь безумную, страст¬ную. Я тоже не верила - до той минуты, как поцеловала Филата.
Сейчас я беременна. Из-за этого и обсели тревоги. Ведь это дите от Филата. Во снах все чаще вижу себя перекати-полем. Ветер несет меня то в одну сторону, то в другую, за¬тем накатывает на огонь - и я сгораю. Когда пробуждаюсь - как из тумана, наплывают чьи-то глаза, схожие на этот огонь.
ЛИЦА ТВОРЧЕСТВА
«Я БЫЛ В ЛАГЕРЕ 7315/6»
Бывая в Марганце, много раз проходил мимо этого фонтана, но никогда не думал, что он сделан руками военнопленного. Но вот в горсовете читаю письмо: «Меня зовут Фридрих Хесс. Мне 67 лет. Живу в городе Эхинген, ФРГ. С мая 1945 по 1948 год я был военно¬пленным в лагере 7315/6 го¬рода Марганца. Затем — в лагерях Никополя и Днепро¬петровска. В ноябре 1949 вернулся на родину. В памя¬ти многое стерлось. Но ху¬дожественные работы, что выполнил в Марганце, оста¬вили след на всю жизнь.
Как было? В лагере я по¬строил фонтан. Он понравил¬ся пред-седателю горисполко¬ма и другим ответственным лицам. По их просьбе меня перевели в городское архи¬тектурное управление. С то¬го момента я стал работать скульптором. Подчинялся архитектору города, имя ко¬торого, к сожалению, забыл. Но зато не забыл, ка-ким приветливым и гуманным было его отношение ко мне. Я не учился на скульптора - война помешала. Но у ме¬ня была высокая квалифика¬ция каменщика. Думаю, моя склонность к художествен¬ной работе и маленькая до¬ля смелости приступить к такой работе позволили мне выдержать тот экзамен и оправдать доверие моих начальников. Первой скульпту¬рой была «Пионерка», она осталась в лагере. Затем вы¬бил из бетона фигуру мета¬теля диска. Эту скульптуру поставили в городе на цоко¬ле перед Домом пионеров. «Украинка» — так назвал следующую скульптуру, ко¬торую сделал для фонтана. В правой руке у неё кувшин, из которого должна течь во¬да, а в левой — корзина с фруктами. Молодая девушка из местных позировала при выполнении этой работы. Прилагаю к письму ее фото¬графию. Интересно, где она, жива ли еще?
Кроме упомянутого, я построил еще несколько фон¬танов. У фонтана перед гос¬тиницей было три чаши, рас¬положенные ступенчато одна над другой. Сохранилась фо¬тография этого сооружения. Но меня неожиданно пере¬вели в лагерь города Нико¬поля, и я не успел завер¬шить эту работу.
Чтобы имели представле¬ние, что еще намеревался сделать, прилагаю два листа с четырьмя копированными рисунками для скульптур и фонтанов, что набросал в тот период.
Мое желание еще раз по¬бывать в Марганце, пока здоровье по-зволяет, со вре¬менем усилилось. Хочется посмотреть, что осталось от сделанного мной. Знаю, употребляемый тогда бетон не был высокого качества, возможно, за это время вы¬ветрился. Прошу обо всем написать. Кроме того, меня интересует: помнит ли еще кто-либо военнопленного «скульптурщика» Фридриха Хесса? Я по сегодняшний день глубоко уважаю рабочих и служащих вашего го¬рода и благодарен за то, что они хорошо ко мне относились».
- Получив это письмо, - рассказывает председатель Марганец-кого городского со¬вета Виктор Иванович Березовский, — мы пригласили Хесса посетить наш город. Встреча была очень трогате-льной. Гость как бы вернулся в свою молодость. Нашлись и знакомые. Не увидел только лагерных ба¬раков. Они давно снесены. На их месте выросла благо¬устроенная многоэтажная улица Киев-ская. Сохрани¬лось и большинство художе¬ственных работ Фрид-риха. В знак благодарности он пода¬рил городу 5000 западногерман-ских марок, на которые мы закупили оборудование для стоматоло-гической поли¬клиники.
— Хесс стал богатым че¬ловеком?
— После возвращения из плена он унаследовал стро¬ительную фирму отца. В ней девяносто сотрудников. Но производительность труда у них настолько высокая, что выполняют почти такие же объемы, как наш трест «Марганецрудстрой», в шта¬те которого более тысячи че¬ловек.
— Капиталисты неплохие организаторы?..
— Да, поучиться у них есть чему. Именно с этой целью группа, куда вошли я, директор завода керамзито¬вого гравия А. Курило, глав¬ный инженер лентоткацкой фабрики С. Казанцев, учи¬тельница немецкого языка СШ № 9 Т. Келепко, глав¬ный энергетик треста А. Гончаренко и маляр-штукатур Н. Олегаш побывали недавно в Эхингене. Этот город по населению в полтора раза меньший нашего, использует на внутренние нужды в десять раз больше средств.
— А что полезного увиде¬ли в ФРГ ваши строители?
— Гончаренко и Оле¬гаш были «зачислены в штат» фирмы Хесса. 3а несколько дней заработали по восемьсот марок. Кстати, мастерства у них оказалось не меньше, чем у немцев. Все дело в техническом оснащении. Так, на машине «Пуцмейстер» за смену они выполняли тот же объем ра¬боты, что в тресте «Марганецруд-строй» делает бригада, состоящая из 14 штука¬туров.
- Для Марганца приоб¬рести такую машину нельзя?
- Приобрели. С помощью того же Хесса. Его фирма заплатила 18.240 марок. Ма¬шина уже штукатурит квартиры в наших новых домах.
…По дороге на вокзал останавливаюсь возле хессовского фонтана. Он напо¬минает взмахнувшего крыль¬ями лебедя. Конечно, это не шедевр. Но есть в нем то «чуть-чуть», что как бы го¬товит душу к полету...
г. Марганец.
«Днепровская правда», 15.09.1990.
Р. S. В Марганце Хесс встретил и ту, которую любил в юности.
ЛИЦА ПОХОТИ
ГАРЕМ
У доктора, который лечил Макара Григорьевича, случайно сохранилась дискета с его исповедью. Когда пациент неожиданно умер, врач посчитал своим долгом передать дискету в правоохранительные органы. Там прослушали запись – и возбудили уголовное дело.
Вот эта исповедь:
«Я – средней руки предприниматель. Держу магазин и теплицы. Внешне, как видите, не уродлив. Но, наверное, чрезмерно добр и слишком влюбчив.
Год назад заходит ко мне в кабинет молодая женщина и просит, чтобы принял на работу продавцом. Обещает не воровать, не скандалить (именно за эти грехи я уволил прежнего продавца). Заверяет, что чужда сплетен, что будет преданной во всем. Неотрывно смотрит в глаза – и этот ее чувственный взгляд все больше опьяняет. Из рук у меня выпал ее паспорт, который дала на просмотр. Наклоняюсь, чтобы поднять. Она тоже наклоняется – и ощущаю женскую грудь, что трется о мою спину. Я-то не железный, возбудился. Тихо прошу: «Раздевайся». Думал, даст пощечину и хлопнет дверью. Но она с ласковой покорностью разделась, легла на диван… Эта Нила и за прилавком так же энергично двигается. Без спешки, но четко взвешивает кабачки, помидоры, огурцы. Словом, толковой работницей оказалась. А позову в кабинет – горит лицом и с какой-то неподдельной скромностью ожидает моей ласки.
Такое «поведение» новенькой не понравилось Доре, которая второй год работает в теплицах. У этой фигура, точно японская тыква: покатые плечи, узкая талия и мясистая попа. Но шустрая, как наседка. За минуту все расскажет, улыбнется, пожмет руки, вдохнет в душу радость. Живость ее темперамента и трудолюбие я приметил давно. Из рядовых поливальщиц перевел в кладовщицы. Она быстро наладила компанейские отношения с оптовыми покупателями, сбыт овощей возрос. Я с удовольствием повысил ей оклад. Дора всякий раз мое появление в теплицах воспринимала как праздник. О здоровье спросит, для семьи все предложит. И всегда в ее глазах ощущал загадочное волнение. Вроде чего-то ожидает. В такие минуты возникало желание обнять, поцеловать. Но сдерживал себя, боясь резкого отпора. Когда же стала подозревать, что у меня с новенькой роман, Дору будто подменили: грубит, выказывает неуважение. Я терпел ее «взрывы темперамента». А потом неожиданно не сдержался, спрашиваю: «В чем дело?» «Разве Вы слепой? – отвечает. – Не видите, что я готова ради Вас на все?» Мы находились в кладовке, посторонних не было. Я осмелел: «Что, даже готова стать моей любовницей?» «Давно об этом мечтаю». Рядом стоял застеленный накидкой топчан. Я сел на него, она – рядом… Дора преподнесла такой жар поцелуев, что весь остаток дня они не потухали во мне.
Еще раньше, то есть первой любовницей стала бухгалтер Ляна. Обстоятельства сводили нас на стезе поисков экономии. Вместе придумывали всякие хитросплетения и лазейки, чтобы не потерять доходы. Порой шли на обман и подлоги. И вот, составляя очередной отчет в налоговую инспекцию, задержались в ее каби-нете до полуночи. «Без психологической разрядки работать больше не могу», – сказала Ляна. Извлекла из холодильника самогон, наполнила бокалы. Я отказался. Тогда она сама выпила – и за-кружилась между столами. Что-то наподобие стриптиза преподнес-ла. Не заметил, как себя раздела, затем меня… Впоследствии мы стали регулярно сочетать работу с «психоразгрузкой».
А Ксения расцвела в моей жизни подобно подводной лилии. В конце весны я в одиночку вырвался в зону отдыха. Плыву себе, почти на километр удалился от берега. Вдруг из-за моей спины вырывается вперед девушка и зовет: «Давайте соревноваться!» Я с детства люблю воду. В несколько бросков брассом настигаю незнакомку. Она со словами «Ты первый, кто превзошел меня в плавании» обвивает мне шею и целует в губы. Море теплое, я не устал. Рядом Змеиный остров. Не сговариваясь, плывем туда. Еще не достигнув отмели, Ксения в шутку приспускает мне плавки – и пытается осуществить что-то схожее с минетом. Извращения мне претят. Я оттолкнул ее. Тогда девушка срывает с себя бикини – и падает передо мной на горячий песок. Тело молодое и как бы подрумяненное на солнце. Не устоял я… А потом выяснилось, что она новый агротехник в моей фирме. Ее приняла на работу жена – и меня об этом не уведомила. Ксения видела мое лицо в окно, запомнила – и вот теперь (спустя два дня) ей захотелось поддобриться к хозяину. «Поддобрение» мне понравилось. До самых холодов мы дважды в неделю «заплывали» на Змеиный остров.
С остальными тремя любовницами встречи не выходили за пределы фирмы. Инициатива в большинстве случаев исходила от них. Это льстило мне, служило своеобразным «запалом». В каждой находил что-то желанное. Они, по моим ощущениям, дополняли одна другую, создавая в совокупности образ женщины, которая непрерывно дарит наслаждение.
Нила притягивала непоказной преданностью и постоянством чувств. Закрыв глаза, ласкала мне ноги, участки возле пупка. Обнаженной грудью касалась губ, предлагая поочередно брать в рот соски. Когда все больше сжимал их, она все полнее входила в азарт – и мы оба достигали блаженства.
Дора, наоборот, все делала вулканично, бурно. Побуждала менять позиции. Ей доставляло удовольствие то падать на спину, то садиться верхом, то кувыркаться в бесконечной сладкой игре. Самым изысканным «блюдом» был ее язык, который с молниеносной скоростью обегал все мои члены, доводя тело до сексуального кайфа.
А вот Ляну про себя я называл «классической путаной». Она не любила повторяться. Перед тем, как наступало время нашего «психологического расслабления», из сейфа она вместе с самогоном извлекала книгу, в которой описаны все виды и способы совокупления мужчин и женщин древней Индии. Выбирала то, к чему в данную минуту склонялась ее душа. Тактично и ласково все объясняла и тут же показывала, что и как надо делать. Раскованность у нее сочеталась с яркой изобретательностью. Я «пил» эту медовую науку и напиться не мог.
Запомнившиеся изюминки такого обучения часто-густо передавал Ксении – самой молодой моей пассии. Хотя порой она дарила мне еще более утонченную, природой ей данную нежность.
Ни жена, ни эти четыре женщины не догадывались, что образовали, если можно так сказать, фирмовый гарем. Я изловчался не обижать своих избранниц. Для этого умело чередовал встречи. Да так, что ни у одной не возникало подозрения о моих интимных связях с другими. Жену тоже не обижал. Мы с ней поженились еще в студенческие годы, имеем сына и дочь школьного возраста. Субботу и воскресенье я полностью отдавал семье. С детьми иногда ходил на рыбалку, но чаще работал с ними в теплицах. Нанимать рабочих накладно. Поэтому все члены семьи при деле. Жена, звать ее Варвара, ответственна за выращивание овощей. На мне же завязано общее руководство, ведаю финансами, перекапываю грунт в теплицах. Нагрузка уплотненная, но посильная. Слабаком себя никогда не считал. Правда, от любовных утех иногда уставал, но это была сладкая усталость. В такие периоды утешал себя тем, что, мол, исламский пророк Мухаммед приютил шестнадцать одиноких женщин, у меня же их – значительно меньше. Я дамам дарю удовольствие, они – мне. Что тут плохого? А то, что каждая не прочь оттеснить жену и заполучить меня в мужья, то это говорит о моих достоинствах.
С такими вот житейскими размышлениями переступал я порог своего дома в тот памятный день – день моего 37-летия. По моему заказу Варвара должна была накрыть стол для четырех членов семьи.
Однако, смотрю, кроме жены и детей за столом сидят Нила, Дора, Ляна и Ксения. Как-то не по себе стало. Но они бросились вручать подарки, обнимать, поздравлять. Тревога от души отступила.
Ночью же, когда возникли рези в желудке, стал по–новому прокручивать в уме это необычное «собрание». Вспомнил, как женщины веселым кагалом преподнесли мне, кроме всего прочего, «высший дар за мужские подвиги» (именно эти слова, произнесенные женой, врезались в память) – набор из пяти бутылок самогона с наклейками: «50 градусов», «60 градусов», «70 градусов», «80 градусов» и «90 градусов».
– Выбирай по вкусу! – прокричали хором.
Чтобы продемонстрировать, что здоров, как бык, беру бутылку 90-градусного. Осушиваю бокал. Но хмель почему-то не идет ни в голову, ни в ноги. Еще раз наполняю емкость… Только после третьего бокала взялся закусывать.
А ночью, как уже говорил, появились рези, тошнота. Вышел на улицу, вырвал… Какая-то дворняга слизала мою блевотину – и тут же отбросила ноги. Я посмеялся – и вернулся к жене в постель.
Но утром довелось идти в поликлинику. За прошедший месяц по Вашим, доктор, рецептам испробовал массу лекарств. Но они не помогают. В течение последней недели желудок и не болит, и не работает. Что ни пытаюсь съесть – дальше пищевода не идет. Подозреваю, что мой «гарем» меря отравил…»
Эту исповедь Макара Григорьевича следователь внимательно изучил. Но о ней, допрашивая женщин, не упоминал. И вообще, в беседах с ними не употреблял слов «гарем», «измена», «любовник». Каждая, тем не менее, сознавалась, что страстно любила покойного (в том числе и жена). Все с горячим волнением вспоминали об интимных отношениях с ним. В свою очередь, химические анализы показали, что в тканях и крови умершего никакого яда нет. А та дворняга не сдохла, а всего лишь опьянела и уснула, утром она уже была на ногах. Выяснилось и то, что во всех пяти бутылках самогон имел крепость до 40 градусов. А яркие этикетки – это розыгрыш, придуманный Ляной.
Версию об отравлении не подтвердила и судебно–медицинская экспертиза. «Смерть Макара Григорьевича Д., – говорится в ней, – наступила в результате аллергического воспаления внутренних органов. Спирт, что был в самогоне, не мог обжечь желудок. Он, как и любая еда, мог всего лишь послужить «детонатором» пробуждения в организме аллергической реакции. А причиной ее возникновения является сверхинтенсивная половая жизнь, которая привела к истощению нервной системы, морфологическим изменениям и функциональному торможению в системе головного и спинного мозга». Под этим вердиктом подписались высшей категории специалисты: аллерголог, сексопатолог, уролог, психиатр, невропатолог и нейрохирург.
После консультаций с этими опытными коллегами врач, записавший исповедь Макара Григорьевича, снял свои подозрения в умышленном отравлении пациента.
ЛИЦА СОМНЕНИЙ
КАПЕЛЬКИ ГРУСТНОГО СОЛНЦА
“Я уйду из жизни в момент восхода солнца. А в течение этой прощальной ночи хочу описать мою любовь.
…Впервые я увидел её в поезде. Она сидела напротив и с мучительной скорбью наблюдала, как за окном клубится туман. Потрёпанный плащ и такие же изношенные туфли не пасовали её красивому лицу. Хотя вполне сочетались с застывшей в глазах тоской. Когда девушка взглянула на меня, я невольно произнёс:
- Не печальтесь. Вас ждут подарки.
- Не надо шутить… Или Вы что-то знаете?
- Просто предчувствую.
- Ни за что ни про что ничего не бывает.
- А разве Ваши глаза, похожие на капельки солнца, не заслуживают хоть чего-нибудь?..
Впервые за долгую дорогу девушка улыбнулась – и мне так приятно стало… Однако наше общение прервал голос:
- Пассажиры, приготовьте билеты к проверке!
С двух сторон вагона приближались ревизоры. Один – пожилой, второй – лет тридцати, черноволосый, со смужкой жёстких усов. Ни у меня, студента, ни у моей спутницы, тоже студентки, билетов не оказалось. Нас задержали, и так как поезд подходил к конечной остановке, приказали следовать в при-станционное отделение милиции.
На перроне молодой ревизор пошёл рядом с девушкой, я – за ними… Пожилой, вижу, отстал, даёт мне шанс смыться. Но я не сбежал, потому что незримые нежные нити уже связали меня со спутницей: разве я мог в беде оставить её одну?
В отделении ревизоры по телефону сверили наши адреса и выписали мне, Игорю Немцову, и ей, Зое Портной, штраф. Я взял квитанцию и покинул помещение. А Зое велели на минуту задержаться…
Вскоре она вышла сияющая:
- Мой штраф аннулировали. Я созналась, что у нас с братом одна мать, что мы очень бедные – и молодой ревизор смило-стивился.
- Вот и получила подарок! – как-то вдруг я перешёл на ты. – И второй принимай! – я вынул из сумки собранный по дороге к поезду букет подснежников и вручил ей.
- Ого! – воскликнула и слегка покраснела.
От встреч Зоя не отказалась. Но обусловила, что они не будут длиться до темноты. Первое свидание провели в парке. Съели мороженое, а затем гуляли и не заметили, как забрели в безлюдное место. Принялись искать выход – и неожиданно натолкнулись на заросли сирени. На несколько метров разросшиеся кусты были такими роскошными, что мы остановились в восхищении. Я раздвинул ветви – а там широкая лавочка, похожая на кровать. Мы с Зоей мгновенно упали на неё и, наклонив руками цветы, не вдыхали, а что называется пили густой аромат.
Этот сиреневый рай стал местом всех последующих свиданий.
Встречались по четвергам. Зоя обнаружила тропинку, по которой ей от общежития идти сюда всего пять минут. Мой путь дольше. Но сердце расстояний не замечало. Прежде у меня была зазноба. Но то чувство – листик. А это – огромное дерево. Да такое буйное, что всего меня в себя втянуло. Сидим на лавочке, Зоя не прикасается, только смотрит на меня – и я забываю обо всём на свете. Как сирень от лучей солнца – так и я расцветаю. Вот в цветах загудели пчёлы – и будто ощущаю их в себе. Словно весь окружающий мир – это я. Подниму взгляд к небу – и себя там вижу. И так радостно мне, так сладко. Вроде пчёлы в душу нектар приносят.
Уже после третьего свидания понял: люблю... И как бы сердцем ощутил: счастье – навсегда.
Но всё обернулось иначе. Есть люди-колючки, есть люди-кремни... А я человек-растение, меня можно затоптать.
Во вторник иду из занятий по тротуару, а на перекрёстке пе-ред красным светом тормознула легковушка. Марку не усёк. Потому что за рулём увидел в железнодорожной форме мужчину, а рядом... Зою. После того, как покопался в памяти и чётко осознал, что именно с тем самым молодым ревизором поехала моя девушка, мне стало не по себе. Как наваждение, отгонял увиденное. Пытался объяснить всё совпадением, случайностью. Допускал, что ошибся, что то совершенно другой человек, или простой таксист: мог же он одеть что-то похожее на ревизорский китель?.. Однако тревога, отступая, через минуту опять наскакивала.
А через день у нас с Зоей свидание. Она появилась возле сирени в новом платье, весенняя, торжественная. С каким-то детским прискоком подбегает ко мне, обнимает – и такая радость меня охватывает, такое счастье ощущаю, что куда тем наваждениям. Рассеиваются, как при восходе солнца туман. Целует Зоя, как и прежде, мягко, нежно. При этом, разглаживая мои волосы, напевает мелодию об аисте, спасшем свою подругу.
Но впереди меня ожидали новые потрясения.
На выходные почти всегда и я и Зоя уезжали каждый в своё село. Ей дальше, она пассажирским (в нём мы тогда и встрети-лись), а я – электричкой. Однако на эти субботу и воскресенье я остался в городе. Решил поработать над курсовой. Иду к библиоте-ке. Вдруг на одном из поворотов меня обгоняет и шагов за пять-десят останавливается та самая легковушка. Из неё выходят Зоя и молодой ревизор. От неожиданности я остановился, а затем, придя в себя, поспешил за ними. Когда перед средним подъездом пятиэтажного дома сделали поворот, я, чтобы остаться незамечен-ным, постоял за углом. Потом направился в тот же подъезд. Услышал, как на четвёртом этаже открыли ключом дверь. Только она захлопнулась – по лестнице поднялся туда. На площадке долго стоял, не понимая, чего я тут. А осознав своё положение, убежал.
Дом этот специально не запоминал. Но через два дня безошибочно нашёл его и нажал кнопку звонка именно этой квартиры.
Дверь отворил подвыпивший мужчина в пижаме.
- Я по поводу Зои...
- Проходи. Меня зовут Сашей.
В прихожей я снял туфли, направился в гостинную. Саша-ревизор пригласил угощаться яблоками и вином, что стояли на столе. А сам сыпал словами:
- Зоя говорила, в институте учится её брат. Это ты, я так по-нял. Хорошо, что пришёл познакомиться. Но ты не волнуйся. Не обижу твою сестру. Я, понятно, разведённый, плачу алименты, немного выпиваю, баб люблю. Но не беден. Имею машину с гаражом. Купил недавно эту вот трёхкомнатную квартиру. А мебель какая? Взгляни – польская! Зарплата у меня так себе. Я по части контроля на поездах (слава Богу, моё лицо ещё ни о чём не напом-нило). Но другие сопли жуют, а мне гривни сами в карман скачут... Наша с Зоей свадьба в следующую субботу. Приходи в загс в десять утра. Не проспи! И чтоб был в костюме, при галстуке!..
Я шёл к этому человеку сказать, что не мыслю жизни без Зои. Надеялся, он поймёт, что-то душевное предпримет... Но вот зазвонил телефон, Александр поднял трубку – и вроде не далёкому абоненту, а мне на все вопросы ответ дал:
- Ни на какие уступки не пойду! Зверь я, говоришь? Да, зверь! Жизнь научила зубами выгрызать свой интерес. Умри, но долг в сто долларов верни!..
Пока Александр общался по телефону, я быстро обулся и ушёл от него.
А в четверг в шесть вечера под напором какой-то непонятной жалости к себе оказался у кустов сирени. Цвет с неё давно сошёл, листья пожухли. Подхожу, а Зоя уже сидит на лавочке. В отличие от меня – необычно мирная, свойская. И в глазах такая небесная чистота, такая солнечная ясность – что слова сказать не могу. Целует и рубаху мою расстёгивает. Прежде в платье или в костюме приходила, а это – в халате. И он уже полностью распахнут.
- Обними крепче, - шепчет, - я твоя. Вся твоя. Ты мне цветы дарил, сладостями баловал, в любви объяснялся. Сегодня за всё расплачиваюсь. Бери меня…
Я должен был, но не смог отступиться. Приготовил упрёки, претензии. Но от прикосновений Зои они все будто в землю ушли. Осталось только чувство притяжения и чувство восторга от слияния губ, рук… Я наслаждался счастьем близости с любимой!
Когда пришёл час прощаться, Зоя заплакала. Я ни о чём её не спросил… Мы оба знали, что это последняя наша встреча.
А спустя два дня, то есть вчера в десять утра, я издали наблюдал, как Зою, облачённую в белую фату, Александр привёз к загсу… С той секунды мир для меня исчез. Солнце потухло.
Вот в затмении и пишу эти строки. Я не ревную, не злюсь. Не возникают ни жажда мести, ни стремление уничтожить соперника. А о Зое вообще нет негативных мыслей… Униженная и раздавленная, любовь почему-то продолжает жить во мне. Это святое чувство какими-то тайными узами по-прежнему соединяет меня с Зоей, а также с Богом, со всеми росточками, букашками, зверюшками и людьми. Оно пытается вырвать меня из тёмной бездны, вкрапляя в душу всё новые и новые ощущения. Оно наполняет её потоками сладости и горечи, радости и страдания. Это – очищение и воскресе-ние души, её полёт, стремление прорваться к счастью. Не фантазия это. Это реальность, которая в данный момент живёт во мне. Вот сейчас я всё это чувствую. Философы назвали это квинтэссенцией бытия. Это ни с чем несравнимое возвышенное состояние. В буду-щем, я уверен, люди будут находиться в нём от зрелого возраста до смерти. А ныне оно охватывает их только от мгновения к мгно-вению. В остальное время предаются суете, расчёту, корысти, за-висти и злобе. А я из своего состояния любви выходить не хочу. Чтоб остаться в нем навсегда, выпью вот эти две пилюли яда…”
После прочтения этой исповеди я закрыл глаза – и очень долго не мог разомкнуть веки… Только потом заметил в конверте ещё одну бумажку:
“Игорь не погиб. Спасла его я, Зоя. Я сбежала от Саши прямо перед входом в загс. Моё сердце терзало непонятное чувство, а когда оно прояснилось, я осознала, что иду расписываться с чужим, в то время как родной мне Игорь страдает. В тот же день я села на последнюю электричку и поехала к нему в село. Постучала в дверь его комнаты за час до восхода солнца…”
Далее Зоя сообщает, что они уже два года как муж и жена, имеют годовалого сына. Число суицидов (это её вывод) в стране и в целом в мире растёт в геометрической прогрессии потому, что всё чаще зло, а не добро повелевает людьми. Это её внутреннее зло чуть не погубило любимого человека.
Вот такую историю я узнал из письма, что поступило как отклик на статью “Любовь без поцелуя”, опубликованную в “Днепре вечернем”.
ЛИЦА ЖЕРТВЕННОСТИ
КАК ПОГИБЛА ОЛЯ?..
Во дворе этого дома по проспекту Трубников медово пахнут липы. Между деревьев резвятся дети: играют, смеются... Трудно поверить, что в такой же светлый день здесь, в квартире 84, произошла трагедия, потрясшая весь Никополь.
... Оля была первым ребёнком в семье. Отец и мать учились в одном классе, а став студентами, поженились. Когда окончили, он – мореходку, она – пединститут, с двухгодичной дочерью переехали в Петропавловск на Камчатке. Влажный приморский климат отрицательно повлиял на здоровье ребёнка. Болезни одна за другой поражали неокрепший организм. А от пневмонии, которая сопровождалась сильным отёком лёгких, едва спасли. Мать, Галина Михайловна, днём и ночью не отходила от дочери: делала уколы, меняла компрессы, согревала своим теплом. Позже, когда у Оли появился братик Сергей, девочка как бы обрела откуда-то возникшую силу. Вместе с мамой баюкала его. Любили втроём выходить к берегу. И, всматриваясь в даль, искали глазами те пределы, где на подводной лодке бороздил море отец и муж. Он не переставал быть тревогой семьи. Ведь часто-густо патрульную службу нёс месяцами. И всё это время жена и дети находились в напряжённом ожидании. А потом всей семьёй праздновали его возвращение. Олю он сажал на одно плечо, Серёжу – на второе, и кружил в танце. Был с ним и куръёзный случай. После продолжительных учений все офицеры вернулись в семьи, а его нет. “Что с ним?”- запаниковала жена. “Жив, здоров”, - успокоили сослуживцы. И действительно, через пару недель появляется – краснощёкий, упитанный. Оказалось, за время рейда так поправился, что не смог пролезть в люк, пришлось голодать, сбрасывать вес.
Среди Меньшовых Галина Михайловна была самой собранной и подтянутой. Она что называется на своих плечах держала семью. Учила детей честности, доброте, отзывчивости. Муж называл её “генералом” и во всём подчинялся. Оля под влиянием мамы росла ласковой и безотказной. Имела также врождённое качество – брать вину на себя. Однажды в первом классе на ряде парт исчезли ручки. Сосед указал на Олю. Она не стала возражать. Спросили: “Где спрятала?” Сказала: “За домом”. Тогда отец взял её за руку, повёл за дом. Но там ручек не оказалось.”Где же они?” “А я их не брала”. “Почему же в классе не постояла за се-бя?” “Я не умею перечить...” Но училась на высшие баллы, про-являла трудолюбие в школе и дома. Правда, при сдаче экзаменов в университет не прошла по конкурсу. Окончила профтехучилище, затем кулинарный техникум. Работала по специальности в кафе “Темп” у проходной Южнотрубного завода.
А вот в общении с парнями всегда тушевалась, робела. Понра-вился одноклассник, умирала за ним. Но “зацепить” его не осмелилась.
Хотя имела броскую внешность: смуглое лицо, смоляные волосы и большие как бы светящиеся глаза. К таким привлекатель-ным скромницам обычно липнут те, кто развязен и умеет подчи-нять своей воле. Длительное время не давал ей проходу именно такой прохвост. Когда мать отвадила его от дочери, и та осталась одна, со временем к ней “приклеился” вроде бы искренний человек. Но он оказался неспособным построить семью, взять на себя груз нравственной и материальной ответственности за совместную жизнь.
Тут необходимо заметить, что большую психологическую тра-вму нанёс Оле в этот период отец. Через несколько лет после того, как Меньшовы переехали в Никополь, 44-летний моряк приглянулся 26-летней соседке, имеющей от первого брака ребёнка. Как Галина Михайловна ни напоминала о своей любви, как ни совестила, как ни доказывала, что его легкомыслие приведёт к разрушению судеб детей, он позволил этой даме распоряжаться собой, а затем укатил с ней в Курск. Кстати, жена не устраивала сцен, не прибегала к угрозам сопернице. Зато та приложила максимум усилий, чтоб отлучить его от первой семьи. Он даже не приехал на похороны дочери, не прислал на её поминовение ни копейки.
Как же погибла кроткая, не умеющая противостоять злу Оля?
- Вначале её убили морально. - рассказывает мать. – Дочь держалась, пока работала. Но “Темп” закрыли. Последние три месяца она состояла на учёте в центре занятости. Томилась без дела. Как-то прихожу со смены, я работаю на заводе, а Оля включила касету и в одиночку танцует.
“Что с тобой?” – спрашиваю. «Развлекаюсь». Она была музыкальной, разносторонне развитой. Я с детства следила, чтоб и она и Серёжа читали книги, занимались самообразованием. Но тоска по сверстникам привела её в компанию недостойных людей. Они, словно клещами, схватили её и не отпускали. Грязь всегда ищет чистоту.
Многоэтажки тут так размещены, что внутренний двор имеет форму прямоугольника. С любого окна можно видеть “всех”. Вот и приметил Евгений Олю. Этот парень ещё в ранней юности пристрастился к наркотикам. Мать, чтобы оторвать сына от опия, поспособствовала тому, что его за унесённые из дому и ещё от кое-кого вещи посадили на год в тюрьму. Там он отвык от наркоты, но, возвратясь на свободу, вскоре проворовался по- крупному и попал за решётку на целых четыре года. После отсидки пошёл в приймы к Лиане Ступаненко – женщине на семь лет старше его. Они вместе пьянствовали, проводили время в обществе таких же, как они, собутыльников. Но спустя год поскандалили и разбежались. А тут Евгению как раз подвернулась доверчивая Оля. Он предложил ей руку и сердце. Галина Михайловна всячески отговаривала дочь от каких-либо отношений с этим парнем. Но втёршиеся к ней в доверие новые подружки из его круга пересилили мамины запреты. Они так окрутили Олю своим показным “благоговением”, что та стала сочувствовать их “бедности”. Брала дома продукты и деньги, чтобы “спасти их от голода”. “Представь, мама, у них на столе хлеба нет.”
Зато всегда была водка. Злоупотреблял спиртным и Евгений. Но, уговаривая Олю быть с ним, обещал “завязать”. Она поверила и пошла жить в его семью. Свекрови невеста пришлась по душе. Ещё бы! В комнате сына навела порядок, всё перемыла, пере-стирала. И обеды умела готовить “из ничего”.
Но только две недели пожили вместе Оля и Евгений… Вот выдержки из показаний на суде.
Евгений: “В тот день за Олины расчётные мы купили бутылку водки. Пил, в основном, я. Затем захотелось пойти в гости в соседний подъезд к Геннадию и его сожительнице Ирине. По пути прихватили бутылку спиртного”.
Геннадий: “Мы с Ириной проснулись примерно в восемь часов утра. У нас ночевал мой кум Виталий. В 9.00 послали его за самогоном, так как у всех сильно болела голова. Срочно нужно было опохмелиться, а деньги имел только он”.
Виталий: “Я пошёл в третий корпус к тёте Клаве и приобрёл полтора литра самогона. Когда возвратился к Геннадию, там уже была Лиана Ступаненко. За стол сели все вчетвером”.
Лиана: “Потом мы с Ириной отправились на рынок. Купили ещё литр водки и консервы. Выпили и поели… Примерно в 10.30 я и Ирина пошли продавать вещи… В баре для себя взяли по бокалу пива, а домой принесли водку. Вначале за столом сидели я, Ирина, Геннадий и Виталий. А потом неожиданно в этой квартире 84, где я гостила, появились Евгений с Ольгой…”
Таким образом, застолье свело Олю с бывшей подружкой Ев-гения Лианой Ступаненко, которая во хмелю непредсказуема. Ещё в период сожительства с Евгением она не раз бросалась на него с ножом. Когда же он назвал женой Олю, дважды подстерегала её у подъезда (все обитали в одном и том же дворе) и похвалялась убить. Заявляла об этом и Галине Михайловне, которая в свою очередь, увещевала дочь отступиться от Евгения. Но та сказала: “Я люблю его…” Теперь, встретясь с Олей, Лиана словно взбесилась. Потащила её на кухню и там стала бить. Евгений побежал следом и тут же нанёс обидчице удар кулаком в лицо. “Ах ты предатель!” – вскричала Ступаненко, схватила на столе нож и, свирепея, замах-нулась… В это мгновение Оля, выступив вперёд, заслонила собой Евгения: “Бей лучше меня!.. “ Вот так, человек, привыкший жить по законам милосердия и верности, проявляет эти качества и в экстремальной обстановке. Жертвует собой ради спасения другого.
А он, этот другой, когда начнётся судебное разбирательство, не явится по повестке. Его, главного свидетеля, придётся доставлять в суд под конвоем... Но всё же трагедия, разыгравшаяся по его вине, дала толчок сознанию. Евгений бросил пить, ныне устраивается на завод работать токарем.
...Не уберегла Галина Михайловна дочку. А как отчаянно боролась за неё! Применяла и нежность, и строгость, и хитрость, и материнский авторитет. За помощью обратилась также к Сергею, который после мореходки служит на той же Камчатке на “отцовской” подводной лодке. Уговорила его прислать сестре вызов. Оля уже собирала вещи, чтобы ехать к брату – в город своего детства и ранней юности. Но тут вот встретила Евгения, задержалась.
Суд признал Л.Ступаненко виновной в умышленном убийстве, приговорил к десяти годам лишения свободы... А Оли нет на свете.
ЛИЦА КАТАСТРОФЫ
УДАРЯЮТСЯ О СТЕКЛО
СНЕЖИНКИ…
“Смотрю, как, ударяясь о стекло, раскалываются снежинки… Что-то подобное происходит и с нашими судьбами, Надя… Вчера узнал, что ты угодила в автокатастрофу, лежишь в реанимации…
Да, это пишет тебе одноклассник Женя Коваленко, с которым не виделась шесть лет… Для меня твой образ никак не соединим с бедой. В нашем классе ты была самой весёлой и самой красивой. Ребята, особенно Давид, Алексей, Никита и Гоша, на цыпочках ходили возле тебя. Мне тоже всё чаще хотелось не на доску смотреть, а на твои тугие косы. Сидела спереди, и, когда спиной облокачивалась на мою парту, я изловчался подставить пальцы, ты их прижимала – это и был “момент нашего чувственного общения”.
А в выпускном классе чуть взглянешь в мою сторону – и я уже сгораю. Так было и на новогоднем балу. Не сговариваясь, мы одновременно появились у сверкающей огнями ёлки. Я тут же пригласил тебя танцевать. Попсовая музыка сменялась тяжёлым роком. Обвивая руками талию, я пламенел от того, что мы рядом, что ощущаю твоё дыхание. Казалось: мы – неделимый сосуд, наполненный счастьем, нельзя разбрызгать ни капли.
Ещё виртуознее исполняем сложные па, когда включают альбом песен Джона Леннона “Револьвер”. Поток аккордов как бы сливается с чистыми ручейками мелодии и, омывая душу, образует в ней лучи ласкающих мечтаний. Музыка звучит над сводами танцевального зала, перемещаясь по длинным школьным коридорам к укромным уголкам. Ни я, ни ты не замечаем, как песня “Она сказала, она сказала” поднимает нас на верхний этаж, а затем по лестнице через открытый люк на крышу. Крыша ровная, ограждена барьером. Вроде стоишь среди неба – и ничего не стоит потрогать руками любую звезду.
- Этот миг будет со мной всю жизнь, - сказала ты.
- А со мной – и после жизни…
Я губами коснулся губ. Это было для нас впервые. Не знали как, но постепенно приспособились, и этот первый поцелуй получился нежным и очень слаженным. Я как бы ощутил трепет не только своей, но и твоей души.
Однако с вихревой скоростью откуда-то вынырнула когорта наших одноклассников. Мы стушевались. Шутливо напевая и образуя хоровод, Белла, Нина, Катя и Вера отстранили нас друг от друга. Я остался в их кругу. А Гоша, Никита, Алексей и Давид, используя каскад гимнастических приёмов, приподняли тебя на руках – и вскоре я потерял из виду твоё белое платье.
Вера тем временем набросилась на меня с упрёками: мол, живём в одном доме, вместе учим уроки, почему же не танцуем вдвоём? Меня это разозлило. А так как моим движениям мешало кольцо из восьми женских рук, я разорвал его и убежал от этой назойливой четвёрки. Чтобы никто не помешал искать тебя, купил маску и, одев её, побрёл по коридорам. Вокруг ёлки кружились пары. Мелькнула схожая с твоей фигура. Поспешил за ней – лицо чужое. В фойе тоже полно танцующих. Но ни здесь, ни в столовой, превращённой в банкетный зал, тебя не обнаружил.
Тогда принялся обшаривать “прикольные” уголки и закоулки. На одном из поворотов наткнулся на лестницу. Полез по ней на крышу глотнуть свежего воздуха. Но, едва высунув голову из люка, обмер: на том месте, где целовалась со мной, целуешься с Давидом.
Ноги приклеились к ступеням. Потом отклеились – и я ска-тился вниз… Впоследствии, не помню как, оказался в своём классе. Сижу в темноте за твоей партой, лицо мокрое, но слёз не чувствую. В правой руке обрывок лезвия, а левой сжимаю сонную артерию.
Вдруг распахивается дверь, влетает Вера, включает свет:
- Чего прячешься?..
Замечает слёзы в моих глазах, подходит ближе. Затем садится рядом, шепчет:
- Забудь всех. Целуй меня! – артистично обхватывает мою голову и, притянув к себе, как пиявка, присасывается к губам.
Оттянули её от меня Белла, Нина и Катя, которые появились в классе с бутылкой тридцатиградусного бальзама. Вылакав этот сладкий напиток, мы прилично окосели. Девочки предложили крутить бутылку, и её поворот подкручивали так, что мне пришлось со всеми перецеловаться. А в соседнем классе, как потом выявилось, в эту игру с поцелуями Никита, Алексей, Гоша и Давид вовлекли тебя. Вскорости эти наши две “пятёрки” образовали единую “десятку”. Но мне не дали приблизиться к тебе. Всё время кто-то возникал между нами. Не удалось нам стать рядом и в банкетном зале, когда туда позвали гостей и всех учеников выпускных классов в связи с наступлением часа X. На столе, что достался нашей компании, стояла бутылка шампанского. Мы дружно, как и все остальные, подняли бокалы за Новый год.
С таким же подъёмом все ринулись участвовать в затейливых играх и головоломных элементах тусовки. Никита показал свои знания в музыкальной, Давид – в литературной викторинах. Катя и Гоша лучше всех исполнили “испанский танец”, заимев в награду “чебурашку”.
Своеобразный “приз” получила и ты. Алексей вывел всех нас на улицу. Извлёк из тайника бутыль самогона – и вручил тебе. Ты наливала, а мы пили по очереди из стограммовой рюмки. “Подогретые” возвратились на бал-маскарад, танцевали, кто с кем попало. И тут я заметил, что, следуя почти такой же “очереди”, ребята отзывали тебя в сторону и объяснялись в любви. Потом с каждым ты отправлялась на крышу и там целовалась с ним. Я так определил: все мы тебе приятны и одновременно безразличны. И хотя от такого вывода меня душили слёзы, я не подавал вида. А сообразив, что Вера, Белла, Нина и Катя, как парни к тебе, все льнут ко мне – я тоже настроился на коварство. Уединялся то с одной, то с другой. Их поцелуи не проникали в душу, но лечили от ревности, что съедала меня.
Бал отшумел… После него три дня я не выходил из квартиры: мучили головные боли и неостановимая тоска. Как всё могло случиться? Чего меня так тянуло на этот роковой вечер? Кто-то замыслил круговорот поцелуев или эти “пять и одна”, “пять и один” возникли спонтанно?.. Прежде замечал, что не только я, но и эти четверо одноклассников балдеют от тебя. Но полагал, что они – это одно, а я – совсем другое. Что между мной и то-бой рождается святое чувство, а их ты просто не хочешь обидеть...
Постой! Каждый из парней целовал только тебя, каждая девушка целовала только меня. А я и ты? Пятерых... Значит, зло исходило от нас с тобой? Почему-то так повелось, что в классе нас двоих считали наиболее привлекательными. В обычные дни нам отдавали предпочтение, выказывали знаки внимания. А на новогоднем празднике за нами – что? – устроили интимную охоту? Сговора по-видимому не было, всё происходило стихийно. Но нас грубо оттесняли друг от друга. В ход пускали, это ведь было, и хитрость, и лесть, и нахальство. Хотя видели, что мы влюблены, - всё равно помешали нам быть вместе. Почему?
Это несчастье всех с притягательной внешностью. Колючий терновник, поётся в песне, все обходят стороной, а красну ягоду калины норовит испробовать каждый. Как бы я ни любил, как бы ни лелеял – всё равно тебя у меня отнимут: не сегодня, так завтра. Жена красивая – жена чужая.
И я решил никогда не иметь ничего общего ни с одной из поцелованных, в том числе и с тобой.
После каникул стал грубить всем. Наступая на собственное сердце, ни разу ни по какому поводу не обратился к тебе. Приходил в класс исключительно учиться. Подогнал физику и математику. Если девчонки из числа той четвёрки подстерегали меня у подъезда – отшивал.
...После окончания школы жизнь разбросала нас. Я окончил в нашем городе металлургический техникум. Ты в областном центре – вуз. И вот – авария. Мне сказали, что за рулём был твой муж, ты сидела рядом с ним, а на заднем сиденьи – твоя новая подруга. Супруг задремал – и машина врезалась в столб таким образом, что пострадала только ты. Муж навещает тебя в больнице, но всегда приходит вместе с твоей подругой.
Весть о трагизме твоего положения – как прыжок с долго не рас-крывающимся парашютом... Я наконец-то осознал, что в ту но-вогоднюю ночь вёл себя как хлюпик. Надо было восстать, отстоять нашу любовь, а не поддаваться коллективному легкомыслию. Не ты, а я во всём виновен. Душа это ощущала, поэтому все эти годы продолжала любить. Порой усилием воли я прогонял это чувство, но оно не отступало. Вот до сих пор я не женился. Нет, монахом не стал, поклонниц много, но выбрать не могу... А может, ты их отгоняешь? Очень часто во сне вижу твои встревоженные глаза – и просыпаюсь от чужого голоса, который просит не забывать тебя. Чей это голос? Не твоей ли мамы? Недавно она встретила меня на улице, поклонилась... С любым увечьем, с любым несчастьем готов взять тебя в жёны. Только позови!”
“Женя, верный мой, прости! Только сейчас, прочитав твоё письмо, увидела дно своей бездны. В ту новогоднюю ночь что-то недоброе со мной сталось. Играла царицу сердец… Хотя, может, “тяжёлый рок” подтолкнул к разгулу страстей! Ведь нежного Джона Леннона больше не включали. Крутили буйную, оголяющую нервы музыку. Да плюс выпитый алкоголь. Из “царицы” я превратилась в куклу, с которой, что хотели, то и делали.
Так что отверг ты меня справедливо. Помню, после каникул, пе-редала записку с просьбой встретиться и всё обсудить. Ты, не чи-тая, порвал её. Заставил страдать. Эти муки и сделали из меня человека. Я больше нигде и никогда не вела себя фривольно. Ты на-учил любить и дорожить любовью. Благодаря этой науке я встретила достойного человека, вышла за него замуж, родила дочь. После аварии супруг не отказался от меня. Наоборот, днюет и но-чует в больнице, возвращает меня к жизни. Союз наш крепок. Да-же вот такая неожиданная твоя любовь не поколеблет его. И для меня, и для мужа семья – это всё… А за любовь – спасибо! Она по-может отстояться чувствам, справиться с травмой. Сейчас мыс-ленно повторяю те слова, что сказала тебе в ту ночь, и добавляю к ним новые: “Ты для меня святой – как и наш первый поцелуй… Желаю тебе ещё лучшей, чем я, жены… С Новым годом!”
«Днепр вечерний».
ЛИЦА ДОВЕРЧИВОСТИ
ЛУЧ СВЕТА С ТЬМОЮ СПОРИЛ...
6 октября “Днепр вечерний” сообщил о зверском убийстве 16-летней Марины.
И вот я в селе Приднепровском Никопольского района. Слу-шаю Виктора Дмитриевича Гудыменко. Он стоит перед иконой, при-жав к груди портрет дочери, и, как бы не замечая меня, говорит с ней: “Сорок дней минуло с момента гибели, а мне всё не верится, что тебя больше нет. Утром вышел со двора на улицу – вроде сто-ишь за деревом в коричневой куртке и синих джинсах, что мы с ма-терью купили в Москве к твоему 16-летию. Так и не надела обновку.
Мы возвратились домой поздно вечером. Думали, и ты, и Сергей уже спите. Сын выбегает навстречу.
- А где Марина?
- Уехала в Никополь к подруге на день рождения.
- Но скоро полночь…
Сел в машину и поехал к трассе встречать тебя. Если бы знал, где в городе искать – поспешил бы туда. А так только сердцем был там. Стоял у дороги, что разветвляется в направлении Днепропетровска и Запорожья, и думал о тебе. Три года назад ты окончила в Приднепровском семь классов, регулярно получала почётные грамоты. Видя незаурядные способности, мы, родители, и решили создать условия для их развития. Перевели тебя из сельской школы в городской учебно-воспитательный комплекс “Никопольская средняя специализированная естественно- математическая школа при Днепропетровском госуниверситете”. Ты не имела подготовки по информатике – наняли репетитора. Приобрели для нашего солнышка Маринки персональный компьютер. Отвели для занятий самую просторную в доме комнату: с мебельной стенкой, диван-кроватью, комфортным письменным столом. А как ты обрадовалась иконе, что установили у изголовья! Но не только молитвы, а и твой ум и увлечённость учёбой позволили за два месяца по всем предметам выйти опять на привычные высшие баллы. Эта же настойчивость помогла на городской олимпиаде выбороть второе место по физике. Уверяла, что впереди тебя ждёт большая научная работа. Ради этого заочно обучалась на подготовительных курсах в Московском физико-техническом университете. А мы с матерью гнули спины на огоро-де, выращивали помидоры под плёнкой, возили их в северные края, где можно продать подороже. Копейку к копейке склады-вали. Не ради обогащения, а чтоб дать образование детям. Уже подыскали в Москве жильё для тебя, нашей будущей студентки...
Свет на шоссе! Машина! В ней должна быть ты! Если задержишься в городе, - был уговор с тобой, - бери такси… Но этот “Жигуль” пролетает мимо… А уже светает…
Возвращаюсь домой. Сна нет… К восьми часам подъезжаю в Никополь, к школе. Классный руководитель десятого тоже в тревоге: Марины в классе нет. Твои подружки Таня и Слава едут со мной на улицу Героев Чернобыля, показывают дом и квартиру, где предположительно можешь быть. Стучим в дверь – глухо.
Час торчу возле подъезда… Может, ты уже дома? Еду в Придне-провское – не появлялась. Днём опять отправляюсь в Никополь. Обшариваю кусты в парках Пушкина и Победы. Подъезжаю к тому же обшарпанному подъезду. Смотрю, два парня выносят увесис-тый мешок. А третий стоит с велосипедом. Все трое возятся, кре-пят мешок на багажнике. Наблюдаю за их поспешными движени-ями – а в груди будто иглы покалывают. Отяжелел я весь, в зрачках затуманилось. Отхожу в сторонку, прислоняюсь к тополю… Потом иду за велосипедистом. Но он как-то внезапно исчезает за высотным домом. Возвращаюсь к подъезду, минут десять сижу на лавочке. Веки смежаются – и где-то в глубине своей души, будто во сне, вижу чёрный огонь. И слышу голос вроде с другого мира: “Поднимайся, тебе пора…” Я встрепенулся, и те же слова повторяются в мозгу, как наваждение. Иду к машине. Надо ехать. Куда?.. В ту сторону, куда поехал велосипедист. За переездом на остановке вижу свою старшую сестру Валентину. Она садится ко мне, просит ехать быстрее. Когда миновали мясокомбинат, замечаю: на багажнике трясётся тот объёмный мешок. Обгоняю велосипедиста – и вблизи мусорной свалки глушу мотор.
- Что с тобой? – спрашивает сестра.
- Жуть в голове. Предчувствие…
Когда велосипедист поравнялся со мной, останавливаю его и под нос сую какое-то своё удостоверение:
- Милиция! Что везёшь?!
- Сдохшую собаку на свалку…
Срываю верёвку с мешка, под ним ещё мешок, быстро развязываю – девичья голова с длинными волосами, ты, моя родная неживая Маринка…
После многие говорили: почему не уничтожил на месте того парня?
Не создан, доченька, твой отец для убийств. Родители научили меня обрабатывать землю, растить детей, делиться с людьми, чем можно. Ты тоже переняла от нас трудолюбие и отзывчивость… В тот миг внутренняя боль по тебе парализовала мой мозг.
Я оцепенел… Не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Ничего не вижу. Ослеп и оглох… Люди говорили, очень долго кругами ходил по пустырю… Мужики спустя какое-то время вывели меня из шока. К тому моменту на этом отрезке дороги остановилось несколько десятков машин. Кто-то по мобильнику вызвал милицию. Арестовали парня. Увезли тебя, кровинка моя, в морг.
А спустя несколько дней в местной газете прочитал выводы следователя: “Был допрос, выезд на место происшествия. Мы изъяли предсмертную записку девушки, которая говорила о факте самоубийства. Об этом же говорят и данные экспертов при осмотре тела. Умышленного убийства, вероятнее всего, не было. У парня “железное” алиби. Он не задержан и сейчас находится дома...”
Доченька, мы с матерью не верим, что ты наложила на себя руки. В школах, сельской и городской, тоже никто не верит.
В твоих глазах всегда лучик играл, обласкивая людей. В тот день на твоём лице тоже не было ни озабоченности, ни грусти. Чёткость и ясность в ответах на уроках сочетались с ровностью в поведении. Ты была общительной, весёлой.
Прости! Я виноват перед тобой тем, что не научил распоз-навать зло. Тем, что не уберёг от недобрых людей.
На похоронах я не успел излить всю муку. Проститься с тобой пришло полсела. Для сельчан – ты талант, его оплакивали. Ведь была не только родительской, но и общей надеждой, славой. Твой светлый образ как бы сиял над Приднепровским. Для всех ты как дитя родное. Священник читал молитву – и все мы, твои близкие, твои земляки, мысленно повторяли: “Пусть в небесах живёт душа твоя, Марина”.
Прощаясь со мной, Виктор Дмитриевич передал письмо в редакцию: “В газету меня побудило обратиться чувство тревоги. Вот был ложный сигнал о минировании здания – милиция расследовала, нашла виновных. Почему же по факту смерти моей дочери уголовное дело не открыто?
Я не юрист. Работал шофёром в колхозе. Теперь тоже имею дело с машинами. Но и непрофессиональным глазом видна вина Геннадия Бирлова, что вёз тело моей дочери на свалку. Кто он? Ему девятнадцать с половиной лет. Один занимает трёхкомнатную квартиру в Никополе. Его семнадцатилетний брат Иван тоже часто тут ночует, хотя живёт у бабушки в посёлке Красногригорьевка. Их отец умер, мать перебралась ко второму мужу. В тот вечер, 24 сентября, к Геннадию, по его словам, зашла подруга брата Марина. В 17.30 хозяин ушёл, оставив её одну в своей квартире. А около 20.00, возвратясь, он якобы увидел, что девушка повесилась на шнурке, зацепив его за гвоздь на стене. Почему же Геннадий не вызывает милицию и “скорую помощь”? Почему ещё не совсем остывшее тело торопливо стал запихивать в мешок? Подозрительно и то, что он в деталях всё запомнил: «Сначала я сложил руки на груди и связал их. Потом подогнул колени к груди и провёл верёвку под коленками. После наклонил голову к груди и привязал. (У меня был канат, я распустил его на несколько верёвок)… Марина была в колготках телесного цвета, тёмных носках, светлых трусах и футболке с полосками на груди… Туда же, к Марине, я засунул её вещи: кроссовки, джинсы, куртку. Накрыл их вторым мешком. А затем всё это положил ещё в один мешок. Напихал туда разных тряпок, чтобы не выделялось тело. И завязал этот мешок…” Хладнокровно действовал парень.
А вот с “предсмертной” запиской неувязка. Имея в школьной сумке свои тетради, Марина почему-то воспользовалась не ими и не своей ручкой, а письменными принадлежностями Геннадия. И текст написала с глаголами прошедшего времени (привожу, как есть): “То, что зделала, я зделала по собственой воли”. Вроде умерла, а потом написала. И четыре ошибки в девяти словах. Разве такое могла допустить отличница? А может, кто-то подобрал почерк? Да и слова в тексте: “Искать меня бесполезно” выдают задумку зарыть тело на свалке. Заключительная фраза “Не ваша Марина” тоже абсолютно не естественна для дочери. В записке не указано число, отсутствует роспись, да и не говорится, что решилась на суицид. Эта неточность, неконкретность и безгра-мотность убеждают, что писала записку не Марина. Или писала ее под угрозами.
Утверждать, что над девочкой не было насилия, абсурдно. Ведь все родственники, а затем множество односельчан, что шли за гробом, видели разрыв рта с наложенными в морге скобами. А мы, близкие, свидетельствуем, что, когда обмывали тело, видели еще и синяки на руках и шее.
Факт суицида отвергаю еще и потому, что на том гвозде, что указал Геннадий, человеку Марининого роста повеситься невозможно. Гвоздь расположен над креслом и журнальным столиком на высоте чуть более метра. Иначе, как с поджатыми ногами, на нем не повиснешь. А известно, что при сдавливании горла срабатывает инстинкт самосохранения. Ноги Марины непроизвольно уперлись бы в твердые предметы. А так как шляпка гвоздя еле-еле выступает из стены, шнурок мгновенно слетел бы с него. Под сомнением и то, что такой толщины шнурок, он от школьного рюкзака, можно зацепить за этот маленький гвоздь.
До встречи с Бирловыми судьба Марины была безоблачной. Девочка всего месяц, с 21 августа по 24 сентября, общалась с ними. Парни не могли не видеть, что перед ними необыкновенно одаренная, необыкновенно доверчивая душа. Должны были оберегать ее, лелеять. А они – убили. Почему? Кто они? Какие?
Геннадий после школы не стал приобретать какую-нибудь специальность. В основном, живет на средства матери. Женился, имеет двоих детишек-крошек. А недавно от него забеременела подружка жены, намерена рожать. Но обе женщины опоры в нем не видят. Причина? «Он днем спит, а ночью гуляет», - твердят в один голос. Тогда, упаковав труп в мешок, он тоже с 21.30 до 0.30 сидел в баре, пил пиво, а его напарница – сок. На какие шиши? Не исключено, что на деньги нашей семьи. Уезжая на семь дней с товаром в Москву, мы оставили дочери 120 гривен. 20 она израсходовала. А сто – исчезли. Может, из-за них Марина и лишилась жизни.
Иван тоже недалеко ушёл от брата. Прогуливает занятия в профтехучилище, употребляет спиртное. Это он тогда держал велосипед, на который погрузили мешок с телом Марины. А говорит, что любил её и продолжает любить. Не понимаю! Если бы любил, разве допустил бы её гибель? Разве позволил бы глумиться над останками любимой, вывозить их на свалку?”
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛИСТА. Тревога отца обжигает, требует действий. В то же время отдельные его обвинения пока не подкреплены вещественными доказательствами.
Замечу также, что расследование затягивается не по вине правоохранительних органов. Сложные обстоятельства, нет прямых улик. А те, что могли бы стать свидетелями обвинения, не выявляют себя, предпочитают, как принято говорить, “не связываться”. Вот и выходит, что до тех пор, пока мы равнодушны и безразличны к чужому горю, зло будет торжествовать.
“Днепр вечерний”.
ЛИЦА ЧУТКОСТИ
ТАМ, ГДЕ СЕЛЯТСЯ ЛАСТОЧКИ
Хутор-Чаплине Васильковского района – село как село: разбросанные на десять вёрст хаты, за околицей гул тракторов и ещё… ласточки.
Года три не приходилось бывать в родных местах. И вот опять я любуюсь птичьим базаром. Неожиданно до моего уха долетает лёгкий солнечный смех. Он не заглушает песни ласточек, но почему-то слышу только его.
- Это она, - сообщает сосед Григорий Тихонович Кулик.
Передо мной всплывает образ этой женщины: худощавая, сильная, взгляд суровый, пронзительно-печальный. Даже слабой улыбки на её угрюмом лице мне никогда раньше не приходилось видеть…
Матери она не знает. Помнит только её последние минуты. В тот день родительница возратилась с поля поздним вечером и упала прямо среди хаты на глиняный пол. Пятеро детишек мал мала меньше бросились к ней. Холодной опухшей рукой она погладила каждого по головке и только успела молвить: “Слабых не обижайте…”
В народе говорят: если ребёнок остался без отца – наполовину сирота, если без матери – круглая сирота. А тут целых пятеро. Значит, в пять раз обездоленнее... В довершение ко всему скоро грянула война.
Как стайка напуганных птенцов, сбились дети возле отца. Пётр Иванович, высокий, сутулый, стоял молча, разглядывая карточку, где засняты всей семьёй. Затем спрятал её в карман и стал целовать по старшинству: Веру, Петра, Любу, Ивана, Милю. Держали, голосили, протягивали руки... Так и погиб на войне, больше не увидев детей.
Во время оккупации, спасаясь от голода, старшие разбрелись кто куда. Любе с двумя младшими в четырёх стенах отцовской избы было не легче. Полицаи охотились за молодёжью, угоняли в фашистское рабство. Как спастись? Разрывала зубами тело и засыпала раны солью, надеясь, что гноящиеся места гитлеровцы примут за экзему и не возьмут в Германию. Но и самоистязание не спасло. Схватили, повезли. За себя ещё ничего. Душа болела за Ивана и Милю. Как они там? Ведь в доме не осталось и крошки хлеба... Надо бежать... Бежать?! В Синельниково на глазах народа конвойные до смерти засекли шомполами шестерых маломихайловских девчат, пытавшихся совершить побег. Страх надолго сковал волю. И всё-таки однажды, когда тёмной дождливой ночью пересаживались из одного эшелона в другой, Люба с односельчанкой Килей Помазан шмыгнула под вагон. Бежали глухими степями, держались подальше от населённых пунктов. Домой возвратились вместе с советскими войсками.
После войны Люба всё время работала на ферме: за свиньями ухаживала, за птицей, потом стала дояркой. На трудодни в те годы получали мало. Колхоз был беден, отстающий. Некоторые сетовали: за палочку, мол, вкалываем. Но Люба имела на этот счёт своё мнение. “Я натираю мозоли, - утверждала, - не задаром. Хочу видеть счастливыми наших младших, например, Милю”. Она ясно видела, что только труд, он, единственный, спасёт жизнь от разрушения, нанесённого фашизмом, он, один-единственный, спасёт её от голода. Поэтому и лелеяла бурёнок.
В те годы многие её ровесницы убегали в город. Заявлялись в село в крепдешиновых платьях: “И охота тебе, Любка, в навозе копаться. На заводе с такими золотыми руками ты бы две нормы давала, кучу денег загребала. А тут спасибо никто не скажет. Дура…”
Тяжёлое бремя легло на Любину долю. Не до веселья, не до песен было. О модных одёжках и не мечталось. Прибежит чуть свет на ферму, а там пять коров из двенадцати не поднимаются. Люба – к стогу. Километр расстояние, а ещё метелица так крутит, что шаг ступить трудно. Солома мёрзлая, со снегом. Животные понюхают, возьмут в рот, а жевать не могут – сил нет. Вот как было...
Жизнь брала направление к светлой орбите, а над Любиной нивой плотнее сгущались тучи. После трудового дня село уст-ремлялось навстречу музыке в недавно отремонтированный клуб, а передовая доярка спешила домой. Там её ожидали прикованные к постели муж и старая беспомощная свекровь. Кое-кто шептал на ухо: “Напрасно одела на себя ярмо. Алёшка – крутой человек. От него ушло несколько жён. Да и тебя он не жалует. Стоит ли ради такого губить молодые годы?” В эти минуты Люба вспоминала своё сиротское детство и, ничего не ответив жестоким советчикам, ещё быстрее шагала к своей хате.
Алексея Коротю похоронила. Но события шли своим чередом.
Как-то после дойки возвращалась домой. Глянь, у загона валяется Лёнька. Обложной дождь идёт, холодно, а он прямо в грязи лежит, рубаха разорвана, посинел. В селе все знали этого “неприкаянного”. Лёнька работал в бригаде “Межколхозстроя”, ремонтировал коровник. Он и на целине, и в шахтах, и на разных гэсах бывал. К труду мужик охочий. Но ещё больше пристрастился к спиртному. Что ни заработает – пропьёт. Как и везде, здесь его считали “пропащим”. Прохожие, увидев пьяницу, распластавшегося под забором, с отвращением отворачивались. Хотела и Люба пройти мимо, но не смогла. Ведь гибнет человек!
- Вставай! – закричала.
От громового возгласа он раскрыл глаза. Люба обеими руками подхватила его сзади, силясь поставить на ноги. Пока возилась, собрались зеваки.
- Святая Богородица! – кто-то бросил с издёвкой.
Задрожала вся. Словно густой настой хрена пахнул в ноздри – брызнули слёзы. Люба выпрямилась и обвела толпу глазами – каждый запомнил тот горячий, уничтожающий взгляд. В иной обстановке, может, и не решилась бы на такое. Теперь же… Недолго думая взвалила осевшую, как мешок, фигуру на крепкие бабьи плечи и понесла. Домой.
Когда Лёнька отоспался, заставила помыться, привести себя в порядок. За завтраком не выдержала и высказала накипевшее. Взывала к совести, просила не калечить себя.
- Не подумай, что злая я. Добра желаю. Если хочешь, приходи, живи здесь. Но только пить у меня не будешь.
Мы сидим в чистой, богато обставленной комнате. Леонид рассказывает об этом детально, обстоятельно, ничего не утаивая, как человек, уже давно позади оставивший пропасть.
- Не сразу, - говорит он, - я отвык заливать душу вином. Слишком безвольный был, слишком опустившийся. Сколько Любе пришлось со мной повозиться! Спасибо. Одолела. Она настоящий человек.
Одновременно свершалось и другое великое чудо. Как бы в награду за добро, сделанное ему, Леонид, шутник и весельчак, с каждым днем все больше и больше дарил Любе задора, песен, веселья, озорства. И постепенно расцвела ее душа. Сейчас она как бы переживает свою вторую молодость.
Много горя легло на плечи этой женщины, но она не согнулась. Мужественно несла непосильную ношу. Не озлобилась. Чем тяжелее становилось, тем больше человечности рождалось в ее сердце. И вот жизнь по-хорошему рассудила – дала ей щедрой горстью большое личное счастье.
«Днепровская правда»
18.01.1968.
ЛИЦА МЕСТИ
“ДИКТАТОРСКИЙ СИНДРОМ”
Подсудимый Герасим Григорьевич Герш:
- По утрам Люся спала с завидной продолжительностью. А я поднимался, тащил из кухни в спальню ведро с картошкой, чистил – и украдкой наблюдал, как при вдохе поднимаются её высокие груди и чуть вздрагивают – вроде от мужских прикосновений. Порой нож вгрузал в клубень – и замирал вместе с моим сердцем. Оно наполнялось и радостью и толчками тревоги. Хотелось счастья, и даже имел его – ведь Люся спала со мной, но я знал, что она проснётся, наедимся картошки, которую я поджарю, - и мне надо будет уйти.
Судья:
- И этим же ножом вы убили Белугину?
- Моя память не сохранила этого…
- Может, то были не вы?
- Говорят, я… После полугода сожительства Люся стала уклоняться от интимных встреч. Я ходил как ошпаренный…
- Неужели не понимали, что в свои шестьдесят да ещё после пережитой травмы в забое вы не пара сорокалетней женщине?
На этот и другие вопросы подсудимый отвечал пространно, со многими подробностями. Несколько раз повторял одни и те же сентенции о своих чувствах к погибшей. Сам себе противоречил, путался, ронял слезу. Чтоб передать всё это, понадобилось бы несколько газетных страниц. Поэтому лучше процитирую протокол суда, где сжато зафиксирован смысл основных объяснений Г.Герша.
“Просто так я не мог оставить Люсю. К ней душа прикипела. К детям тоже привык. Старшему сыну готов был переписать свою квартиру, а двенадцатилетняя дочь пусть бы жила с нами. Денег, говорил им, хватит. Получаю хорошую пенсию, а также доплату за травму в горно-обогатительном комбинате. Но Люся стала тайно встречаться с каким-то моложе меня Сергеем. В законном порядке я не мог предъявить требований. Она не жена, не родственница. Но потерять ее было выше моих сил. Чтоб удержать, предлагал расписаться, жить одной семьёй. А она затягивала с ответом, раздваивалась.
В результате и наступило это – до сих пор непонятное для меня шестнадцатое июня.
Накануне того дня целую ночь колотило душу. Ревность ни на минуту не дала сомкнуть глаз. Утром не хотел, но ноги сами понесли на улицу Лермонтова. На звонок отозвался сын, сказал, чтоб я уходил и больше не приходил. Дверь мне так и не открыли. Решил, что с Люсей в квартире другой мужчина. Возвратился домой, надел выходной костюм и снова подался к её дому. Сел за столик напротив подъезда в ожидании. Вижу, на балконе снимает со шворок бельё. Обрадовался. “Люся, - говорю, - одевайся, пойдём получать деньги.” Она отказалась, попросила, чтобы больше не тревожил. Я отправился в ГОК, получил 136 гривен компенсации. Попутно завернул на базар, купил продукты и водку, чтоб было чем угостить. Но на сей раз Люси не застал. Соседи сообщили, что вся семья ушла куда-то на целый день.
В моей квартире имелся запас спиртного, потянуло выпить. Но под вечер опомнился. Принялся готовить ужин. Затем всё съестное, а это была картошка с рыбой, переложил в две металли-ческие миски. Прихватил в пол-литровой банке и самогон. Всё это нёс в сумке – через плечо. Долго сидел за тем же столиком напротив Люсиных окон. Выпил почти весь самогон. Потом мне показалось, вроде там наверху включили телевизор. Поднимаюсь на второй этаж. Стучу – никто не откликается. Толкаю дверь. Замок у них слабый. Дверь приоткрылась, но осталась держаться на цепочке. Появилась Люся. Я спросил: “Почему ты опять с этим Сергеем?” Она ответила резко и велела убираться. Я развер-нулся и пошёл вниз. Спускаясь по лестнице, подумал: кормлю всех, ничего для них не жалею – и мне уходить? Дрожь прошла по телу, почувствовал нервное возбуждение. Решил возвратиться, высказать обиду. Когда на этот раз толкнул дверь – цепочка сло-малась. Вхожу в коридор, свет выключен. А в кухне – горит. Там беру нож с пластмассовой ручкой – тот, которым всегда картошку чистил… А навстречу из комнаты, не торопясь, выходит Люся, обнимает, целует. Я тоже обхватил её, прижал к себе. А через время ощущаю, как весом своим расцепляет мои руки, сползает вниз, кровь на полу вижу… Я в испуге убежал, а после меня арестовали и говорят, что это я убил её…”
“Кухонным ножом, - зафиксировал судмедэксперт, - нанесён удар в сердце. Причинена колото-резаная рана левой боковой поверхности грудной клетки с повреждением левого лёгкого и аорты, после чего последовала острая кровопотеря и наступила смерть”.
К 11 годам и 6 месяцам тюремного заключения засудили Г.Герша. Приговор объективный, основан на вещественных доказательствах, показаниях свидетелей. А вот Герасим Григорьевич так и остался “в неведении”: не помнит он, не помнит – и всё! – факт убийства. Именно этот “провал в сознании” помогает ему, как ни странно, быть “отстранённым от преступления”, пребывать в заблуждении, что это не он сам, а другие отобрали у него Люсю. Г.Герш по-прежнему вспоминает её – как самое лучшее, что было в его жизни. И эта “грёза” укрепилась на фоне полной вменяемости.
Парадокс? Да. Выходит, для Герасима Григорьевича свои чувства “ценнее” чужой жизни? Его отвергли, взбурлили эмоции – и он дал им волю, то есть в порыве ревности убил любимую женщину. Пролил человеческую кровь, осиротил двоих детей. А теперь должен бы раскаяться, сказать себе: “Я – мразь, подонок, изувер!” Но вместо этого он укрыл своё мироощущение от угрызения совести за ширмой: “Не помню”. Мало того, эту ширму использует не только для сохранения душевного покоя, но и для “мечты о Люсе”, возводя до чего-то божественного свои эротические иллюзии…
Воистину пути любви и злодейств неисповедимы.
Комментарий психиатра В.Мареева:
- Для объяснения поведения Г.Герша я бы ввел понятие “диктаторский синдром”. Известно, что Гитлер издал и “сразу же забыл” указ, по которому были отравлены в газовых камерах миллионы ни в чём не повинных людей. Сталин плакал, тоскуя по старым друзьям, которых лишили жизни по его же воле. А разве Пиночет дожил бы до своих лет, если бы мучился воспоминаниями о своих жертвах?..
У таких людей в мозгу очень быстро “стирается” то, что способ-но возродить неприятные переживания. Это их защитная реакция. Она как автомат срабатывает у всех, кто отличается властолюбием, жестокостью и всякого рода “дьявольской” одержимостью.
“Днепровская правда”.
ЛИЦА КЛЯТВЫ
ДВА ПАВЛА
Что такое верность? В ней, как и в любви, «тысячи аспектов, и в каждом из них свой свет, своя печаль, своё счастье и своё благоухание» (К.Паустовский). Для моего поколения примером верности являются наши матери, которые четыре года ожидали мужей с войны, при этом на своих плечах держали семьи, детей и всё государство. Ныне глобальные катаклизмы отсутствуют. И всё же жизнь ежеминутно испытывает каждого на моральную твёрдость, а его чувства – на прочность. И хорошо, когда в человеке, как сказал Анатоль Франс, «заложена вечная, возвышающая его потребность любить».
К таким людям я бы отнёс и Софию Качур. Об этой молодой доярке мне довелось когда-то писать. Тогда речь шла о её трудо-любии, высоких достижениях. Но было в её миловидном лице что-то особенно трогательное… И вот ныне получаю от неё письмо. Уже несколько дней оно не даёт мне покоя.
«С Павлушей Качуром, - пишет София, - я повстречалась ещё в подростковом возрасте. В столовой нашего интерната для сирот за мой столик посадили новичка. Его вихрастую – под цвет сметаны – чуприну я приняла за парик, не удержалась и прыснула. В это же мгновение из глаз парня закапали слёзы. «Чего ты?..» - спрашиваю. «Один остался. Отец, мать, младшая сестра и весь наш дом сгорели в пожаре…» Я, пристыженная, обняла и поцеловала Павлика в щёку.
С того нашего первого обеда мы и стали друзьями. В его внешности было что-то такое, что взглянешь - и смеяться хочется. А душа к нему тянулась всерьез, чувствуя и его ранимость, и неподдельную отзывчивость. В день моего пятнадцатилетия он прямо-таки удивил тем, что преподнес подарки из золота: крестик и цепочку к нему, часы и браслет. Себе точь-в-точь такие же купил. «Откуда деньги?» - испугалась я. «От родителей мне остался «Москвич». Так что в какой-то мере я был бедным автомобилистом, а теперь, продав машину, стал богатым пешеходом».
Только Качур мог вот так легче легкого превращать жизнь в шутку. Но эта легкость не пугала. Его распахнутость, готовность все, что имеет, отдать мне, все больше привлекали. А как-то во время праздника, когда Паша танцевал со мной гопак, и я увидела, как играют его мышцы, какой он искрометный и неудержимый – в мою душу вошло понимание общей судьбы.
Я первой поцеловала его, первой объяснилась в любви. Он был на седьмом небе от счастья и сознался, что не выражал своих чувств только из-за боязни отказа.
После интерната мы вместе поступили в сельхозучилище. Получили дипломы. Он – механизатора широкого профиля, я – мастера машинного доения. Подписали направление в одно хозяйство. За лето заработали приличную сумму и в сентябре решили сыграть свадьбу.
Как сейчас, вижу тот день. Солнечный, безветренный. На Пав-лике голубая шведка и синие брюки, я – в белой фате. В сельсовете быстро зарегистрировали брак. Идем к дому, который нам, молодо-женам, подарило сельхозпредприятие. Садимся за длинный, сбитый из досок стол, установленный под ветвистыми грушами. Поздра-вить нас пришло до полсотни доярок и механизаторов. Под воз-гласы «За любовь! За счастье!» пьем шампанское. И вдруг лицо Павла искажается от резкой головной боли. Недавно врачи сделали ему проколы гайморовых полостей, почти сразу же выписали на работу… Вчера он вспахал трактором огромное поле. Заверял, что здоров… Выходит, не так? Даю выпить болеутоляющие таблетки – не помогают. Задаем вопросы, он пытается отвечать, но не может. Вызвали «скорую помощь». Диагноз нешуточный: менингит – воспаление оболочки мозга. Необходима срочная операция. «Скорая» мчится в Днепропетровскую областную клинику. Врачи реанимационного отделения самоотверженно борютсся за его жизнь. Но спасти любимого не удалось…
Так внезапно, сразу после замужества, я стала вдовой. Бродила по селу, как потерянная. Подойду к дому, а навстречу будто Паша выбегает: высокий, стройный. Однако не в комнаты приглашает, а к речному берегу, где вместе загорали летом. Следую за ним и жалуюсь: «Чего не поцелуешь меня?..» Он прикасается губами – и я начинаю понимать, что все происходит в моем воображении…
Однажды под вечер задремала на его могиле. Снится, идем густым лесом, постепенно приближаясь к болоту. Качур берет меня на руки, поднимает над головой и, ступая по кочкам, несет. Но шаг за шагом его ноги погружаются в трясину… Уже и меня она затягивает. В отчаянии поднимаю руки вверх и ощущаю шершавые ладони подруги по ферме Анны. То она, реальная женщина, сжимает мне пальцы, рывком поднимает с земли, а затем отводит домой.
Два года я жила в унынии и скорби. Лечила душу слезами и работой. Буренки, словно чувствуя мою боль, смотрели на меня влажными, сочувствующими глазами. А я, в свою очередь, кормила их с любовью, выдаивала до последней капли молока. Получилось так, что моя группа вышла на первое место по ферме. Мне выдали премию. Как ее израсходовать? Поставила надгробие мужу.
А вскоре Анна, чтобы я развеялась, позвала меня к себе на именины. На пороге встречал гостей ее брат – широкоплечий мужчина с русыми волосами. Я уже знала, что он приехал с Северного Кавказа, там потерял жену, остался один с годовалой дочерью. Его тихий голос как-то сразу тронул душу, а черные, как терен, глаза обласкивали невидимым пьянящим туманом. Он помог мне снять пальто, разуться. Его услужливость и внимание напоминали покойного мужа. Благодаря его обаянию с первых минут застолья меня охватило неведомое прежде волнение. А когда стали ближе знакомиться, и я узнала, что у него фамилия Лебедь, а имя – Павел… возникло чувство, что вновь ко мне возвратился Павлуша, только в ином образе.
Спустя месяц кавказец вошел в мой дом в качестве супруга. Печаль постепенно отступала, в комнатах впервые после похорон Качура зазвенел мой смех. У меня, приметили девчата, засияли глаза. Теперь и на ферме, и в магазине (он один на всю Дубровку) я становилась объектом внимания молодых мужчин. Мне рассказывали анекдоты, выражали симпатию. Людей радовало, что я избавляюсь от сурового, замкнутого вида.
Но, как и прежде, в тайне от всех, в том числе и от второго мужа, я часто приходила на могилу первого. Разговаривала с по-койным, советовалась с ним. Это ведь он настоял, чтобы не уби-валась по нему, устраивала свою жизнь. Вот я и вышла замуж за Лебедя. Мы зажили с ним душа в душу. Его дочь Катя мне стала родной. Вот только забеременеть я никак не могла. Хотела, очень хотела, почти всегда настраивалась на зачатие, но в ответственный момент в наш интим как бы вторгался Качур – и происходила осечка. В этом я мужу не сознавалась. Как и в том, что мне по-прежнему снится детдомовское прошлое, наши первые с Качуром поцелуи. Да и боялась я сама себе сознаться, что в моем сердце невероятным образом уживаются две любви: к живому и к умершему.
Лебедь, кажется чувствовал эту мою раздвоенность и становил-ся все более ласковым по отношению ко мне. А в постели свою страсть дополнял сладчайшей нежностью. Порой я как бы растворялась в нем, становилась частицей его тела. В одну из таких ночей я и забеременела. Когда муж узнал об этом, он был вне себя от радости.
Однако возникли новые обстоятельства. Катя, моя падчерица, подросла, и в детской среде кто-то настойчиво стал ей внушать, что у нее нет мамы. Я утирала ей слезы, успокаивала… А Павел, услышав эту неприятную новость, сказал: «Катя не должна знасть, что ты ей неродная… Надо уезжать из Дубровки».
Вскоре муж побывал у своего брата на Северном Кавказе, решил вопрос с жильем, с работой. Я со всем соглашалась. Но когда приблизился день переезда, мое сердце вдруг запротестовало.
Пошла на могилу к Качуру. Поцеловала выбитый на мраморе профиль – и так горько стало, словно вновь его хороню… Не в силах расстаться. Невмоготу оставить этот клочок земли, где спит вечным сном бедный Павлик. У него, кроме меня, никого в мире нет. Кто по воскресеньям будет приходить сюда, поправлять холмик, поливать уже поднявшуюся в рост вишенку? Зарастет бурьяном это место… Еще в интернате и Качур, и я поклялись оставаться вместе и живыми, и мертвыми. Я ведь тоже не имею родни. Мать произвела на свет и сбежала из роддома. Как это унизительно – оказаться брошенным ! Сколько нас, обездоленных! Но не только в этом причина. Она глубже. Качур врос в мое сердце. Без такого вот общения с ним мне не жить. Скорее зарою себя рядом, чем уеду из села. Даже встрепенувшееся под сердцем дитя не уведет меня от этого холмика… Пусть муж и его дочь уезжают, а я останусь в Дубровке».
Вот такое письмо я получил от Софии. Она не просит совета. Она уведомляет о своем решении.
«Днепр вечерний».
ЛИЦА ПЕСНИ
СОСЕДКА ЗИНАИДА ЗДОРОВЕЦ
- Зинаида Здоровец облила себя кислотой. Говорят от несча-стной любви.
- Значит, допелась…
- Да, “скорая” увезла ее в шоковом состоянии.
- А жить будет?
- Неизвестно.
Слухи, похожие на сплетни, ползли по хутору Чаплиному Васильковского района. Как участливый сосед, в тот же день я поспешил в больницу. В палате вся в бинтах лежала девушка. Глаза закрывала повязка. Я сбивчиво рассказал, что сельчане переживают за неё, желают скорейшего выздоровления.
… И вот спустя сорок лет в родном селе на подворье брата Степана сидим за столом. Выпили по рюмочке. И Зина Богач вдруг запела.
Песня на миг вернула нас в молодость. А вскоре мы услышали рассказ, похожий на исповедь.
- В той кислоте, - сказала Зина, - песня не виновата. Я с шести лет пела, а в школе уже со второго класса солировала. Мой голос привлёк и заведующую сельским клубом. Это Валентина Николаевна Таращук взяла меня за руку и вывела вначале на сельскую, затем районную, а после – областную и республиканскую сцены.
Парни прохода не давали. Но я выбрала одного. К свадьбе готовилась… Неожиданно пригласили на прослушивание в Днепропетровское училище имени Глинки, а затем без экзаменов зачислили в класс вокала. Пришёл вызов. Я с ним – к жениху. А тот: “Не отпущу! Мне жена нужна, а не артистка”. Пошла к заведующему фермой, где работала после школы. И он туда же: “Кто заменит тебя возле телят? Не даю разрешения на увольнение!” Вот в таких расстроенных чувствах принялась я смачивать телятам лишай кислотой. Сама не знаю, как всё произошло. То ли телок взбрыкнул, то ли ещё что-то… Опомнилась от жжения, похожего на огонь.
В больнице пролежала два месяца. В зеркало перестала смотреться. Песней рыдала и песней утешалась. О парнях забыла думать. Выучилась на швею, поступила работать в цех Васильковского райбыткомбината. Записалась в самодеятельность.
Однажды после исполнения песни меня пригласил на вальс какой-то юноша. После ожога мои брови и ресницы выпали, волосы над лбом не росли, левый глаз не открывался, на щеках краснели пятна от шрамов… Он, говорит, за песни меня полюбил. Я отказывалась встречаться. Попросила хозяйку, у которой квартировала, убрать лавочку, где он просиживал вечерами, в надежде, что выйду к нему. Тогда ночью Анатолий привёз на самосвале и вывалил напротив моих окон неподъёмный камень – и уже на нём продолжал дожидаться.
- Ты видный, красивый. Имеешь солидную должность инженера-строителя. Разве я тебе пара? – говорила ему.
Но он не отступался. Однажды явился с паспортом к директору комбината, объяснил ситуацию. Меня вызвали “на ковёр” и отправили с ним в загс.
На нашей свадьбе играл дворцовый оркестр, пели все мои из самодеятельности. Через год родилась Лиля. Потом Наташа. Та ласка и чувства, что дарил мне муж, лечили лучше массажей и кремов. Постепенно обрели норму мышцы глаз – стали свободно открываться веки. Исчезли пятна на лице. А брови и ресницы выросли ещё гуще, чем были. Я летала на крыльях! Готовлю обед – разучиваю песню. А вечером пою её мужу и детям.
Когда девочки подросли, опять начала на репетиции в ДК ходить. Однажды муж приревновал и поставил вопрос ребром: “Или я, или песня”. Я выбрала песню. Он подумал и сказал: “Пой!” Так с ним и с песней прожила все эти годы. О том случае с кислотой вспомнила, когда дочки достигли “мятежного” возраста. Лиля окончила музыкальное отделение пединститута, Наташа – педагогическое училище. Уже и пару внучат имею.
Я благодарна судьбе, что соединила меня с Анатолием Богачем. Он не только не отнял у меня песню, но и сочинил мне много стихов. Томик его поэзии часто держу в руках. За 15 лет работы главным архитектором района он значительно упорядочил застройку Васильковки и сёл. Любовью к жизни, духовным горением помог моей душе воспрянуть.
… Я заметил, что все по-доброму завидуют Зине. На сцене Васильковского Дворца культуры за сорок лет спела более двух тысяч песен. Стала лауреатом многих конкурсов, имеет стопку дипломов и грамот. Мечтает вместе с композитором Александром Безуглым записать лучшие произведения на диск. А больше всего её радует, что и пятилетняя внучка Настя уже поёт.
“Днепр вечерний”.
ЛИЦА ПОХОТИ
ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
Как он боготворил меня! Такой всепрощающей любви не знала ни одна из женщин! А на золотой свадьбе – не ожидала – сорвался и погиб.
…Силия Страдамского впервые увидела в поезде, что вез молодежь на Целину. Мы с подружкой Алей завербовались туда на работу на два года. Едва состав отъехал от Днепропетровска – в наше купе заваливают три парня. Самый рослый и самый симпатичный по имени Виктор, вижу, соседится ко мне. Играем в карты, а он все подмигивает и юморные словечки подбрасывает. Вечером на верхней полке закутываюсь в одеяло, чтобы уснуть. А он протягивает волосатые руки, стягивает меня оттуда и ложит на нижнюю. Не успеваю возмутиться и даже слово произнести, как оказываюсь под ним. Немного повсхлипывала, а потом даже обрадовалась, что такой видный мужик попался. Второй парень, звали его Павел, выбрал Алю. Остался без пары один Силий, как после выяснилось, – младший брат Виктора.
На месте, то есть на Целине, всех пятерых определили на работу в скотоводческом хозяйстве. Поселили нас в деревянном домике на колесах. Женщин от мужчин отделяла ширма. Однако Виктор (он устроился шофером на новеньком ГАЗоне) вскоре нашел девку побойчее меня и перебрался к ней. Я три дня ходила с мокрыми глазами. Силий, как мог, успокаивал. Его слова утешения поначалу раздражали. Но когда объяснил, что влюбился в меня с первого раза, как увидел, что ночами плохо спал, страдал от ревности к брату, рыдал – мне вдруг стало весело. Я обняла его, поцеловала – и потащила в свою кровать. А уже через пару недель он выдвинул условие, чтобы в нашем окружении мы называли друг друга мужем и женой.
Это не понравилось Павлу. Однажды, улучив момент, когда Аля и Силий работали, он нырнул под мое одеяло. Я не сопротивля-лась. До этого в родном Никополе у меня было два ухажера. С од-ним свиданничала до десяти вечера, с другим – до двенадцати. О моем любвеобилии не знал ни тот, ни другой. Когда же тайное стало явным, соперники затеяли драку и потребовали, чтобы выбрала одного из них. «Пошли вы оба к дьяволу!» – заявила им. Но они продолжали преследовать меня и продолжали драться. Это и вынуди-ло меня смыться на Целину. Теперь, понимая, что плохое не должно повториться,я шепнула Павлу: «Не выдавай меня Страдамскому. Будем тайными любовниками». Ему эта роль понравилась. При любой возможности мы уединялись и давали волю похоти.
Однако обделенная партнером Аля стала приглядываться к нам – и в конце концов застала нас на горячем. Я упрашивала подругу не сообщать об этом Силию. Но в порыве ревности она выложила ему все как есть. Зыркнув в мои глаза, Силий убедился, что грех был. Однако истолковал все по-своему. Выскочил на улицу, схватил изгибистую палку, вернулся в вагончик и набросился на Павла. Тот защищался. Потом перешел в наступление. Он выше ростом Силия, мощнее его. Ему удалось переломить палку и выбросить из домика. Однако злость, что кипела в душе Страдамского, удесятерила его силы. Он схватил соперника за горло – и задушил бы его. Мы с Алей еле растянули мужиков. Но все равно Силий вышвырнул Павла из помещения, вдогонку покидал и все его вещи. Але ничего не оставалось, как побежать следом.
А едва оборвался мой роман с Павлом, как на ферму, где я работала дояркой, прислали подвозить сено чеченца Ахмета. При встречах он как бы ввинчивался в меня черными зрачками. Но близко не подходил. Сдерживал себя. На родине у него остались жена и трое детей. Уяснив, что его вера не разрешает измен, я как-то вечером сама схватила его за ноги и завалила на кучу сена, что он складывал в тамбуре коровника. Ахмет в первое мгновение оттолкнул меня. А после – кровь-то горячая, кавказская – как вепрь, набросился, сорвал с меня одежду – часа три я горела в его объятиях. В следующие разы был таким же ненасытным.
Но мои вечерние задержки в коровнике насторожили Страдам-ского. Он работал в кузне молотобойцем, уставал. Но все равно спешил ко мне на ферму, люто посматривал на Ахмета, который вертелся подле моего стойла. Так что мне довелось перевести любовника на «дневной режим». Благо, тамбур с сеном изнутри надежно закрывался и прятал нас от любопытных глаз. Но однажды Силий в свой выходной заявился на ферму в дневное время и засек нас. Избил чеченца, как зверька какого-то. Тот пытался защититься вилами. Но Страдамский перехватил железку – и скрутил вилы, как какую-то игрушку. Ахмет месяц провалялся в больнице. Потом принялся выслеживать Силия, чтобы отомстить. Видя, что это к хорошему не приведет, я уговорила «мужа» документально оформить наши супружеские отношения – и мы тут же уехали в Алтайский край к его отцу.
Признаюсь: Силием с первого дня наших интимных связей я дорожила. Он невысокого роста, грудь плоская, ноги кривые. Но его страсть ко мне, его руки, похожие на клещи, доводили мое тело до белого каления. С другими мужиками тоже было сладко, но с ним – особенно сладко.
Отец Силия без особой радости встретил сына. А меня, невест-ку, не знал куда усадить. Мне улыбался, угождал. Хвалился, что прошел не только «войну и медные трубы, а и женский плен». В Германии более десятка баб родили от него. Немки, мол, некрасивые, но «сами лезут под брюки». Ко мне же под юбку он первый полез. Его вторая жена (мать Виктора и Силия семь лет назад умерла) в это время находилась в роддоме. «Я и дня не мо-гу без женщины», – жаловался этот сорокасемилетний кобель. Но в постели он был никакой. А требовал своего. Уже и жена – красивая, всего на семь лет старше меня – вернулась из роддома, а он продолжал «прыгать в гречку», то есть ко мне в постель.
Вскоре я обрюхатела. Не пойму: то ли от отца, то ли от сы-на? Возникло ощущение, что я – живая рыба на сковородке. Ес-ли муж проведает о моей «спайке» с его родителем – не миновать трагедии. Оба – резкие, жестокие. Такие дерутся не на жизнь, а на смерть. Что будет? Один погибнет, а другого в тюрьму посадят? Такая перспектива мне не нужна… Скрыв от мужа свою беремен-ность, я уговорила его уехать в Украину к моим родителям.
И вот мы в Никополе. Страдамский пошел работать токарем (эту специальность освоил на Алтае) на металлургический завод. Меня приняли посудомойкой в одну из городских столовых. Там подходит ко мне директор Глеб Аронович и спрашивает:
– Есть у тебя мечта?
– Есть, – отвечаю. – Хочу дорасти до шеф-повара.
– В таком случае после смены зайди ко мне в кабинет.
Захожу. Он закрывает дверь на ключ. Угощает шампанским. И в открытую говорит:
– Тебе, аппетитной даме, в кино бы сниматься. От одного прикосновения, – проводит рукой по моей попе, – воскресаю телом. Станешь любовницей – все для тебя сделаю.
Пузатый, потливый. Но не оттолкнула. Я вообще не могу мужчинам отказывать. А после привыкла к нему. Интеллигентный, нежный, стихи в постели читает тонким детским голосом. Слушаю – и слеза из глаз капает.
Тем временем у меня родился сын. Крупный получился карапуз. Сосет молоко, как насосом. Но все равно в сиськах еще остается, сцеживаю до литра в сутки. Жалко выливать. Незаметно в кашу манную добавляю, мужу подсовываю. Ест. А потом приучила свежее утром натощак выпивать. Как родила сына, Силий под роддомом на сырой земле уснул, простудился. Теперь от моего молока на поправку пошел. Настояла также, чтобы в санатории подлечился.
В тот день, как Страдамский уехал в Крым, случайно сталки-ваюсь с Николаем, доцелинным ухажером. Коляску с младенцем завожу в тень каштана, а там на лавочке с ребенком на руках сидит он. Выходит, недалеко друг от друга живем. Обнялись, вспомнили прошлое.
– Почему, – допытывается, – укатила на Целину, не оставив адреса?
Он, оказывается, целый год следы мои искал. Исколесил Казахстан, Восточную Сибирь и Алтай. А потом, тоскуя, женился на первой встречной.
– Я готов, – заявил, – хоть сейчас бросить семью и сойтись с тобой.
– Детей, – совестю, – сиротить не имеем права. Давай тайно встречаться.
Мы составили детальное расписание наших свиданий. Однако по возвращении Силия из санатория возникло много барьеров. И тогда Николай придумал простой выход. На футбольном матче подсел к Страдамскому (тот тоже болельщик), познакомился и пригласил к себе в гости. Выпитый самогон сблизил их. Уже неделю спустя они организовали для семей совместную вылазку на природу. С того раза почти все выходные в том же составе проводим в зоне отдыха. Силий любит плавать, он всегда с детьми на воде. Жена Николая возле нас. Она полна подозрений. Но фактов нет: сидим, беседуем. А едва отойдет – жмем друг другу руки, обмениваемся страстными взглядами, а главное – определяем время и место предстоящей интимной близости. Обычно это происходит в доме его мамы или у меня в квартире (Глеб Аронович уже выбил для моей семьи отдельное жилье, а также перевел меня в помощники повара).
То есть я изменяла на два фронта: трахалась и с директором столовой, и с Николаем.
Спайка семьями треснула только спустя девять лет. Николай допустил глупость, соврав жене, что стал импотентом. Та, естест-венно, не поверила. Ее подозрения усилились. Когда я с сыном поехала отдыхать в Скадовск, а Николай отбыл в санаторий под Киевом, эта ревнивица пошла к Силию и высказала предполо-жение, что Николай разыграл отвлекающий маневр, что на самом деле он уже подле меня в Скадовске. Страдамский взял отгул на заводе и, приехав к морю, застал нас с Николаем загорающими на пляже. Меня не тронул, а любовника избил до потери сознания. В конце предупредил: «Увижу возле Глаши – убью!»
Николай струсил, отступился. Увидела его только через несколько лет… в гробу. В пятьдесят он заболел раком легких и сильно страдал. Жена, позвав меня на похороны, надрывно рыдала, я тоже плакала. На это обратил внимание высокий мужчина с копной седых волос. Он подошел к нам, чтобы утешить. И что же? Я узнала в нем Анатолия, второго моего доцелинного ухажера, который никак не мог поделить меня с Николаем.
Прямо с кладбища я пошла к нему на квартиру. Он два раза был женат, теперь живет один. Мы помянули Николая, под дейст-вием алкоголя как-то исподволь воскресли чувства, потянуло в постель. Целовались и… плакали.
И вот в день нашей с Силием золотой свадьбы Анатолий (я не приглашала его) завалился в мой дом с огромным букетом белых роз. Вручив цветы моему мужу, с вызовом произнес:
– Поздравляю! Восхищаюсь! 50 лет любить одну женщину – это подвиг! Ты достоин самых высоких наград и зависти!
– Из какой Вы организации? – поинтересовался Страдамский.
– Я сам по себе. И любовник твоей жены. Седьмой по счету (Анатолию я все о себе рассказывала).
– Как?! – переспросил Силий.
– Я – седьмой бойфренд твоей жены. Это значит, что во время твоей с Глашей супружеской жизни у нее до меня было шесть хахалей. Это не так много. Иные бабы за такую длительную полосу жизни имеют значительно больше любовников. А есть даже суки, которые убегают от мужей. Радуйся, Силий, что Глафира не ушла от тебя, что родила тебе сына и дочь!
Все, кто слышал этот диалог, посчитали его розыгрышем, праздничным шоу. Только Силий воспринял слова Анатолия всерьез. Его лицо покрылось синими пятнами, глаза налились кровью. Схватив со стола кухонный нож, он закричал:
– На колени! За клевету вымаливай у моей жены прощение!
Ощутив звериную решимость Страдамского, Анатолий упал передо мной на пол. Но не успел выдавить из груди слово «прости», как Силий пошатнулся, резко потянул на себя скатерть, со стола посыпались рюмки, тарелки – и он, бездыханный, распластался на этом свадебном изобилии.
…Только над могилой Силия я поняла, что он для меня значил, что только одного его по–настоящему уважала и любила… Анатолия же изгнала из сердца навсегда. С Аронычем изредка встречаюсь. Он ведь продвигал меня по службе, обеспечил солидную пенсию. Не скрою: завела еще и молодого хахаля. Мне уже 70, но не могу без мужчин.
ЛИЦА ОШИБОК
УКРАДЕННАЯ НЕВЕСТА
Указав на парня, что невдалеке в одиночку играл в шахма¬ты (за себя и за соперника), Алла в шутку произнесла:
- Этот будет твоим мужем.
- Нет, я дождусь Виталия, - так же с улыбкой ответила я. - «Этот» не идет с ним ни в какое сравнение.
Мы с подругой покупались и пошли переодеваться в заросли лозняка.
- Смотри, - не унималась Алла. – «Шахматист» продолжает зыркать в нашу сторону. Кусты-то малость просвечиваются.
- Его притягивает твоя классная фигура. Клянусь!
- А когда оденемся, на первое место выйдет твоя смазли¬вая мордашка с раскосыми глазами...
Подруга оказалась провидицей. Не успели собрать вещи, как парень смешал фигуры на доске, на скорую руку надел шорты и зашагал рядом с нами. Диалог вела Алла. Но на перекрестке, где наши с подружкой пути расходились, Андрей, так звали парня, остался со мной. Мы не спеша пошли тенистой улицей в сторону моего дома. Я узнала, что в городе он недавно, поступил работать на завод, живет в общежитии.
В голубых глазах Андрея раз за разом «ловила» свое отра¬жение в виде облачка. Эта «зеркальность» да детская беззащит¬ность юноши и побудили согласиться на вечернее свидание.
Вечером он с таким же смущением посматривал на меня. В кафе «Пристань» с мальчишеской угодливостью угостил шоколадом и шампанским. Когда сели за столик и пенистое вино заиграло в бокале - из моих глаз незвано брызнули слезы... Это было то самое место, где два лета тому я праздновала «день любви» с ... Виталием.
То знакомство сравнимо разве что с молнией. Тогда мы с Аллой, предприняв каскад уловок, проникли на тусовку в самый престижный в нашем городе институт. Стали, как обычно, у стен¬ки. Вдруг ко мне направляется статный юноша в изысканном кос¬тюме, приглашает на танец - и я сразу же из золушки превра¬щаюсь в принцессу. Ибо по глазам соседок мгновенно улавли¬ваю: он здесь - лучший. А юноша прилип, как репей, приглашает танец за танцем, расспрашивает, кто я... Не созна¬юсь, что из многодетной семьи, что работаю маляром. Выдаю се¬бя за студентку соседнего вуза. Голос дрожит, мое вспыхнувшее лицо каким-то неразгаданным образом притягательно воздействует на партнера: он предлагает провести меня домой. По дороге просит друга заняться Аллой, а сам шаг за шагом целует мои волосы, восхищенно говорит о любви с первого взгляда... Я росла в бедной среде, ходила в обносках. Во дворе меня дразнили «цыганчой». Долго была низкорослой, угловатой... А теперь этот «инопланетянин» чуть ли не богиню увидел во мне... Отдалась я ему в первый же вечер.
Последовали встречи одна горячее другой. Дошло до того, что раз за разом ночевала в комнате, которую для него сни¬мали родители. А он - выпускник: получил диплом - и согласно контракту уехал в далекий восточный город. Обещал обустроиться - и сразу же приехать за мной. Но минуло без малого два го¬да - а суженого все нет.
От этих сладко-горьких воспоминаний и полились в шампанское слезы. От их неожиданного наплыва мало реагировала на слова и жесты Андрея, который произносил почти такие же фра-зы, как Виталий. Только с каким-то напевным акцентом.
На следующий день на причале взяли на прокат лодку. Анд¬рей работает веслами под стать моряку. Но в отличие от Виталия, который, помню, на такой лодке вел себя непринужденно и из¬ловчался целовать меня, этот скован и чрезмерно деликатен. Тогда Виталий на корму положил брюки, и мы их где-то на во¬де потеряли. Потом в ближнем магазине я за свои деньги купи¬ла ему новые... А этот... даже не разделся.
На шестой вечер после знакомства сидим возле нашего дома на лавочке. Андрей смотрит мне в глаза и говорит:
- Давай завтра подадим заявление в загс.
- Так я же совсем не знаю тебя.
- Для этого будет месяц испытательного срока.
Намеревалась возразить, но губы почему-то потянулись к его губам... Это был наш первый поцелуй. В возбужденном состоянии не сдержалась, сквозь слезы рассказала все о Виталии. Андрей утешал, поклялся, что никогда не изменит и не предаст.
И вот 20 августа пришли во Дворец торжественных событий. На мне белая фата. Андрей в черном костюме. Также по-праздничному одеты друзья и родственники. На изготове обручальные кольца. Заказано шампанское и гулянье в банкетном зале. Вот-вот откроется дверь - и нас пригласят в комнату регистрации брака. Но за секунду до этого, всего за секунду слышу голос Виталия:
- Остановитесь!!!
Он взбегает по устеленной ковром лестнице к нам на второй этаж. Весь красный от напряжения. Никого ни о чем не спраши-вая, сильный и дерзкий, поднимает меня на руках и уно¬сит. У подъезда сажает в машину - и увозит прямиком в свой город.
От радости не знаю, как себя вести. Водитель за рулем. А мы наслаждаемся в объятиях друг друга.
Но уже в вестибюле дома гостиничного типа, где завод арен¬дует жилье для Виталия, меня ощупали цепкие женские взгляды. А одна из дам с издевкой бросила в мой адрес:
- Она хоть знает, что такое минет?
Вскоре от Виталия я «все узнала». Как он переменился! Его нынешняя увлеченность «нетрадиционными» постельными прие-мами удивила, вызвав грустное чувство неприятия. Но чтобы не возник конфликт, я старалась во всем угождать. И что выходило? Чем больше уступала, тем настойчивее требовал полного подчине-ния. Во многих частях тела возникали болевые ощущения. Говорила об этом, просила уняться. Но он не обращал внимания на мои моль¬бы. Часто интимная близость переходила в насилие. Он наслаж¬дался - а я мучилась.
В эти жуткие моменты невольно думала об Андрее, который был предельно нежным. Правда, близость у нас была всего лишь на последней неделе испытательного срока. Я ведь тянула время, так как не была уверена, что выйду за него замуж. Но в постели - на удивление - он проявил себя очень сдержанным и очень сильным мужчиной. Угадал мои природные особенности. На¬зывал Ритонькой, чередуя имя со словами «цветочек», «розочка». А у Виталия появился какой-то вульгарный сленг, да еще с рифмованными пошлостями.
От его нахальства и грубости забываю, что я человек. По¬дойду к гардеробу, нажму кнопку - нужная полка выдвигается. Также «по щучьему велению» распахиваются шторы на окнах. Дыхну на маленький индикатор - входная дверь открывается. С выдумкой, как мечтал в пору наших давних встреч, оборудовал свою квар¬тиру Виталий, инженер цеха новых технологий. Но я задыхаюсь среди этого модерного сервиса. Одолевает тоска по душевному комфорту. Его нет. Нет даже прежней открытости. Как-то взяла билеты в театр. А он: «Не могу пойти. Сегодня у меня ночное дежурство в цехе». Когда собрал вещи, чтобы идти «на дежурс¬тво», я, благодаря квартирной автоматике, бесшумно вышла сле¬дом - и своим глазам не поверила. Он в нашем же доме поднял¬ся этажом выше и под стать «невидимке»... исчез вроде как между стенами... Выходит, и там двери открываются «одним ды¬ханием»?
Утром возвратился уставшим, лег спать на целый день - бла¬го, была суббота. Скандала я не подняла. Промолчала и на сле¬дующий выходной, когда, четче проследив за Виталием, убедилась, что «дверь с автоматикой» принадлежит той особе, которая в день моего здешнего появления бросила ядовитую реплику.
Зачем, спрашивается, Виталий выкрадал меня? Чтоб досадить той развращенной даме?
Получая письма от Аллы, все больше стала осознавать свою вину перед Андреем. После несостоявшейся свадьбы он едва не покончил с собой. Его спасали в больнице. Позор и унижение, что я обрушила на парня, привели к нервному срыву. Алла, как могла, утешала его. После двух месяцев лечения в неврологичес¬ком отделении ему стало лучше. Подруга созналась, что еще тог¬да, на «диком» пляже, он ей очень понравился. А теперь, когда попал в беду, пробудилось глубокое чувство сострадания. Но ее любовь Андрей отверг. Сказал, что ему нужна только я.
Это сообщение как бы взорвало мою душу. Я три дня про¬плакала. Отсутствие должного контакта с Виталием, его измены заставили воспринимать Андрея как утерянное счастье. Особенно рвалась к нему чувствами в те ночные часы, когда оставалась одна в квартире и точно знала, с какой очередной пассией (их у него оказалось несколько) спит в это время мой муж, а вер¬нее, сожитель, ведь мы до сих пор не расписаны. В одну из таких ночей я написала Андрею покаянное письмо, попросила прощения. Утром понесла на почту, но не успела вбросить в ящик - мне вручили заказное письмо от Аллы.
Вот уже несколько дней читаю его и перечитываю. Весть та¬-кая, что убивает наповал. Подруга вышла за Андрея замуж. Она от него без ума. Правда, он согласился зарегистрировать брак то-лько потому, что забеременела от него. Кроме того объявил, что в его сердце и сейчас и навсегда останется Рита, то есть я. Алле хочется вытеснить меня оттуда. Поэтому просит укре¬пить их семейные узы подробным описанием нашего с Виталием счастья.
А я разве счастлива? Муж низвел меня до положения слу¬жанки. Хотя продолжаю работать маляром да и ещё учусь на вечер¬нем отделении вуза. Прибавилась ко всему и беременность: шест¬надцать недель - зафиксировал гинеколог. Но смогу ли выносить ребенка, если жить не хочется? Да и какая из меня мать, ког¬да не знаю, что со мной будет завтра? А главное: что мне делать с новым щемящим чувством, которое постепенно подступало к сердцу, а теперь овладело им полностью? Я противилась этому чувству, отгоняла его. Но оно сильнее меня. Оно велит любить Андрея, а не Виталия.
Комментарий Галины Назаровны, матери Риты:
- Я с мужем вырастила пятерых дочерей. Четверо из них по¬строили крепкие семьи. А вот Рите не повезло с мужем. Мой совет ей: стерпится-слюбится, но топтать себя не позволяй. Как видно из ее исповеди, она сама себя наказала. У всех, кто ошибается с выбором, такая судьба: жить с одним, а душой рваться к другому.
г. Никополь
ЛИЦА КРИЗИСА
СОДЕРЖАНКА
«Я, Виталий, виновата перед тобой. Изображала недотрогу, не по¬зволяла поцеловать себя даже накануне свадьбы. И в то же время три го¬да занималась сексом с пожилым мужчиной, который на 12 лет старше моего отца.
Осуждай, по всем правилам осуждай! Только не отчуждайся. Прочти это письмо до конца - и лишь тогда суди меня.
Содержанкой твоя Оксана стала не по тяготению души, не по объяв¬лению или по рекомендации. С Никифором Николаевичем я познако¬милась не при романтических, а скорее, при трагических обстоятель¬ствах.
Я только что сдала в институте зимнюю сессию, а тут телег-рамма отца: «Платить за учебу больше не в состоянии, ферма не дает прибыли, мы разорены...» От того известия, как вот и сейчас, я пришла в отчаяние. Потянуло к реке. Взошла на мост. Нет, не собиралась кидаться в ледяной поток, кончать с собой. Просто слезы ручьями текли по щекам.
И вдруг вижу: через перила перелезает мужчина. В этот миг зажглись фонари, и по движению его тела отчетливо уловила: человек решился на самое страшное. Я подбежала к нему, схватила за рукав кожанки... Он оборачивает ко мне лицо, красное с просинью - видимо от мороза и от подскочившего давления.
- Кто вы? - спрашивает.
- Наше общежитие тут рядом. Случайно вышла...
- А чего заплаканная?..
Я стала бессистемно, путаясь, излагать свои проблемы. Мое заика¬ние, что возникло в той ситуации, подействовало на него раздражающе. Он воспринял его как насмешку, неожиданно поменялся в лице - и влепил мне пощечину. Этот удар вывел из транса не только меня, но и его. Печать самоубийцы, что присут-ствовала в облике мужчины, как бы потускнела, уступила место печати жалкого человечка. Он зарыдал, выбрался из-за перил на мост - и упал передо мной на колени, умоляя выслушать.
Он, средней руки торговец недвижимостью, из кожи лез, чтоб обес¬печить семью. Сына и дочь выучил, снабдил жильем. Жена тоже ни в чем не нуждалась. Он так ее обожал, что все удачные сделки мысленно обозначал теми нежными именами, что давал ей в постели. И вот, неделю назад узнал, что супруга давно любит другого, спит с ним. И даже теперь, уличенная в измене, выдвинула ультиматум: или все остается по-прежне¬му, или она уходит к любовнику. Тиски этого капкана и раздавили Никифора Николаевича (так назвался мужчина).
- Если Вам нужны деньги, то у меня нет ни копейки, - сказала я. - Помните, говорила: нечем платить за учебу?
- Я имею средства, - буркнул он, успокаиваясь, - обеспечу Вас по первому классу. Но если не побрезгуете мной.
- Как это понимать?
- Мне, как воздух, необходимо женское утешение. В бардель не пойду. Это не поможет. Моя душа жаждет тепла, сочувствия. Только что Вы удержали меня от прыжка в небытие. Смерть спотыкнулась о Вас, на мгновение остановилась. Но она не отступилась, будет преследовать, по¬ка не растопчет...
- А что мне надо сделать, чтобы помешать этому?
- Пообещайте, что завтра встретимся на этом же месте в это же время. Пообещайте, что пойдете со мной на квартиру, которую я вам подарю, и не откажитесь и впредь меня там принимать. Мне много не надо: один день в неделю... Вы сможете быть со мной как с мужчиной: на кухне, у телевизора, в постели?
Я заглянула ему в глаза. Там было столько отчаяния, столько мольбы и столько глубинной надежды - что я онемела в растерянности. Он произ¬носил будничные, в чем-то циничные, расчетливые, наглые слова... Но его большие синие глаза кипели страданием. Его измятый вид, мягкие черты лица неотвратимо притягивали. И я произнесла:
- Согласна...
Сейчас сожалею, что душу свою заклала. Но тогда, все анали-зируя и оценивая, я восприняла свое сближение с Никифором Николаевичем как удачу. В моем сердце никто не царствовал. Тебя, Виталий, еще и на горизонте не предвиделось. А те ровес-ники, с которыми общалась в сту¬денческой группе, изучающей маркетинг, все без исключения искали пути личного обогащения. Словом, атмосфера подтолкнула меня на путь со¬держанки.
Хотя тут было и что-то другое. Я, Виталий, обязана быть до конца откровенной. Никифор Николаевич воспринял все не так, как я. Он бого¬творил меня, нежил, обцеловывал все мое тело. Иногда мне грезилось, что я самая счастливая женщина на земле.
- Ты юная, прекрасная, - любил повторять он, - ввергла меня в нево¬образимую бездну чувств. И во сне и наяву моя душа с тобой. Ты, спасшая мне жизнь, спасла и мою любовь. Ты вернула мне моего бога - бога сладо¬страстия.
На мое двадцатидвухлетие Никифор Николаевич даже сочинил сти¬хотворение. Он действительно после первой нашей интимной близости переоформил на мое имя однокомнатную квартиру - из числа тех, что перепродавал. Регулярно вносил деньги за коммунальные услуги, а за мою учебу всегда платил на год вперед. Кроме того, в первых числах каждого месяца приносил мне на хозяйственные расходы сто долларов. Он продолжал находиться с женой под одной крышей только ради детей и внуков, для которых оба сохраняли видимость нормальных супружес¬ких отношений. Если бы я пожелала - без промедления оформил бы с ней развод и сочетался в браке со мной.
Но на этот шаг я не решилась. Наши встречи проходили по воскре¬сеньям с 12 до 20 часов. Мы ели, пили, играли в карты, иногда прилипали к телику, который он мне подарил вместе с мебелью. Но чаще дурачились и занимались сексом. Отвращения к нему не испытывала. Но вот женой представить себя не могла. Я стыдилась появляться с ним на людях, ведь разница в возрасте 33 года.
Тебе же, Виталий, - не забыл? - сходу согласилась стать суженой. Потому что и по расчету и по чувствам поставила тебя на первое место. Помнишь нашу первую встречу на студенческой тусовке? Ты находился в окружении девушек, шутил, смеялся. Когда же пригласила на дамский танец - вел меня неуверенно, сбивался с ритма. Но твоя неуклюжесть ни¬чуть не смутила - я как бы по приказу свыше утонула в твоих глазах. Ка¬рие с поволокой, они мгновенно погрузили душу в сладостный туман. Я боялась тебя потерять, поэтому прибегла к хитрости: попросила провести домой - «в связи с недомоганием».
Этот маленький обман, поверь, тут же искупила горячим чувством к тебе. Оно звало привести тебя в мою однокомнатку, соблазнить на той же кровати... Остановил рассудок. Он подсказал, что все погублю, если буду податливой и нескрытной. Вот я и повела себя подчеркнуто строго, не позволила никакого интима, хотя желала близости. Впервые в жизни я как бы расцвела, наполнилась таким ароматом ощущений, что стала во снах садить сад, лелеять цветы и даже летать.
Но взлет оборвался, я - в подземелье. Завтра должна быть свадьба, а тебя рядом нет. Куда исчез? О чем размышляешь? О нашей с Никифором Николаевичем связи?..
Не отрицаю: перед тобой как бы встала стена. Но ты, ты-то уже не младенец! Неужели отступишься от меня лишь потому, что узнал обо всем. Я не хотела, я всячески сопротивлялась тому, чтобы открыть тебе эту тайну. Но Никифор Николаевич не выдержал, рассказал. Он прямо-таки вынудил меня согласиться на вашу встречу.
У нас с ним давно наметились противоречия. Когда обнару-жил, что бегаю с тобой на тусовки, что ты, как и я, на последнем курсе, только не нашего, а соседнего вуза, - он одобрил мой вы-бор. Рекомендовал дружить, а перед госэкзаменами - расписаться. Обещал обоих нас устроить на ра¬боту в приличную фирму. В качестве свадебного подарка собирался пре¬поднести новую иномарку. Но все это при условии, что я и после заму¬жества раз в неделю буду принимать его.
Вот в этом трения и возникли. Когда я никого не любила, то по-сво¬ему утешалась с ним. А ныне, общаясь с тобой, видя какой ты молодой, красивый, и как он проигрывает в сравнении с тобой, хотя имеет импо¬зантный вид, - я сразу же после твоего предложения пожениться отказа¬лась с ним спать. Видишь, поступила, как велели чувства.
Но в тот же день Никифор Николаевич стал доказывать, что в тебе ошиблась, что ты меня не любишь, женишься только потому, что имею квартиру. Он предложил вот такую проверку: полное информирование тебя о моих с ним отношениях. Если после этого ты не откажешься от меня, он останется покровителем, будет опекать, как родных детей.
Теперь тебе известно все... И от него имеешь сообщения, и это мое письмо сегодня передали. Выбирай... Хотя лично я уже сожалею, что по¬зволила Никифору Николаевичу обсуждать с тобой сложившиеся обсто¬ятельства. Мужчины и на шлюхах женятся, если не знают об изменах, а вот «знание» убивает их чувства. Постарайся возвыситься над этим «муж¬ским заклятием».
Прошу простить меня, сохранить нашу любовь. Повернись лицом и к Никифору Николаевичу. Тогда он подсобит нам материально. Ведь тебе и мне учиться еще полгода. Где взять деньги? Мои родители не имеют их. Твои, знаю, тоже еле концы с концами сводят.
Но учти: его деньги могу принять только в сочетании с твоей любовью. Если они тебе поперек горла, я готова все бросить: институт, квар¬тиру, нажитую обстановку. Махнем куда-нибудь в сельскую местность, будем на земле работать, с голоду не помрем. В паре с тобой я и в аду жить согласна.
А вот без тебя я задыхаюсь... Роковой ты для меня. Однажды, рас¬сматривая твои глаза, ощутила, что вся как бы вмещаюсь в их глубине. Тогда же что-то невидимое сжало грудь, спрессовывая мукой и стра¬данием. Эта боль осталась до сего дня. А теперь к ней добавился страх потерять тебя. Он - безжалостный диктатор. Завтра, знаю, по его приказу одену фату и поеду в загс к 11 часам - к тому самому времени, что месяц назад было определено нам для регистрации брака. Сниму пальто и буду ждать тебя в фойе. Если до 12 не явишься - пойду в церковь, помолюсь, а затем со свадебным букетом потопаю к реке. Взберусь на мой любимый мост, и в том месте, где три года назад уберегла от смерти Никифора Николаевича - брошусь в гибельную воду... Сейчас такая же зима, такой же холод - и на улице и на душе.
Хотя есть капелька надежды, что ты опередишь события и своим теплом отогреешь мне сердце. Ведь я же не падшая? Привязанность к Никифору Николаевичу дана была судьбой. С его стороны вспыхнула любовь. С моей - жалость и выгода. Считай, что эти три года мы жили с ним в гражданском браке. Да и ты, 27-летний мужчина, уверена, такое длительное время не был один...
Прошлое не должно губить будущее!..
Приходи в ЗАГС, Виталий! Или - прости и прощай!»
Это письмо мне передал для публикации Виталий - с разрешения Оксаны. Она, по его словам, пыталась наложить на себя руки, но помешал Никифор Николаевич. Он спас ее, а сам затем принял непомерную дозу какого-то «лекарства» - и не проснулся. В его предсмертной записке всего несколько слов: «Любви, о которой мечтал, - не было, нет и быть не мо¬жет».
Сейчас Виталий и Оксана - как чужие. Они надеются, что данная публикация позволит им увидеть все как бы со стороны - и спасти... Лю¬бовь. Я же в этом не уверен. А вы?
ЛИЦА ИЗМЕН
МЕЖДУ ДВУХ СОСЕН
Судьба Владимира Петровича – это судьба близкого мне человека. Когда я с семьей переселился в Никополь, он был первым из коллег, кто обеспечил мне чувство локтя, познакомил с хорошими людьми. В его гибели есть и моя вина. Мы регулярно встречались. Он изливал душу, я все знал о его отношениях с любовницей и женой. Но никаких советов не давал. Мне не хватило ума предотвратить трагедию. Единственное, что я сделал, – это записал на диктофон его откровения. Привожу их в хронологическом порядке.
ЗАПИСЬ ПЕРВАЯ
«Только мы с Марлен заплыли дальше наших партнеров, как она, приблизив губы к моему уху, зашептала:
– Володя, давай смоемся в заросли камыша.
– А партнеры? Не возмутятся?
– Значит, тебе нравится Тамара Родионовна?
– Что ты! Женщин старше себя не воспринимаю!
– Но учти, сегодня эта «изергиль» изнасилует тебя.
– Не шути так.
– Разве не она пригласила тебя на работу в нашу фирму?
– Ну и что?
– А то, что она – жена хозяина. Эта Тома глаз на тебя положила. А директор фирмы Николай Андреевич на меня глаз положил. Думаешь, они случайно привезли нас в зону отдыха да еще и в рабочее время?..
Как и договорились, мы с Марлен после купания вместе побежали переодеваться в камыши. Спайку имитировали ради того, чтобы показать партнерам, что «задуманное» ими не осуществится. Но в камышах все обернулось по-другому. Марлен сбросила купальник и, обнаженная, застыла, играя глазами. Затем без слов делает шаг на сближение. Я уважил: слегка обнял. Но Марлен мгновенно всем телом прильнула к моему телу – и зажгла его. Я поднял ее на руки и понес к копне сена, что находилась поблизости. Насытившись, хотел остановить наш наплыв похоти, но Марлен продолжала целовать, трогать губами мой пенис. В процессе повторного совокупления было ощущение, что не я вхожу в нее, а она входит в меня.
Из зарослей вышли поодиночке, с интервалом во времени, с разных сторон. Тамара Родионовна и Николай Андреевич сделали вид, что им безразлично наше «блуждание». В действительности оба кипели гневом. Его мы ощутили уже на следующий день. Тамара Родионовна (она заведует моим отделом) загрузила меня непомерной работой, требовала делать все «быстро и толково». А Николай Андреевич третировал Марлен, указывая ей, корректору, на ошибки, которые сам же допустил. В целом в коллективе усилилось нервное напряжение. Все шушукались о нашем «неприличном» поведении. А сидевший в моем кабинете коллега назвал меня лохом, мол, что я нашел в лягушачьего вида женщине?
ЗАПИСЬ ВТОРАЯ
Дома (не ожидал, но это произошло) тоже неприятности. Обычно после «прыжков в гречку» (не часто, но это случалось) мой организм как бы обновлялся, влечение к жене усиливалось. А на сей раз эти позывы полностью исчезли. Да и София вела себя так, будто знала об измене. Всматриваясь в мое лицо, она с какой-то внутренней издевкой изрекла:
– Заездили тебя на новой работе. Почернел весь…
Я кивнул в знак согласия. Но отсутствие мужской силы по-вергло в шок. В отличие от Марлен – София видная, статная. Глаза – два солнца. Мы выбрали друг друга еще в школе. Хлопцы завидовали мне, считали ее лучшей в классе. После того как я окончил военное училище, а София медвуз, мы поженились и поехали туда, куда меня послали. Жили в казарме, испытывали лишения. Но жена не роптала. Родила мне сына Максима, затем дочь Валю. После взбредшего мне в голову ухода из армии и пе-реезда в Никополь стойко терпела неустроенность быта. Три года квартировали, где придется. Только прошлым летом приобрели (деньгами помогли родители Софии) четырехкомнатную квартиру. Ласковые глаза жены лечили от хандры, укрощали мой мятежный нрав. Ее преданность и уступки во всем создавали радостную ат-мосферу. Налицо было родство противоположностей и глубинное притяжение душ. Вот и сегодня, прижав ее к себе, я как бы осветился, обрел духовный простор… Почему же не воскресает жажда обладания женой?
Эти спрятанные в моем теле «затемнения» в последующие дни хорошо прояснила Марлен. Как коза, быстрая, грубоватая, она до начала работы заскакивала в мой кабинет, впивалась губами в губы, в каждый лоскуток открытого тела. В постели (во время обеденного перерыва мы бежали к ней домой) бесилась, как кошка. Ложилась то на спину, то на меня, то вскакивала и кричала, обкручиваясь вокруг, как змея. Я изнемогал от ее почти садистской сексуальности.
В коллективе продолжали сплетничать о нашем интиме. Все сотрудники отгородились от нас, даже на приветствия не отвечали. А бухгалтер Мария Герасовна без стука открывала дверь моего кабинета и, увидев, как мы целуемся, с презрением бросала: «Не превращайте высокоморальное учреждение в дом терпимости!» Вскоре она, вычислив, когда ко мне на работу зашла жена, остановила ее в коридоре и во всеуслышание заявила:
– Вы знаете, что у нас вытворяет Ваш муж?
– Понятия не имею.
– Любовницу завел. При всех тискаются, ни стыда, ни совести.
София своим изящным видом показала, что сплетен не воспринимает. Молча прошла в мой кабинет, передала мне просьбу нашей дочери пойти в школу на родительское собрание и удалилась.
Но вечером дома проявила характер. Когда после ужина я зашел к ней в спальню и попытался обнять, резко оттолкнула:
– У меня от твоих рук – мурашки по коже. Такое ощущение, что в чем-то испачкался.
– Посмотри: я – чистый.
– Вижу. Но подсознанием ощущаю, что сегодня тебя целовало несколько женщин.
– Не было этого.
– Но одна-то была?
– Это выдумки.
– Хотела бы в это верить. Но, зная тебя столько лет, по малейшему движению глаз угадываю, что темнишь.
Улучив момент, я силком обнял жену. В ответ она с размаху ударила меня по щеке.
– Клянусь! – вскричал я. – Как полюбил тебя в юности, так и люблю до сих пор!
– Это ты сказал правду. Но твои измены все перечеркивают.
София выпроводила меня из своей спальни и закрыла дверь на внутреннюю защелку.
Ее неприязнь ранила. Но я понимал, что этот отпор мной заслужен. Умел грешить – умей и каяться.
ЗАПИСЬ ТРЕТЬЯ
Утром за квартал до офиса нашей фирмы откуда-то выпорхнула Марлен и с такой жадной нежностью поцеловала, что я «завелся с полуоборота». В обед, хотя и зарекался не идти, снова пошел к ней на квартиру. Правда, в постели ловил себя на мысли, что, если бы вчера жена не отказала в близости, сегодня я бы удержался от измены. А с другой стороны отмечал, что София для меня желаннее, роднее. Что я – подонок, похотливая тварь. Что сам себя обкрадываю.
После работы с чувством вины иду к жене в больницу (там она заведует лабораторией). У входа лицом к лицу сталкиваюсь с терапевтом Леонидом Михайловичем. Пожав мне руку, тот неожиданно учиняет допрос:
– Почему обижаешь Софию?
– У нас все хорошо.
– Не юли. Сегодня я видел, как она плакала. Ты опять завел любовницу?
– Это наговор! – отрезал я и почувствовал, как к сердцу подбирается ревность. – Следи за своей супругой!
– Я холостяк.
– Значит, вообще ничего не смыслишь в семейной жизни!..
Войдя в лабораторию, я с возмущением передал Софии разговор с ее «защитником».
– Леонид Михайлович, – иронично улыбнулась жена, – имеет полное право вмешиваться в наши с тобой отношения.
– На каком основании?
– Он – мой поклонник. Бросишь – подберет.
Шутливый тон жены подействовал угнетающе. Ведь я люблю ее и не допускаю, что кто-то может стать между нами. Она, меж-ду тем, делает вид, что мое самолюбие не задето. Переводит разго-вор на детей. Сообщает, что Максим вчера получил высший балл по двум предметам – и просит купить ему спортивный костюм для тренажерного зала. Валя, восьмиклассница, в свою очередь, хо-чет туфли на высокой платформе. Но в семейной кассе денег нет.
– У Леонида Михайловича, – с прежней игривостью про-должает жена, – есть сбережения. Он готов занять.
– Это нам не подходит, – возразил я. – Через шесть дней я получу аванс и куплю детям все необходимое.
По дороге домой София взяла меня под руку, шутила, смеялась. Но после ужина опять закрылась в спальне. Правда, перед этим ласково попросила:
– Не наседай. Еще пару дней – и твой яд рассосется в моем теле.
ЗАПИСЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Утром, встретясь со мной в офисе, Марлен объявила:
– Я ушла от мужа.
– Напрасно.
– Колючий он. Я не в состоянии выносить его придирки. Мария Герасовна каждый день звонит ему и ябедничает о нас с тобой.
– Но мы же «завязали»?
– А бухгалтер до сих пор «развязывает».
– Плюнь на сплетни.
– Да. Это мелочи. Я в отчаянии по другому поводу. С мужем не достигаю оргазма. Мое тело без твоего увядает.
– Но я женат. Семью бросать не собираюсь.
– Знаю, давай трахаться хоть иногда…
Мне еле удалось уговорить Марлен вернуться к мужу. Но взамен довелось возобновить близость с ней.
Это сразу же усекла Мария Герасовна. Она не преминула сообщить мужу Марлен, что его супруга в обеденный перерыв в домашней постели «снова кувыркается с любовником». Затем бухгалтер, желая угодить Николаю Андреевичу, о своем доносе объявила на профсоюзном собрании. Шеф обрадовался, полагая, что «корректор откорректирует» свою позицию в коллективе и станет изменять мужу не со мной, а с ним.
Но этого не произошло. Мы с Марлен в парке нашли в кустистом месте лавочку – и на ней стали заниматься любовными играми. Удобств, понятно, никаких. Ссылаясь на это, я снова предложил оборвать встречи. Но она истолковала все по-своему и не позволила увильнуть от интима. Сыграло роль и то, что София по-прежнему не подпускала меня к себе. А моя мужская плоть требовала своего. Вот я и продолжаю «левачить», не соображая, что втаптываю в грязь собственную душу – душу, которая любит Софию.
ЗАПИСЬ ПЯТАЯ
Не ожидал такого. Прихожу домой, а на кухне сидит Леонид Михайлович и угощается чаем. При моем появлении гость заскрипел стулом. Но София, поглаживая его плечи, ласково успокоила:
– У меня муж не ревнивый. Доедай, Леня, шоколадку, не торопись. А ты, – жена обратилась ко мне, – садись, борщ поешь. Я специально приготовила к твоему приходу.
Мне ничего не оставалось, как молча взять мою любимую ложку и припасть к тарелке. Конечно, можно было отказаться от еды, хлопнуть дверью и уйти. Но оставить Софию наедине с этим прилипчивым толстяком было выше моих сил. Огонь ревности уже бил под дых, парализуя мысли. Даже на пятках я ощутил какое-то жжение – они чесались.
После того, как Леонид Михайлович откланялся, я спросил жену:
– Что, этот «пузырь» уже спит с тобой?
– А какое тебе до этого дело?
– Ты вроде бы моя жена.
– Действительно, «вроде бы». А фактически ты в свои супруги уже произвел Марлен.
– Я давно вычеркнул ее из своей жизни. Хочешь, уволюсь. Поступлю работать в другое место.
– А что это изменит?
– У тебя не будет повода приписывать мне измену.
– Сегодня одна из моих сотрудниц видела тебя в парке с ней. Вы среди бела дня трахались на лавочке.
Я невольно поперхнулся, долго не мог откашляться. София говорила правду – убийственную для меня правду. Но ее светящиеся глаза, ее красивые груди, ее нежная шея, ее благород-ная, близкая сердцу суть так дороги стали, так тревожили сознание, что я задохнулся от страха потерять ее. Я должен предотвратить разрыв. Я обязан опровергать только что произнесенные ею слова.
– Я одну тебя люблю! – воскликнул. – Каждую ночь пытаюсь к тебе достучаться, но ты запираешься в спальне. Что мне делать? Ты вынуждаешь к измене!
– А я не могу ласкать изменщика!
– Клянусь! С этого мгновения ни к какой чужой женщине пальцем не прикоснусь.
– Ты и прежде не пальцем, а кое-чем иным прикасался…
Выяснение отношений продолжалось до полуночи. Но мы так и не помирились, легли спать в разных комнатах. София и в последующие дни не шла на сближение. Хотя я без промедления рас-считался с фирмы. Предупредил Марлен, чтобы впредь меня не искала. Сознался, что ревную жену и не мыслю жизни без нее.
– А я без тебя не могу, – услышал в ответ. – При любых обстоятельствах отдам предпочтение не мужу, а тебе.
ЗАПИСЬ ШЕСТАЯ
Свою неотступность Марлен вскоре выразила тем, что подстерегла, когда шел с работы, и стала уговаривать зайти к ней. Я согласился только после того, как заверила, что это будет наше последнее свидание.
Переступив порог, я тут же «споткнулся» о свой портрет. Он, увеличенный, стоял в прихожей в инкрустированной рамке. Точно такое же фото я увидел на столе в зале.
– Ты что – чокнулась? – возмутился. – Зачем возвела меня в фетиш!
– Твое изображение помогает сексуально наслаждаться.
– А как твой муж отреагировал на твои странности?
– Сбежал.
– Без протестов?
– Еще бы! Бил меня, кипел в припадке ревности. А потом собрал личные вещи и подался к любовнице.
– Как? Не понимаю.
– У него тоже была пассия. Кстати, она очень обрадовалась его приходу. Звонила мне на мобильный, благодарила за… «подарок».
Марлен угостила меня вином. Когда малость захмелел, преподнесла еще одно «диво». За мгновение – словно по манове-нию волшебной палочки – оголила свое тело. Расчет был на мою похотливость. Но и накануне, и в эту секунду я почему-то думал о Софии. И теперь невольно сравнил их. Марлен во всем проигрывала: широкие плечи, узкие бедра, с кривизной ноги. Она сделала шаг ко мне, чтобы поцеловать. Но я отступил на два шага, оградил себя руками.
– Нет! – произнес спокойным голосом. – Я не здесь. Я возле Софии. Боль в сердце велит не забывать ее.
После этой сцены я не вышел, а вылетел из подъезда Марлен. Ошалело, в плену каких-то предчувствий, поспешил домой. София еще не вернулась с работы. Тогда под гнетом все того же непонятного страха помчался к ней в больницу.
Проскакиваю коридорами, на цыпочках пробираюсь в лабораторию. Без скрипа открываю дверь кабинета – и замираю в шоке.
На ковре, что простелен между столами, лежат голые София и Леонид Михайлович. В экстазном сцеплении оба стонут и вздрагивают от наслаждения.
Овладев собой, бесшумно удаляюсь. По дороге домой меня качает, несколько раз спотыкаюсь и падаю. При переходе улиц не вижу машин, только слышу, как они с визгом проносятся мимо.
Во дворе нашей многоэтажки натыкаюсь на сына и дочь, которые не спеша шагают из школы.
– Папа, – ласково обнимает Валя, – почему у тебя пот на висках? День-то прохладный…
– Не знаю.
– А слезы откуда взялись?..
– Сестренка, – вмешивается Максим, – не приставай к отцу. Они с мамой по очереди ревут. То она весь прошлый месяц плакала, то теперь он дождит глазами…
Своим участием дети вернули меня в реальность. Я отметил про себя: «Главное в жизни – это они: сын и дочь. О них обязан думать. О них обязан заботиться».
Как бы играя, Максим и Валя берут меня под руки, сопровож-дают в квартиру. Сообща принимаемся варить суп. Сын бежит в магазин, приносит сметану. Дочь нарезает капустный салат. Накрываем на стол – и на пороге София. Она довольна, что ужин подан. Подсаживается к столу.
После еды дети убегают смотреть телевизор. Я берусь за мытье тарелок. Затем легонько обнимаю жену. Но она мгновенно отскакивает:
– Не прикасайся ко мне!
– Разве не пора помириться?
– Поздно спохватился.
– Даже запоздалый мир лучше войны.
– Но я полюбила другого мужчину.
– Этого толстяка Ленечку? Знаю, ваши отношения зашли далеко. Измену прощаю – взамен на твое прощение.
– Леонид со студенческих лет меня любит. С Винницы, где работал после окончания вуза, специально переехал ко мне в Никополь. Из-за меня до сих пор не женился.
– Значит, не я всему вина?
– Мою к тебе любовь Леня не разрушал. Наоборот, все делал для того, чтобы наша семья не распалась. Это ты своим ядом отравил мои чувства. Сколько женщин у тебя было?
– Сегодня я видел ваши объятия в лаборатории. Давай простим друг другу измены.
– У меня это впервые. А ты со сколькими разлучницами имел связь?
– Но у нас двое детей! О них забываешь?
– С Леонидом Михайловичем воспитаю их не хуже, чем с тобой. Никогда не предполагала, что с ним будет так хорошо. Это ты подтолкнул к нему. А когда сравнила – полюбила.
– Прощаю! Все прощаю! Только останься со мной!
– В кафе сотням людей наливают кофе в одну и ту же чашку: помоют – и наливают. А у меня, ты знаешь, и на работе, и дома – одна-единственная чашка. Тебе понятно?
– Брезгуешь?
– Да. Когда обнимаешь – на рвоту тянет.
ЗАПИСЬ СЕДЬМАЯ
Не имея выдержки оставаться в одной квартире с Софией, я подался к Марлен. Та беспредельно воодушевилась. В тот же день принесла от подруги толстую монографию французского психолога, который всем мужчинам дает такой совет: «С целью самосохранения – после сорока лет необходимо поменять жену, работу и место жительства».
В обнимку лежа на диване, мы с интересом прочитали эту книгу. Марлен, целуя мои глаза, как голубка, ворковала:
– Ты все сделал своевременно. Этот француз прав. Вас, мужиков, с годами одолевает апатия, безразличие ко всему. Вы или спиваетесь, или вешаетесь. Спасти в состоянии только эмоциональный всплеск – любовь с новой женщиной.
Чтобы убедить в этом, Марлен раздела меня и осыпала тело страстными поцелуями. Сексуальное безумие длилось около месяца.
А потом я затосковал. Вспомнил Софию, детей. Вечерами выхожу на улицу, а в глазах туман – туман беспросветности. Вчера эта печаль привела к дому Софии, увидел в окне ее лицо – сердце защемило. Как там у Блока? «Твое лицо в простой оправе своей рукой убрал я со стола». Ведь это не София, а я сгубил нашу любовь. Поддался соблазну, превратился в похотливого пса, стал рабом низменного инстинкта – и все потерял: семью, детей. Теперь сплю с чуждой мне женщиной. Марлен курит, перед сном выпивает рюмку водки. Говорит, для достижения оргазма. А мне неприятен запах алкоголя. И вся атмосфера – затхлая, тягостная. Сбежал бы, но куда? Где и кто меня ожидает? По собственной воле превратился в бездомное существо. Был бы сильным – не споткнулся. Вот и наказан за слабость, за аморальность.
У бывшего мужа Марлен также приймацкая судьба. Леонид Михайлович в ту же сторону глядит – перебрался из своей однокомнатной квартиры к Софии в четырехкомнатную. Получается, мы, мужики, своим безволием и бездарностью мало чем отличаемся друг от друга.
Горько на душе. Готов до полуночи бродить по улицам, к Марлен ноги не несут. У нее на уме одно: секс, оргазм. В постели с Софией я наслаждался, испытывал счастье. А с Этой чувствую себя поденщиком, рабом полового излишества. Вчера из-за меня едва не столкнулись две машины. Задумался – и на проезжую часть вышел. Чтоб не наехать на меня, водителям этих двух легковушек довелось спасаться торможением».
Это последнее «нытье» Владимира Петровича, которое я записал на диктофон во время нашей уличной прогулки. Спустя пару недель я узнал, что он погиб под колесами грузовика. Согласно заключению следователя – это не самоубийство, а несчастный случай. Не уберегся мой друг. Земля ему пухом.
ЛИЦА ИСКРЕННОСТИ
НЕ ЖДИ БЕДЫ…
«Мужчина в расцвете лет», - говорит о Владимире Сергеевиче Ульяхине начальник смены. Затем более часа я любуюсь, как он исполняет обязанности старшего горнового. Среднего роста, ладно сбитый, мощный. Кажется: огнедышащая печь – это его дитя. Заходит с разных сторон, прислушивается к голосу, исполняет любые капризы… Подгоняют «пораненный» ковш. Виртуозно слепливает шары из водной пасты, прицельно бросает, заделывает места, где вывалилась футеровка. Минута – и ковш «вылечен»… И снова его зрение на «ребенке». Только действует еще быстрее, четче, вывереннее – как автомат. Ковш тем временем подплывает к печи. В руках у Ульяхина увесистый лом, счищает с лотка шлак и другие остатки. Затем пускает пальцы по «клавишам» пульта управления, приведя в движение машину открытия летки. Слышно, как бур, вгрызаясь, входит в канал. Отогнав машину, прутом расшуровывает летку и, наконец, бурным потоком хлещет расплав. Теперь старшой прикипает к смотровому окну: тяни – не оторвешь. Лицо, вижу, багровое от жара. У напарников пот льется градом, а у него лоб и щеки сухие. От близости огня? Выносливее других? А может силу придает азарт, увлеченность делом?.. Он так и не заметил, что давно стою невдалеке и наблюдаю за ним.
В домашней обстановке открываю в Ульяхине иные качества: раскованность, беззаботность, шутливость. Жена приходит с работы и сразу же усаживается ему на колени. В глазах у обоих что-то весеннее, ангельское – будто им не по сорок пять, а по семнадцать.
Но вот из семейного альбома отбираю пять фоторгафий, можно сказать, случайных, тех, что техникой исполнения выделяются. Владимир Сергеевич рассматривает их, и глаза неожиданно меняются: становятся, как криницы - темные, полные глубинной печали.
- Помню себя вот с этого снимка. Он сделан в послевоенное время. В Порт-Артуре. Сделан после первой моей «смерти»… В тот день, как всегда, китайские ребята вызвали меня на улицу. Бегали, играли в войну. Потом говорят: «Махнем на базар?». Это рядом, я знал, что там бананы продают, и таких, как мы, пацанов угощают за так. Пошли, отведали всякой фрукты. Но вот подходит дядя японец, улыбается, берет за руку и приглашает в свой магазин. Ватага за мной, а торговец останавливает: «Всем нельзя, только русского зову в гости». Заходим. Угощает ароматным напитком. Затем заводит в другое помещение, кляп в рот, руки скручивает веревкой, бросает в мешок и несет… Тот испуг до сих пор в моих жилах. Бился, слезы лил… Трое суток держали в каком-то подвале, розги применяли, стращали, предлагали лакомства, уговаривали поехать в цветущую страну, куда, мол, отбыли мои отец и мать… А я никак не мог унять дрожь, ревел, просился домой.
Родители тоже не спали ночи, колесили по улицам, искали. Отец – капитан, контрразведчик – сообщил в портовой гарнизон. Моряки перекрыли дороги, вели беспрерывное патрулирование на воде и суше. Может, и не нашли бы. Но китайская девушка Цзин, что помагала маме по хозяйству, видела меня на базаре и, узнав о беде, навела на след… Я был не первой пропажей. До меня безвозвратно исчезло более десятка ребят. Шла молва, что восточные спецслужбы крадут русских – с тем, чтобы воспитать из них «янычар» и забрасывать к нам шпионами… Когда отец вынес меня из подвала, я настолько ослаб, измучился и устал, что мгновенно уснул у него на руках.
- А это фото сделано на Русском острове. Вон маяк, а за ним – открытое море, где я вторично «погиб»… Школой бредил, напихал в портфель отцовских книг, иду по улице. Сосед Дима спрашивает: «Хочешь учиться?» «Да». «Конечно, ты ещё не дорос, но пошли к баркасу…» Этой посудиной возили ребят в соседнее селение в семилетку. Дима по дороге увлёк ещё нескольких пацанов. Один из них притащил горючее для мотора, завели – и через десяток минут вышли из бухты. Крики, восторги. Впервые без взрослых отчалили. Зеркало ровное, тихое, солнце ныряет в воде. А затем неожиданно грянул шквал. Я держал в руке книгу – вырвало и, как птицу, унесло в небеса. Дима, что был за рулевого, отчаянно упирался в штурвал, пытаясь развернуть баркас и направить обратно. Вихрь не дал, крутонул так, что мы, как горошины из стручка, посыпались вниз, хватаясь друг за дружку. В трюме затихли. Заглох и мотор. Судно оказалось во власти стихии. То его подымет высоко вверх, то опустит на самую улоговину волн. То швыряет куда-то со страшной скоростью, то вертит, как балерину, вокруг оси. То почти вертикально возносит, то шпуляет с горы, будто сани.
Дима самый старший, наши глаза обращены к нему – молчит, затем сквозь икоту выглатывает: «Держись кто за что… Вылетишь – хана…» Держимся до самой темноты. А когда сгущается мрак, ледяная жуть свищет по телу. Могила. Но только не беззвучная, а кричащая миллионами безумных глоток… Не окажись наша посудина в фарах сторожевого пограничного корабля – все пятнадцать «капитанов» ушли бы в небытиё. Спасибо и тем, кто умело рубил баркас, - устоял, не опрокинулся.
- Мне заступать в ночную смену. Сажусь на только что купленную «Яву». Улица безлюдная, асфальт ровный. Мысли уже в цеху: вчера стояли из-за аварии, теперь надо нагонять… Вдруг острый удар поперёк грудной клетки – будто невидимой косой. Затем как железными клещами вырывает из сиденья, подымает и тут же бросает, расшибая о что-то твёрдое. Свет от фары ещё раньше исчез. Тьма сжала, придавила. Только в момент сшибки с асфальтом в глаза как бы врывается молния, но не успевает засветиться – сознание гаснет.
Целую ночь пролежал без памяти. Утром прохожие увидели опрокинутый мотоцикл, меня – распластанного, разорванную про-волоку (видимо, подростки перетянули улицу) – и поняли смысл происходящего… Мужчина прикладывает руку к груди, проверяет, бьётся ли сердце. Открываю глаза: вижу небо, деревья. Но на вопрос «Что с тобой?» ответить не могу – голоса нет. В затылке боль, смягчить бы её – пытаюсь чуть сдвинуться, но руки, ноги и всё тело не подчиняются. Какая-то бабуся узнаёт, из глаз капают слёзы. Вот уже подкатила и «скорая». Кантуют на носилки, везут в больницу. Люди в белых масках дают уколы, укладывают на широкий стол. Улавливаю шёпотом произнесенный диагноз: черепно-мозговая травма… И опять будто проваливаюсь в сон…
Пробуждаюсь от боли. Озноб и страх: неужели обречён на неподвижность?.. Мозг, осознаю, работает, как прежде. Издаю приказ пошевелить пальцами рук. Сигнал доходит, пальцы делают еле уловимые движения. Ноги тоже шевелятся. Рад. Начинаю сгибать и разгибать ладони. Затем сгибаю руки в локтях, чуть приподнимаюсь на локтях… Подходит хирург: «Нельзя напря-гаться, наколот череп. Вот рана затянется – тогда…»
Два месяца был прикован к постели… А затем появился этот снимок – наша с Татьяной свадьба.
- Глядь, я у любимой печи-1. Кстати, работаю тут с семьдесят четвёртого. Монтировал, вводил в эксплуатацию и, может, переживу… Представь: утром фотографировался, а ночью эта самая борода сгорела… Это было перед первым капремонтом. Заступили, значит, в ночную, сдали плавку… Горновые и я, старшой, в невероятных условиях набили лётку. Вокруг настила не было, большинство плит перегорело и поотваливалось, осталось что-то похожее на мостики, по ним и передвигались. Это третья лётка была в таком состоянии, а первая и вторая вообще бездействовали… Когда пошёл расплав, я находился в проёме лёточной камеры, регулировал выпуск… От пульта управления спустился к горну и старший плавильщик. Виктор Чернявский стоит рядом, помогает мне. Вдруг замечаем на кожухе печи багровое пятно. Футеровка не выдерживает, прогорает. Чего теперь ждать? Если образуется прогар, хлынет расплавленный металл… Виктор бежит наверх вырубать все рубильники, я хватаю распылитель и направляю струю воздуха и воды в покрасневшее место, чтобы охладить кожух, не допустить аварии. Но тщетно – огненный поток выплёскивается из дыры, попадает в карту с водой, по законам физики происходит её мгновенный переход в пар с расширением в тысячи раз – взрыв. Я не слышу его. Это потом осмысливаю, как всё происходило. А тогда оглох, ослеп, отключился. Взрывной волной могло бросить меня вниз на раскалённый металл – и я бы превратился в дым. Могло жахнуть о стенку головой и расквасить мозги. Но почему-то понесло в небольшой проём двери, что находится не по прямой, а сбоку. Этакие перуэты совершила волна: не ударила, а плавно перенесла через лебёдку, что стояла в проёме, и уложила, можно сказать, у последней черты – на кучу глины. За этой чертой кончалась площадка горна, и если бы меня двинуло дальше хотя бы на метр (пролетел 15 метров) – шмякнулся бы в бессознательном состоянии на бетон с высоты более шести метров… Что встало на пути моей гибели? Случай? Судьба? Глаза жены, о которых накануне вспомнил?..
Горновые соседней печи схватили меня и отнесли в бытовку, где пьём чай. Борода обуглилась коржом, щиток тоже сгорел, но спас глаза и лоб, а борода – скулы и шею. Ожоги были, но не глубокие. А вот грудь и руки взялись почти сплошным волдырём. Куртка и свитер полностью истлели, рубаха и майка превратились в решето. Больше месяца залечивал в больнице раны, со всего мира мази испробовал.
- Со своими сыновьями я сфотографировался накануне по-следней моей «смерти»… Началось всё с резей в области чуть ни-же желудка. Что ни применял – не проходит. Вызываю «скорую». Заходит фельдшер, мнёт живот, говорит: признаки отравления, давай будем прочищать кишечник. Я отказался, так как ел в эти дни только свежие продукты, сослался на то, что вероятнее всего у меня воспаление аппендикса. Нет, говорит фельдшер, ничего похожего у вас не нахожу… Через время я махнул на боль рукой, и мы с Татьяной вышли на проспект Ленина погулять. Помню, дискутировали о фильме, в котором показан художник, что неиз-менно рисовал одну и ту же женщину: на лужайке, в домашнем кресле, с букетом ромашек и т. п. И снова мне стало очень плохо, боль скрутила так, что упал, как подстреленный, прямо на асфальт, схватился за живот – и вырубился… Жена молодец, не запанико-вала. Дала прохожим деньги, попросила по автомату вызвать медпомощь. А меня аккуратно уложила на траву, чтобы меньше навредить, если что оборвалось внутри. Добилась, чтобы в больнице приняли прямо в операционной.
Консилиум чётко определил: аппендицит.
Резали под местным наркозом. Видел, как рылись в кишках, перемывали, зашивали… А заживание шло туго: через месяц повторная операция, удаление накопившегося гноя. Уже не чаял, что выкарабкаюсь, но Татьяна почти каждый день приводила ко мне детей, заплаканными глазами звала, звала и вызвала…
Пять трагедий. Не много ли для одного человека? А внешне никакой печати. Лицо мужественное, бодрое, какое-то неназойливо доброе и красивое. Только когда ближе узнаю Владимира Сергеевича, постигаю всю глубину его человеческих измерений. Любую черновую работу выполняет с душой. На печи №1 с тех первых дней, когда донимали сбои, когда газ и огонь душили, а гарь и дым выедали глаза, весь персонал поменялся, только он никуда не ушёл, выдержал… «Символ терпения и возрождения», - говорят о нём. Вопреки всем бедам построил прочную семью, воспитал с Татьяной, рабочей Южнотрубного завода, двоих сыновей: Дмитрий после металлургического техникума, повторив путь отца, пришёл в плавильный цех № 1, двенадцатилетний Александр тоже мечтает о ферросплавном. Тех прежних аварий на печах и в помине нет. Агрегаты обновлены, модернизированы. Когда-то вручную, выжимая из себя последние силы, набивали летки. Закрывали их также вручную, загоняя в огненные пасти семидесятикилограммовые конуса из глины. Ныне эти операции переложены на плечи машин. Дышать стало легче, принципиально изменена вытяжная система, при этом пыль и газ утилизируются. Печь Ульяхина одной из первых включена в автоматизированную систему управления технологическим процессом – это новшество изучается не только ферросплавщиками СНГ, но и Индии, ЮАР, Китая, Японии.
«Возродился» и домашний очаг. Двадцать лет семья ютилась на двенадцати квадратных метрах чужой жилплощади, а затем, наконец-то, получила собственную просторную квартиру. Хотя важнее тут другое – своё «гнездо» Владимир Сергеевич превратил в своеобразный музей прикладного искусства. Всё, начиная от дверной ручки и кончая мебелью, сделал своими руками, и с таким мастерством, что ахнуть в пору. Каждая деталь: то ли в резном кухонном наборе, то ли в инкрустированной стенке, то ли в спальном гарнитуре, то ли в подвесных потолках – выполнена с таким вкусом, имеет настолько оригинальный рисунок, что та мебель, которую видим в магазинах и даже на выставках, - по сравнению с ульяхинской, - халтура. Чудодействует Владимир Сергеевич с момента вселения два года. За триста рублей купил тогда древесно-стружечную плиту, доску, декор, шпон, пластик, обойную фанеру, другие материалы и превращает их в … художественные произведения. Смотришь – и насмотреться нельзя. Не вещи домашнего обихода – а как бы живые чарующие лица. Правда, есть в них что-то неземное, какой-то «небесный» стиль на грани озарения, и все объединены схожестью… С кем?
Вот Татьяна - подтянутая, стройная, синеглазая – сообщает, как рождался силует секретера, как создавался киот с иконами – и становится ясно: это её образ присутствует во всех шедеврах, что творят душа и руки мужа. С детства он рисует, лепит, выжигает, выпиливает, инкрустирует, чеканит. Но только ныне явил свой лик его талант… И на работе, и дома Владимир Сергеевич не-усыпен, созидателен. Торопится. Не хочет ждать беды. Да и с тех пор, как неистово работает, она не подступает, сторонится его.
Никопольский государственный
завод ферросплавов.
«Днепровская панорама»
10.09.1992.
ЛИЦА РЕВНОСТИ
ВЫСОТА
Из зала суда
Судья:
- Вы, четыре разведённые бездетные дамы, сбросили с пятого этажа замужнюю женщину – мать двоих детей... Не симптом ли тут какой?
Подсудимая Виктория Молохова:
- Это произошло из-за того, что все мы влюбились в Арнольда Фирсова. А попал он в нашу фирму “Синтез” по моей воле. Как-то я бегала по базарам в поисках норковой шапки. Смотрю, в па-латке торгует симпатичный шатен. Рост до двух метров, в глазах приятная густая синева. Я сделала покупку. Затем спрашиваю:
- Эту красоту из меха создаёте Вы лично?
- Нет, я реализатор.
- А прежде кем работали?
- Программистом в компьютерном центре одного из заводов. Погорел на эпиграммах. Пока сочинял их, подтрунивая над коллегами, было всё ничего. Но чуточку задел начальника – вылетел как пробка под напором шампанского…
Арнольд говорил о литературе, музыке, кино. Был свойским и шутливым. Я не заметила, как моя рука нырнула в его кудри, по-дружески потрепала их.
Через неделю Фирсов уже работал в отделе, который находил-ся в моём подчинении. Для его компьютера я выделила уютную с невысоким потолком комнату. И любила заглядывать в эту ке-лью. Как правило, общались на задиристой ноте, смеялись, спори-ли. Когда обоюдная ершистость мешала делу, для разрядки я ворошила его буйную шевелюру – и он успокаивался. Мне нравилось видеть, как при этом его раскосые глаза искрились, излучая чисто мужские эмоции.
Одевался Арнольд так себе. Но любая одежда сидела на нём, как на модели. Брюки всегда играли стрелками, носки туфель блестели. Холерик по натуре, Фирсов отличался мгновенной реакцией на всё, что его касалось. Те же задания, что исходили от меня или шефа, выполнял с утончённой виртуозностью. В среде управленцев о нём заговорили с восхищением, даже мужчины.
Не скажу, что я, как женщина, таяла перед ним. Но, по истечении нескольких месяцев, чувства к Арнольду окрепли. А так как он не противился моим нежным проявлениям, стала строить партнёрские планы. Ведь подчас мы дурачились и играли, как дети. Рассчитывала также на благодарность за то, что устроила по специальности.
Выпала напряжёнка, оба задержались после работы. В тот день я пригласила Фирсова в мой кабинет.
- Хочу посоветоваться по личному вопросу, - улыбнулась и повернула ключ в замке. Затем открыла холодильник, выставила на стол коробку конфет и коньяк.
Мы выпили, я запустила пальцы в мужские волосы, притянув Арнольда к себе, и припала к его губам. Он не отстранился. Наоборот, подхватил меня на руки, закружил по кабинету. Я ощутила мужскую силу, приготовилась упасть с ним на диван… Но он неожиданно поднёс меня к распахнутому окну и спросил:
- Ты готова вместе со мной броситься вниз?.. Мне хочется умереть…
Я заглянула ему в глаза и увидела там отчаяние, смешанное с растерянностью. Страх меня прошиб так, что мгновенно высвободилась и торопливо села на диван.
Арнольд, не взглянув в мою сторону, отомкнул дверь и удалился.
Подсудимая Дина Супрун:
- Когда все поняли, что Виктории не удалось окрутить Арнольда, я сказала себе: “Не упусти свой шанс!” Начальнице – 35, Фирсову – 33, мне – 27. Возрастной расклад в мою пользу. Да и тело у меня не из глины. Крутанусь на каблуке – мужики “летят”, как осы на мёд. А чтоб усилить свои качества – купила бесшовное боди, сделала коррекцию фигуры. Обнажила, как надо, ноги, бюст. И по нескольку раз на день залетала к Арнольду в “келью”, охмуряла его.
Вижу, заметил мои старания. И то ли в шутку, то ли всерьёз тоже начал флиртовать. Я не преминула этим воспользоваться.
- Ты целую неделю, - говорю, - в коридор не выходишь, затаился, как мышь. Шеф в отъезде, Молохова – на больничном. Давай улизнём на пляж.
- В рабочее время? – удивился Арнольд.
Только под вечер удалось оторвать Фирсова от компьютера. Но вот искупались мы, лежим впритык на коврике, который я прихватила, закидываю ногу за его ногу – а он не реагирует.
- Перестань баловаться, - бросает небрежно, - я есть хочу…
Поднимается и уходит домой.
Подсудимая Раиса Просяник:
- Узнав, что мать Фирсова на целый месяц уехала из города, я как бы невзначай заглянула к нему с пакетом пирогов. Говорю: “Попробуй.” Он отнекивался. Но когда отведал этой вкуснятины – за минуту уничтожил всё, что принесла. На следующий день угостила творожной запеканкой. И так пошло, поехало. Затем напросилась пойти к нему сварить борщ. Он обрадовался, сказал, что это его любимое блюдо. Заранее купил всё необходимое. Ассистировал мне на кухне. Очищал картофель, свеклу, морковь. При этом записывал, сколько на его большую кастрюлю необходимо всяких продуктов, в какой последовательности их бросать. «Это для того, - объяснял, - чтобы в следующий раз самому варить это кушанье».
Борщ уплетал за обе щеки. А я тем временем сняла с себя всё лишнее, удобно расположилась на широкой тахте, утешаясь мыслью, что путь к сердцу мужчины пролегает через желудок.
Насытившись, Арнольд весь сиял, восхвалял мои кулинарные способности. Я надеялась, сейчас подсядет ко мне, обнимет. Но он вдруг вытаскивает из кармана бумажник, извлекает оттуда сотенную купюру и протягивает мне.
- Это, - произносит твёрдо, - за все угощения и борщ!
Я стушевалась, приняла деньги… А потом дома рыдала от обиды вот такими слезами.
Подсудимая Клара Бельская:
- Я подловила Арнольда на спектакле, который давал в нашем городе столичный театр. Это была модерная пьеса, хорошие актёры. Но я больше следила не за ними, а за Фирсовым. Он сидел на десять рядов впереди меня между двумя свободными местами. Дождавшись антракта, я подскочила к нему:
- Арнольд, ты один?
- Нет, с программкой к спектаклю, - сострил он.
- А я без программы… Можно перебраться к тебе?
Он согласился. С увлечением стал комментировать игру актёров. Высказал много оригинальных суждений о пьесе и её авторе. Слушая, я незаметно поглаживала его колени, старалась гипнотизировать взглядом. Он, как настоящий кавалер, купил шоколадку и угостил. Это подогрело мою настойчивость. Я прикинулась, что боюсь одна идти домой, попросила провести. А в пути, под предлогом того же страха, прижималась к нему. Не растерялась и на ступеньках крыльца.
- Арнольдик, - молвила, обхватывая его обеими руками, - мой видик барахлит. Полечи, ты же спец.
Он зашёл в мою просторную квартиру, увидел почти царскую обстановку и с сочувствием в голосе произнёс:
- Почему твой суженый сбежал от такой богатой жены?
- Дурак потому что, хотел детей, а я – нет…
Пока Фирсов ремонтировал плеер, я из кухни принесла в залу торт, голубцы, фрукты и кофе. Видик вскоре заработал. Гость принялся за угощения. Он ел, а я рассматривала его упругие ску-лы, крепкие зубы и пришла к выводу: передо мной – типичный холостяк, падкий на женщин, похотливый, сладострастный. Он не откажется от любого соблазна. И я решилась на так называемый квартирный стриптиз. Включила попсовую музыку, встрепенулась, как птица, и пошла в пляс, наполнив себя эротическим экстазом. В этом зажигательном ритме кругами приближалась к Арнольду, шаг за шагом сбрасывая с себя одежду. По глазам уловила: он завёлся. Оттого с ещё большим азартом танцевала, ускоряла движения, извиваясь вокруг него. В такт музыке проводила ладонями по своим обнажённым бёдрам – потом по его плечам, по своей оголённой груди – потом по его спине… Когда на мне остались одни плавки, поймала его руки и потянула к себе, предлагая самолично завершить моё раздевание.
Однако в эту минуту Арнольд будто пробудился от сна, вскричал: “О, прикрой свои бледные ноги!”
Вначале я не поняла, к чему это воспроизведение известной в мире самой краткой поэмы (в одну строчку), написанной поэтом- символистом. Однако новая тирада Фирсова всё разъяснила:
- Ты права: я грешный!.. Но больше так не могу! Потому что полюбил! Не тебя – другую!..
Арнольд подхватился и, как привидение, растаял в проёме двери.
Судья:
- Повторяю: вы, четыре дамы, сгубили свою сотрудницу Елену Сказину… При чём тут ваша любовная охота за Фирсовым?
В.Молохова:
- Сказина – именно та женщина, которую полюбил Арнольд. Это из-за неё я не смогла завести с ним роман. Это из-за неё и троим моим подругам не удалось склонить Фирсова к интимной близости.
Судья:
- Чудовищный сговор на почве соперничества?
Прокурор:
- Следствием доказано, что 18 января в фирме “Синтез” во время обеденного перерыва собрались вместе вот эти четыре молодые дамы: Молохова, Супрун, Просяник и Бельская. Они открылись друг дружке, что влюблены в Фирсова, и что каждая пыталась увлечь его. Если бы он выбрал кого-либо из них, остальные бы смирились. Но Арнольд отдал предпочтение замужней женщине. Фигурировали ксерокопии уничижительных эпиграмм, оскорбляющих достоинство вышеупомянутой четвёрки, а также оригинал любовного стихотворения, посвящённого Сказиной. Эти сочинения Фирсова фактически и послужили мотивом мести. Организатором выступила Молохова. Всё происходило в обстановке крайнего психоза.
В конце рабочего дня она пригласила к себе Сказину, задержала до той поры, пока Фирсов ушёл домой. Затем завела её в его кабинет. Там их уже поджидали Просяник, Супрун и Бельская. Они мгновенно набросились на жертву, в наружный карман её пиджака всунули то стихотворение, предварительно разорвав его на несколько частей, открыли окно – и сбросили Сказину с высоты 16 метров. В данном месте от садовых насаждений к зданию подходит бетонная дорожка, чем и был обеспечен смертельный исход. Сказина не издала ни единого звука. Шок не позволил. Это убийцы заранее “вычислили” – и кляпом не пользовались.
Судья:
- У следствия не было подозрений, что Сказину уничтожил Фирсов?
Прокурор:
- Первоначально именно ему было предъявлено обвинение… Отрабатывалась также версия – самоубийство. Однако та том изорванном стихе обнаружили пальцы не Сказиной, а Молоховой. Поэтому пустили в ход подслушивающие устройства и выявили истинных убийц… Из-за нервного срыва свидетельствовать в суде Фирсов не в состоянии, но вот он написал нам: «Подтверждаю, что Елена Сказина никогда не держала в руках то стихотворение. Больше того, она не знала, что посвящаю ей стихи. Я любил её тайно и стихи писал втайне. Ни передачи стихов, ни объяснений, ни свиданий у нас не было. Это Молохова, имея ключи от служебных помещений, проникла в мой кабинет, в столе нашла стихи и объявила в кругу своей четверки, что Сказина и Фирсов любовники. В действительности же я любил Лену безответно.
Моё чувство возникло как бы ирреально. Подхожу утром к зданию фирмы, а у двери стоит влюблённая пара. Он и Она. У обоих лица просветлённые, похожие на зарю. Ещё через пару дней опять с ними столкнулся и отметил про себя, что они как бы созданы друг для друга: стройные, красивые, улыбчивые. А после вдруг узнаю, что Она – это Елена Сказина, экономист нашего отдела, а Он – её муж, музыкант по профессии. В брак вступили девять лет назад, имеют дочь и сына, бережно хранят взаимное притяжение.
Когда по работе довелось встретиться с Леной, я мгновенно ощутил её нежную, окрыляющую ауру. Она дарила людям, в том числе и мне, душевную искренность и какой-то внутренний толчок к обновлению желаний. После общения с ней вошёл в свой кабинет, и рука невольно потянулась полить цветы, а взгляд, задержавшись на лепестке незабудки, вернул меня к запахам детства. Весь день я ходил с ощущением, будто в моё естество вошел ещё кто-то. И в последующие дни это чувство не исчезло. Встречу Лену утром в коридоре, поздороваюсь, уловлю благостность в её глазах – и до вечера душа в радости купается. И как бы ведёт диалог с тем существом, что в меня вселилось.
Сознаюсь: в первое время, как попал в отдел, глаза разбегались. И Виктория, и Раиса, и Диана, и Клара – что ягодки: бери, лакомься. Но вот вошла в душу Лена – и забыл о них. Стал воспринимать их красоту неестественной, какой-то хищной. Одна Сказина видилась духовной вершиной. Будь она незамужней – без колебаний предложил бы руку и сердце. На одной из вечеринок, что устраивала фирма, было не удержался – пригласил Лену на танец, взглянул с обожанием. Но спокойные глаза мне спокойно ответили: ”Я люблю мужа. Даже если бы он хотел моей измены – не смогла бы… ” Эти её ощущения с ходу прочитал и понял их. Ведь и я сам – необременённый семейными узами, мало того вот так в силу обстоятельств не имеющий никакой надежды на взаимность – не в состоянии лечь в постель с другой, нелюбимой. Помню, пытался это сделать, когда Бельская устроила стриптиз… Однако в последний миг душа воспротивилась: меня стошнило – и я убежал от Клары.
Не получалось даже думать о ком-либо, кроме Лены. Она завладела всем моим существом. Это были страдания. Глубокие, неимоверные. Таких душевных ран прежде не знал. Успокаивал себя: «Благодари её уже за то, что пробудила эту жажду к счастью… Не зацикливайся на том, чему не бывать. Довольствуйся тем, что есть…» И вот, когда в обеденный перерыв Лена выходила на несколько минут в сад, я прислонялся к окну и, стараясь быть незамеченным, как сыщик, следил за каждым её шагом. И мне казалось: ощущаю её дыхание, её плавное движение ног и рук, её наполненные добротой мысли, её мечты.
На одной из планёрок мы оказались рядом. От прикосновений я чуть не сомлел… Вблизи – а чужие… Из-за этого любовь непредвиденно росла, всё больше превращаясь в болючий сгусток. Порой было такое ощущение, что этот сгусток выходит за пределы моего тела и сливается с далёкой космической мукой. Эта мука, объединяясь с моей, усиливала страдания и до предела размягчала волю. Но помогала понимать боль других, разделять их беду. И одновременно – это вроде Божьего знамения – поднимала душу на головокружительную высоту. Ей открывалась подноготная человеческих падений и взлётов. Я как бы перевоплощался в миллионы самых различных людских ИПОСТАСЕЙ. Прежде – до этих болей, до этого душевного сверхнапряжения, вроде не жил, находился в пустоте. А теперь обрёл всю Вселенную, вошёл в тайны всего, что меня окружает. Не только человека, но и травинки, и букашки, и змеи, и микроба, и луча света. Я как бы заново открыл для себя мир, заново узнал, что такое жизнь. Потому что увидел трагическую сторону любви, пощупал её изнанку.
А её изнанка – это безысходность. Это существование на волосок от самоубийства. В один из этих жутких дней я и переступил порог храма. Шла утренняя служба. Опускаюсь на колени, молюсь. Вдруг перед глазами будто вспышка – стоят у иконостаса Он и Она. Лена поглаживает головку пятилетнего сына. А её муж приподнял на руках маленькую дочь. “На его месте мог быть и я, - пронзила мысль. – Мы ровесники. Почему же ему выпало счастье, а мне – муки?..” “Святая любовь, - слышу будто от икон льющийся голос, - рождается только в юности. Не поторопился в то благодатное время найти её – тобой овладевает дьявол…” И какая-то внутренняя буря моментально выталкивает меня из храма.
Долго я метался, не находя себе места.
Спасли стихи. Прежде моя рифма смеялась над всеми, а теперь застонала, заплакала, переполненная печалью и страданием. Из сердца как бы выходил огонь. Но оно не сгорало, и всё больше воспламенялось.
Но после гибели Сказиной все огни погасли.
Я – в полной темноте. Вокруг – бессмыслица, безумие…”
Суд приговорил Молохову, Супрун, Просяник и Бельскую к четырнадцати годам лишения свободы (каждую)… Фирсов после лечения в неврологическом диспансере выехал в соседнюю страну, где пристроился служителем в мужском монастыре.
ЛИЦА ПРЕДАТЕЛЬСТВА
РАСПЛАТА
Сорвав большое, похожее на солнце яблоко, Миша шутливо подбросил его над головой и, поймав зубами, стал есть. Искрящиеся соком ломтики, будто живые, отскакивали от «солнца» и исчезали за жерновами-челюстями. Нога же по принципу хорошо заведённого механизма не переставала нажимать на лопату. Жирная ухоженная земля поддавалась легко.
- Эх, как увлёкся! – раздался рядом восхищённый старческий басок. – Минут десять стою, наблюдаю. Циркач! И яблоки ешь и работаешь.
Загнанная в почву лопата будто на камень попала. Миша крепче сжал ручку. Он ещё не поднял глаз, но уже ясно видел перед собой сутулую бодрящуюся фигуру пришельца, лицо с припудренными морщинами. «Что ему надо? Зачастил. Чуть не каждую неделю приезжает. Я же во время первой встречи объяснил, что нельзя здесь появляться. У мамы и так больное сердце…»
- Миша, - гость уже заговорил другим тоном, - не обессудь за вторжение. Тоскливо мне в одиночестве. Лидия то на работе, то ещё где-то бегает. А я всё дома. Молчком обед варю. Молчком в очередях, где что дефицитное, простаиваю. Сегодня пенсию принесли. Купил чекушку, выпил. Думал полегчает. Куда там – будто стеной придавило. Вот и вырвался тебя повидать, душу отвести. Рубаху привез: не из нейлона, а из какого-то лучшего материала. Пойдем в хату, примеришь.
Не жалость, что-то другое, скользкое и неприятное, подползало к сердцу, расслабляло и заманивало Мишу на шаткую дорогу тех отношений, когда «отстань» сказать неловко и вместе с тем немыслимо открыто смотреть собеседнику в глаза. Ибо тот другой взгляд желает сближения, а у тебя ком застрял в горле. Только вот нельзя смотреть равнодушно на старческие дрожащие руки. Они то, эти прилипчивые руки, и отстраняют от юноши лопату, увлекают его из сада во двор, со двора в комнаты.
Переступив же порог, гость успокаивается. Как у себя дома, деловито раздевается. Определяет плащ и шляпу на вешалке. Как единомышленнику, подмигнув суровому молчаливому юноше, вынимает из кожаного портфеля яркой расцветки рубаху.
- Не сорочка – блеск. Двадцать рублей стоит.
Миша, словно боясь обжечься, с опаской отстраняется от подарка:
- Может, не надо, Прокофий Михайлович?
Раньше, встречаясь, Миша относился к «нему», как к отсутствующему предмету. Когда нельзя промолчать, пользовался неопределенной формой глагола. Теперь вот обращается по-новому. Еще не совсем так, как хотелось бы гостю, но все же почтительнее прежнего. Пользуясь благоприятной переменой в юноше, пожилой заторопился:
- Для тебя же куплено. Бери, сынок, носи на здоровье.
«Сынок, - надевая рубашку, мысленно повторяет Миша. – Приятно слышать, когда мама так окликает. В «его» же устах это слово звучит угнетающе. Какой он отец? Прижил шестерых. Та, что родила нас, померла. Другая, Фекла Павловна, согласилась быть ему женой, а нам матерью. Он же, не знаю как и назвать такого человека, оставив родных детей у нее на руках, сбежал. Сбежал от нужды и забот к вольготной жизни. В городе «в приймах» устроился. А сейчас, когда старость постучала в окно, забегал, ластится, что нашкодивший кот»…
А рубаха хороша. Как на Мишу скроена. Воротничок – в притирочку. Плечи-реглан делают бюст солиднее, мужественнее. Оттененные рубахой небесного цвета глаза кажутся густо-синими, жгучими. «Вот в такой бы на свидание! Ахнет Верка». Сияет Миша. А рядом с его, что маков цвет, лицом в зеркале позади виднеется голова Прокофия Михайловича: с большими залысинами, заостренным носом и обвисшими губами. Однако сходство между ними поразительное. Пожилой доволен, что его черты повторились в молодом ростке. А юноша аж замер от изумления: «Неужели на него я похож?…»
- Терзаться не надо, - сказал Прокофий Михайлович, - живи проще: дают – бери, бьют - удирай. Рубаха к лицу. Прильем, чтобы дольше носилась. Я на этот случай кое-что прихватил.
Он опять расстегнул портфель с блестящими замками. Извлек оттуда «столичную», сардины, сайку, голландский сыр, нарезанный аккуратными скибочками. Приготовив закуску, разлил водку по капроновым рюмкам, припасенным для разговора наедине.
- За прочность обновки! За крепость, не уступающую дружбе людей одной крови! – поднял тост старший.
- Вы пейте, Прокофий Михайлович, а я не могу, - скатывая в шарик крошки от булки, произнес Миша.
- Почему?
- Алкоголь вреден… Так мама говорит.
Пожилой, не желая вступать в «дискуссию», выпил. Только глаза, рассматривавшие юношу, будто увеличились от напряжения. Никак не раскусит, чем можно тронуть неподатливое сердце парня. И, видимо, нащупав заветную ниточку, заискивающе улыбнулся:
- Узнаю свою молодость. Я тоже чуждался компаний, все больше со звездами беседовал. А потом война небеса дымом застла-ла. Темень наступила. Выпей, говорят, за комбата: ведь замечатель-ный товарищ был. Опрокинул кружку. А почему не помянешь наводчика, он же рядом с тобой стоял? Дерболызнул опять. И так после каждого боя. Видеть кров друзей и думать, что скоро и твой черед – жуткие это ощущения. Может, они и затуманили мой горизонт.
Заметив, что неожиданно сама собой вылившаяся тирада заставила юношу задуматься, пришелец, дабы подогреть эмоции, налил еще водки, выпил, опять налил и выпил, затем еще и еще. И снова заговорил:
- Да, тому, кто лицом к лицу сталкивался со смертью, нелегко отрастить ангельские крылышки. Мой уход из семьи можешь именовать как угодно: преступлением, изменой, ошибкой, заблуждением. Я действительно виновен перед тобой. Очень даже трудно простить меня. Но взгляни на эти седины. О чем они говорят? Хлебнул горя немало. Без порядка в жизни, что в темнице. Какие хошь условия ставь, только не молчи. Ну скажи, ты понимаешь мое положение?
- Как тут не понять… - ответил Миша, веря, что человек искренне раскаивается.
- Врагу не желаю такой жизни. – Прокофий Михайлович на минуту умолк, видно, собираясь с мыслями, затем продолжал с еще большей горячностью. – Нет, сдержать рвущуюся наружу боль я не в силах. Пожалей меня, сынок, пожалей! – он опустился на колени и, обнимая Мишины ноги, стал целовать их. – Подари хоть каплю радости. У меня в городе квартира приличная, ковры, мебель. Но захожу туда, как в чужое помещение. Ни шорохов родных, ни звуков. Перебирайся ко мне. Одену. Обую. Лидия попрекнет куском – рот закроем. Учиться будешь. Ты же десяти-летку закончил. Что тебе в селе прозябать? Знания надо приобрести, их за плечами не носить.
- А мама как? – строго спросил юноша.
- Не умрет. Поплачет поначалу, а потом смирится. Прав то у нее на тебя никаких. Она же не родная… И документов об усыновлении не имеет…
- Замолчите! – задыхаясь от душившего спазма, закричал Миша. Он вырвал ноги из цепких объятий пришельца и, закрыв лицо руками, шарахнулся в соседнюю комнату, там рухнул на кровать.
По-своему оценив обстановку, Прокофий Михайлович подался следом и, припав к содрогающемуся от рыданий молодому телу, вкрадчиво зашептал:
- Не гневись, сынок, если что не так сказал. Грамотенки у меня маловато. Фекле Павловне, конечно, спасибо, что воспитала вон какого сокола. Но она утрату и не приметит. С ней же останутся и Володя, и Тамара, и Леня, и Таня. А от меня они отреклись. Ох какая беда! На одного тебя, младшенького, надежда. Не возражаю: будешь приезжать сюда и, если станешь зарабатывать, помогай Фекле Павловне. А что у меня, может, зло какое на нее – прости, сердцу не прикажешь любить.
«Он говорит о любви, - клокотало в груди у Миши. – Чужому человеку оставил своих детей. За одно это самое себя уважать нельзя. Можно еще понять того, как пишут в романах, кто после ослепления страстью забыл о долге – понять, но не простить. А тебя ведь поманили из дому не возвышенные чувства, не любовь. Такие, как ты, и в книгах редкость. Ты сбежал, чтобы не поделиться с детьми сытным пайком. Отдался во власть самым низменным желаниям. Не любил ты ни Феклу Павловну, ни Лидию. Ведь изменял же потом ей. Сам говорил. А теперь подлость свою кровью чужой оправдываешь, на войну киваешь. Сколько с фронтов инвалидов пришло - и все порядочные люди. А ты? Надо окончательно потерять совесть, чтобы вот так по-лисьи залезть в душу и побуждать сына оставить ту, которая вынянчила его, вырастила здоровым и сильным. Ты «античеловек» какой-то». Непонятная юноше сила сорвала с тела подаренную рубашку, воткнула ее в раскрытую пасть портфеля, сбросила туда недоеденный сыр, хлеб, капроновые рюмочки, опорожненную бутылку. Надела на пьяную физиономию плащ и шляпу, открыла дверь.
- Уходите, Прокофий Михайлович.
- Я Феклу Павловну дождусь, поговорю с ней.
- Тревожить? Не позволю. – Мускулистые молодые руки приподняли сутулую фигуру и выставили за дверь.
ЛИЦА ОДИНОЧЕСТВА
ГРАНАТЫ ВЗРЫВАЮТСЯ
С Радионовым мы учились в одном классе. Симпатизировали друг другу. А потом дороги разошлись. Он поступил в военное училище, где-то охранял границу, дослужился до майора. Я окончила экономический вуз, пошла по бухгалтерской стезе. И вот на 43–й встрече нашего выпуска снова увиделись в школе.
Он сел за первую парту, позвал меня, усадил рядом и сказал:
– Все эти годы я тебя не вспоминал. Но едва сейчас переступил порог класса, как сердце екнуло – и радостно стало на душе.
– От чего?
– Захотелось, Катя, снова списать у тебя математику.
– А я, Анатолий, не прочь списать у тебя сочинение.
Так непроизвольно между нами возобновились очень теплые отношения. Мы сидели рука об руку на банкете, на пару плясали. Одноклассники всячески поощряли наш «альянс».
Спустя неделю Анатолий явился ко мне на квартиру с букетом цветов. А потом стали приходить от него стихотворные послания. Вскоре он предложил руку и сердце.
Радионов – рослый, видный мужчина. Я – маленькая, щуплая. Как бы с неба свалилось мне счастье. Но нам обоим по шестьдесят. Каждый прожил трудную конфликтную жизнь. Мой муж-гуляка устраивал в семье дебоши, везде его сопровождали бабы. С одной из любовниц уехал на Север – там погиб. О жене Анатолия доходили разные слухи. Она в военном городке вроде бы переспала со всеми офицерами, ныне живет с его другом, только недавно супруги оформили развод.
– Давай не спешить, – сказала я, – надо привыкнуть друг к другу.
– Хорошо, – согласился Радионов, – приглашаю тебя в гости на недельку.
Я не заставила себя ждать. Поехала. После ухода из армии мой майор обосновался в красивом селе. Вокруг дома фруктовый сад, за огородом – речка. Ежедневно к столу сливы, абрикосы, малина. Его мать, энергичная старушка, едва не молится на меня.
Анатолий отвел мне лучшую комнату, со всеми удобствами, с телевизором. Вечером в открытую форточку (с решеткой против комаров) ко мне вливается аромат фиалок, что растут под окнами. Приняв душ, с хорошим настроением засыпаю.
Но минуло несколько дней, и сон ушел. Подкралась тревога. Почему жених не приходит ко мне? Если не хочет беспокоить вечером, то можно заглянуть утром. Я же не святая и не девочка… Постой, у мужиков в этом возрасте частые осечки, возможны всякие комплексы. Значит, самой следует проявлять инициативу?.. Как была в ночной рубахе, так и пошла в комнату к Анатолию. Тихо подкралась к кровати, легла на краешек, поцеловала плечо. Он лежал голым – и это усилило мою нежность. Лаская и обнимая, потянулась губами к губам. Мои руки превратились в лепестки радости, прилипчивые губы обцеловывали его тело, отыскивали эрогенные зоны и там проявляли нескончаемую ласку. Моя активность как бы всколыхнула мужское тело, оно напряглось, ноги прильнули к моим ногам. Мне передалось что-то наподобие накопления энергии. Вот-вот партнер заиграет мышцами, навалится на меня и в экстазе войдет в мое лоно. Там, внутри меня, уже возникло ожидание встречи с фаллосом, пробудилась жажда ороситься живительной спермой.
Однако ожидание осталось ожиданием… Еще большую активность я проявила в следующую ночь. И так – целую неделю дарила ласку и нежность. Но фаллос на них не реагировал, интимной близости не произошло.
– Я что-то делаю не так? – спрашиваю.
– Ты – молодец, – отвечает Анатолий.– Ты почти достигла невозможного. Ты вселила в меня уверенность, сняла все комп-лексы. На какое-то время я даже усомнился в своей непригодности. Появилось ощущение, что я боец. Только этого ощущения мало. Нужна потенция. А ее нет, и теперь я окончательно убедился, быть не может. Уже девять лет я импотент. На границе была стычка, подо мной взорвалась граната. Врачи зашили раны, но я остался без мужской силы.
– Поэтому и жена тебя оставила?
– Слухи о том, что она сучка, неверны. Жена выхаживала меня после ранения. Долго терпела отсутствие секса. Только два года назад сошлась с другим мужчиной. Семь лет мы жили, как брат и сестра. И тебе предлагаю такие отношения.
– Мне надо подумать…
Мои размышления завершились тем, что через пару дней я собралась домой… Радионов подбросил меня в Никополь на своей машине, помог навести порядок в квартире, запылившейся за время моего отсутствия. Был очень внимательным, обходитель-ным. Когда наступил момент прощания, я не сдержала слез, обняла его, поцеловала.
– Не обижайся, – сказала. – Но мне лучше прожить остаток дней в окружении внучат, их у меня трое…
Анатолий уехал. Через месяц я узнала от знакомой, что он простудился и от воспаления легких умер.
Трудно осознавать, что это я поставила точку в его радостях и страданиях. Это я взорвала его покой. Надо было сойтись с ним – и этот красивый мужчина продлил бы и мою жизнь. А так – тоскую в одиночестве, донимают болячки. Прости, Господь, мои прегрешения.
ЛИЦА УВЛЕЧЕНИЙ
КРОМАНЬОНЕЦ
Сельское профтехучилище расположено в низине возле реки. Добиралась сюда автобусом. Выхожу, а следом за мной соскакивает мужчина с бородкой. Оказалось, он здесь второй год преподает математику. А меня направили преподавать биологию.
– Новая учительница? – как-то резко обрадовался попутчик. – Меня звать Антон Несторович, а Вас?
– Регина Антоновна.
– По отчеству Вы, считай, моя дочь. А по возрасту?
– Сошла бы Вам за жену, – с напускной серьезностью произнесла я.
– Это невозможно, – не восприняв шутку, сказал коллега. – Супруга у меня уже есть. А вот любовницу подыскиваю. Как вы на это смотрите?
– Положительно, – тем же нарочито строгим тоном ответила я.
– Где и когда встретимся?
– На обратном пути в автобусе.
Так и дальше пошло: я всерьез разыгрываю наивность, а Антон Несторович как бы просвещает меня. В тот день его уроки закончились раньше моих. Но он нашел побочные дела. И на обратном пути в синем пригородном автобусе мы сидели рука об руку. Разговор пошел на отвлеченные темы.
– Уже и математики, – тихо молвил (но все его услышали), – своими расчетами доказали, что вид человека остается неизменным вот уже несколько сотен тысяч лет, со времен кроманьонцев.
– Считаете, что биологическая эволюция человечества завершена?
– Это Вам, как биологу, виднее.
– А что мне виднее? Наука не располагает данными о том, что от поколения к поколению улучшается или ухудшается память, воображение, мышление, угасают старые или появляются новые формы эмоций, обостряются или притупляются слух, обоняние, зрение. Однако человечество в целом прогрессирует. Или Вы это отрицаете?
– Только констатирую факт: человек сохраняет некое ядро своих устойчивых признаков.
– Вы имеете в виду: разумность, духовность, этическую ответственность?
– И их тоже.
– Но эти качества являются производными от исторической сущности человека. Индивид меняет, развивает себя.
Вскоре я заметила, что пассажиры автобуса с интересом слушают нашу «умную» дискуссию. Поэтому примолкла, дала возможность выговориться Антону Несторовичу. И к его чести за 40 минут езды он прочел попутчикам что называется блестящую лекцию – о том, что Вселенная не знает ни центра, ни вечных очертаний, безразлична к благополучию человека, и он, человек, – песчинка, невольно ощущает ничтожность своей жизни в холодном и бесстрастном космосе.
На второй городской остановке, пожав руку коллеге, я бросилась к выходу.
– А как мой вопрос? – вдогонку вскричал «лектор».
– Завтра решим, – извинительно улыбнулась я и, соскочив, помахала вслед уходящему автобусу.
Утром с Антоном Несторовичем встретились опять в том же пригородном. Он ехал с исходного пункта и держал мне место рядом с собой. Когда села, слегка обнял и зашептал на ухо:
– Всю ночь не смог уснуть, думал о Вас.
– И я думала о Вас.
– Ну и как?
– Мысли были приятные.
– А у меня не очень.
– По какой причине?
– Вы вчера как-то неожиданно оставили меня с носом.
– Я живу на несколько остановок ближе к училищу, чем Вы. Проезжать мимо своего дома мне как-то неудобно.
– Я мог сойти вместе с Вами.
– Отчего же не сошли?
– Вы не позвали.
– Домой не могу Вас пригласить. У меня, как и у Вас, есть «вторая половина», то есть супруг.
– Тогда давайте сегодня после занятий пойдем в сторону речки. Искупаемся, позагораем.
– Если бы предвидела приглашение – захватила бы купальник. А что, если перенесем удовольствие на завтра?..
И вот на следующий день мы, раздетые до плавок, плещемся в воде. Антон Несторович без животика, мускулист, ловок. Смотрится моложе своих пятидесяти. Мне сорок два. Вижу: нравлюсь ему. Он мне тоже приятен. Но когда обнимает и целует, ощущаю как бы чуждое мне тело. Такое чувство, что я горю, а он холоден. Хотя едва прикоснется ко мне – весь вздрагивает. Лежим рядом, ласкаем друг друга. Но я не позволяю ему снять с меня плавки. Возбуждаемся, млеем, входим в сладостный раж. Но без секса. Наконец, он становится на колени, просит:
– У меня боль внутри. Я так не могу, мне нужна ты вся! Позволь!
– Мы еще мало знакомы, – отвечаю. – Я должна привыкнуть к тебе.
Через две недели мы снова приходим на речку. За истекшее время наша взаимная симпатия укрепилась. Антон Несторович помог мне оборудовать кабинет биологии. Каждый день заглядывал на участок, где я вместе с учащимися сажала заморские растения, проводила эксперименты по тематике уроков. Эрудиция, умение поддерживать деловой разговор с коллегами – все мне импонировало в нем. Но едва оставались наедине, возникал какой-то тормоз, исключал телесную близость.
Вот снова купаемся вдвоем в укромном месте. Антон Несторо-вич прихватил бутылку шампанского. Это мой любимый напиток. Угодил. Разливает, чокаемся, пьем. В хмельном состоянии расслаб-ляюсь. Партнер это чувствует, его охватывает радость. Он действует смелее, не сомневаясь, что я отдамся.
Но этого не происходит. В последнее мгновение ногами отталкиваю мужское тело. После длительного молчания Антон Несторович спрашивает:
– В чем дело?
– Вначале должна быть любовь, а потом секс. Я выросла в строгой семье. С молоком матери впитала неприязнь к особам легкого поведения.
– Но я всерьез. У меня к тебе глубокое чувство.
– Сомневаюсь.
– Чем доказать?
– Разведись с женой.
– Этого сделать не могу. Она очень больна. У нее не работает левая почка, ослаблена функция правой. Развод равносилен убийству.
– Тогда давай целоваться и все.
– Зачем себя мучить? Ведь ты, как и я, давно в семье не исполняешь супружеских обязанностей. Или мне выдали ложную информацию?
– Нет, тебя не обманули. Мой муж – инвалид первой группы. Прежде пьянствовал и на почве алкоголизма стал душевнобольным. Я опекаю его, но с ним не сплю.
– Значит, и ты, и я имеем все основания стать любовниками. Живому не запретишь тянуться к живому.
– Все правильно. Недостает малости – любви.
– А что такое любовь? Это – по Марксу – влечение полов. Оно налицо!
– Согласна. Но сегодня воздержусь… Душа запрещает…
Минула всего неделя – и как я себя проклинала за тот толчок ногами, за эти слова о душе! Ведь я уже любила его, мешал только нравственный барьер. Считала, что оба обязаны вначале оформить развод, стать свободными, а потом уже вступать в интимную близость. Ведь мы педагоги, должны быть примером для детей и для всех окружающих.
Антон Несторович рассудил иначе. Уже на второй день после нашей размолвки присоседился к учительнице химии. А та и рада: с ходу закрылась с ним в своем кабинете. Я услышала возню, вопреки своим убеждениям заглянула в замочную скважину – и увидела распростертые на ковре голые тела.
Как отреагировала? Плакала, горько плакала. Антон Несторович все время обходил меня стороной. А когда месяц спустя уволилась из училища, встретил у входа в мой дом – и вручил букет желтых хризантем. Молча вручил – и удалился. В тот момент я готова была все простить, броситься на шею, закричать: «Люблю!» Но я ничего такого не сделала. Почему? Сработал все тот же тормоз. Теперь, спустя годы, понимаю: поступила правильно. Антон Несторович впоследствии, как мотылек, летал с цветка на цветок, при этом всем любовницам врал о недомоганиях жены.
ЛИЦА ОБРЕЧЁННОСТИ
АМБАР
Преступление Вадима Шулыка, как он собственноручно написал в протоколе допроса, “было совершенно из-за любви”. Это и побудило встретиться с ним в СИЗО. Там я увидел красивого с грустными глазами парня. Его донимал кашель, он был подавлен и расстроен. Правда, яблоки, что я принёс, стал есть с большим аппетитом. И сразу же заговорил о “своём деле”:
- Я не имел умысла сжигать амбар со ста тоннами фермерского зерна.
- Зачем же тогда прибыли из соседней Никопольщины в посёлок Яблоневое?
- Там работает учительницей моя тётя. Я и раньше приезжал к ней в гости. А вообще-то всё в клубок сплелось. Прошлым ле-том в этом амбаре, тогда он был недостроен, я любил уединяться, в те дни, когда у каменщиков были выходные или перерывы в работе. Как-то сижу на поддоне, читаю стихи Абрама Кацнельсона, а из-за наполовину выложенной стены выглядывает девушка. Глаза чёрные, подвижные.
- Что ты здесь делаешь? – спрашивает.
- Подсчитываю, сколько кирпича необходимо, чтобы достроить это зернохранилище.
- Ты прораб?
- Нет. Я – хозяин. А что, не похож на фермера?
- Бледный и слишком молодой.
- А я умом беру. Дружу с книгами. Видишь, советы еврея Кацнельсона изучаю...
Девушка отошла от стены, а спустя несколько минут заходит в амбар с охапкой душистого сена, бросает его на поддон, мы вдвоём утрамбовываем то сено, садимся рядом.
- У меня большие угодья, - говорю. – Если по американским ценам, то такое количество земли там бы я продал за семь милли-онов долларов...
Вижу – девушка обнажила ноги, ложится на спину. Со-блазняет.
Я навалился на неё, хочу поцеловать в губы. А она смеётся:
- Без моего согласия у тебя ничего не получится. - Ногами “легонько” отталкивает, и я, словно мячик, отлетаю на несколько метров.
Неуёмница подхватывается, прыгает на соседний поддон, пляшет в ритме попсы и атакует меня вопросами:
- Как тебя мама зовёт?
- Дмитрием.
- А фамилию имеешь?
- Рубель.
- А я - Ольга Сурду... Родился давно?
- 23 года назад.
- А мне 21 год. Ты ещё не обзавёлся семьёй?
- Ищу подругу.
- А я ищу жениха. Если нравлюсь, ожидай меня завтра в полдень.
Девушка исчезла так же быстро, как и появилась.
Вечером от своей тётушки Екатерины Васильевны я узнал, что родители Ольги переехали в Яблоневое всего полгода назад. Люди не бедные, трудолюбивые. Дочь училась в России, а недавно оформила перевод в Запорожский университет на пятый курс биофака. Я понял, что и впредь надо выдавать себя за фермера. Иначе у Ольги интерес ко мне исчезнет. Дмитрий - тётушкин сосед, его дела мне известны.
Следующий день выдался тёплым, солнечным. Однако Ольга заставила поволноваться – пришла только к вечеру. На ней была юбка, похожая на те, в которых выходят на сцену балерины-лебеди. Бюст туго облегала вязаная майка. Я заблаговременно переместил в тёмный угол два пустых поддона, придвинул их друг к другу, забросал сеном. Но “гостья” с ходу разгадала мои приготовления:
- Ты кого планируешь разместить в этом закутке – кроликов или тёлок?
Я смутился, затих в растерянности. Но она кувыркнулась на се-но, затем приподнялась, обхватывая мою талию и притягивая к себе.
- Почему, - нежно заворкотала на ухо, - своей жизнью управ-ляем не мы, а случайность?..
Я покорился Ольге, обнял её. Не понял от чего, но моё тело охватила дрожь, которая постепенно переросла в непоборимое мужское желание. Я рос болезненным, несмелым. Одни меня жалели, другие унижали. О любви не мечтал, боялся этого чувства. А сейчас от горячности этой девушки мандраж исчез. Мышцы налились пружинной упругостью. Из узкогрудого слабака я превращался в мощного жигана. Таким, это я понял, велела мне стать Ольга. Это она наполнила меня силой, пробудила к страсти.
Весь вечер и всю ночь мы отдавались любви. Те мгновения для меня были настоящим счастьем.
Настоящим, но – недолговременым.
Утром, а это был понедельник, только подхватились и вышли из амбара, вижу, навстречу идёт тот, за кого я себя выдал, – фермер Рубель. Представительный, в шведке, что переливалась бисеринами, с высоко поднятой головой. Он вместе с каменщиками направлялся к зернохранилищу продолжать строительные работы.
Ольга, сжимая мне руку, спросила:
- Кто эти люди?
- Чужие мне…
У тётушки я похлебал вчерашнего супа, в темпе собрал вещи и поспешил к электричке. Фактически я сбежал из посёлка, так как боялся посмотреть Ольге в глаза после того, как откроется обман.
Почему без гордости живу?
Я – Вадим Шулык, беззащитный “челнок”: в одном месте покупаю, в другом продаю. Шесть лет веду такой неприкаянный образ жизни. В десятом классе заболел астмой, аттестата не получил. В армию не взяли. Профессии никакой. А есть хочется. В семье нас трое: мама, я и младшая сестра. Отец умер, едва мне исполнилось 13. Зарплата у мамы всё время снижалась. Вот тогда я и занялся перепродажей, спасая семью от голода. Сейчас сестра подросла, работает. Стало легче. Но я привык “кочевать”. Под стук колёс читаю книги, мечтаю. Вот и в то лето трясся в электричке со своими “кравчучкой” и “кучмовозом”, а в сердце рождались строфы о незабываемой ночи и о нашей “вечной разлуке”…
Однако зимой я столкнулся с Ольгой опять. На сей раз в библиотеке Запорожского университета. Заметьте, пришёл туда с фальшивым билетом студента пятого курса филфака (купил его за пять гривен). По этому билету выдают мне томик Роберта Бернса. Я не вижу, что Ольга заняла за мной очередь, стоит и всё фиксирует. Замечаю её, когда подсаживается к моему столику, вынимает конспект, начинает что-то записывать. Хочу улизнуть, но не успеваю. Девушка хватает меня за плечи, тормошит. Потом обнимает и неотрывно смотрит в глаза так нежно и ласково, что пьянею от радости.
- Не надо, - говорит, - ничего объяснять. У меня настолько сладкие воспоминания о той ночи, что всё остальное не имеет значения. Приходи ко мне в любое время. Я живу в общежитии в 27-й комнате. А у тебя какой адрес?
- Пусть пока он останется загадкой.
- Пусть…
На ступеньках библиотеки читаю стих о нас. Рядом стоят люди, но Ольга не замечает их. Прижимается ко мне, пламенно целует. Я опять, как тогда в амбаре, балдею. Такое ощущение, что душа расширяется, а весь наполняюсь светом. Пальцы девушки шевелятся в моей руке. Лицо у неё красное, сияет.
Но через 20 минут отправляется электричка. Не сяду – придётся ночевать среди метели. Я пожимаю Ольге руку – и на “всех ветрах” лечу на вокзал.
После спланировал свои “челноковые дела”, чтобы иметь воз-можность побыть в Запорожье несколько дней. При встрече Ольга созналась, что тогда в библиотеке хорошо запомнила все данные моего студенческого билета. Радовалась, что оба учимся в одном вузе. Видно было: ни на йоту не сомневается, что я без пяти минут выпускник филфака. Моё же лжефермерство её не смутило.
- Твой розыгрыш, - говорила с юморком, - подтолкнул к знакомству с Дмитрием Рублём. Он симпатичный мужик, хотя ему и 37 лет от роду. Кстати, имел жену, но прошлым летом поехала на курорт и там спуталась с военным. Дмитрий повторно жениться не спешит. Но при моём появлении глазки у него становятся масляными.
- Он лучше меня, - заметил я.
- Это с какой стороны посмотреть. Из тебя можно верёвки вить, а там надо вокруг него виться.
Шутка меня развеселила. Но, как бы извиняясь за подковырку, Ольга несколько раз поцеловала мои глаза, приговаривая:
- Мы с тобой учительствовать будем.
Я поддакнул. Не хватило мужества сознаться, что никакой я ни студент. Мы сходили в кино, на молодёжную тусовку.
Ольга готова была встречаться хоть каждый день, но времени и денег у меня было в обрез. Поэтому в Запорожье стал приезжать всё реже и реже. Это и побудило девушку искать меня на филфаке. Однако там в списках студентов Шулыка не обнаружила. Выявилось другое – моя ложь.
“Допрос” во время очередной встречи Ольга провела по-дружески. Я без утайки рассказал всё о себе, а она сидела рядом, разглаживая мои волосы. Потом пригласила к себе в общежитие, угостила чаем с пряниками. Мы, как всегда, целовались. Но когда сознался, что люблю её, и предложил стать женой, Ольга рассмеялась:
- А как ты, открытый всем ветрам прохвост, представляешь семейную жизнь?
- Получишь диплом – и махнём куда-нибудь в Россию: в Сургут, где нефть добывают, или на Лену, где золота много.
- По каким специальностям будем работать?
- Ты – учителем, а я кем придётся.
- Разве я похожа на перелётную птицу? Неужели не понял, что хочу иметь дом, детей, хозяйство?..
После этой размолвки мы долго не виделись. Время от времени я подходил к её двери в общежитии, но не решался постучать. А когда постучал и зашёл – Ольга пригласила на свою свадьбу в этот самый посёлок, где проживает моя тётушка.
В назначенный день я приехал в Яблоневое и увидел Ольгу в фате рядом с высоким, плотным, немного сутуловатым мужчиной. Это был фермер Дмитрий Рубель – тот самый, в амбаре которого… Помещение он достроил, хранил там посевной материал.
Улучив подходящую минуту, Ольга подошла ко мне:
- Ну как он тебе?
- Нравится. Простой. Надёжный. Но не намного ли старше тебя?
- Мужчина всегда ровесник той женщине, которая любит его, - глаза невесты заблестели, выказывая не то счастье, не то смятение.
А моя душа словно в грязь шмякнулась. Вскоре зазвучало: «Горько! Горько!..” Я закрыл глаза, как соловей во время пения. Птица делает это от упоения, а я, чтобы не видеть, как моя любимая целуется с другим. Под воздействием нахлынувшей обиды выпиваю стакан самогона и демонстративно исчезаю из-под прицела Ольгиных глаз. Через пустырь бреду наугад к электричке.
От движения я бы постепенно успокоился. Но вдруг из-за холма выныривает маленький лошонок. Увязавшись за мной, он жалобно плачет, зовёт матку, которую потерял. Я убегаю - а он не отстаёт… Его пронзительные рыдания ранят душу, как внутренние взрывы. Из моих глаз тоже начинают капать слёзы. Они сливаются с горечью, которая осталась в памяти с детства. Тогда третье подряд воспаление лёгких превратило меня в скелетик… “Если Бог примет тебя сейчас, - утешала бабушка, - в рай угодишь. А при длительной жизни тебе, слабосильному, не сохранить чистоту души…” Мать не дала мне околеть. Приобрела лекарства, насильно запихивала в рот всё, что необходимо для выздоровления. А чтобы прогнать уныние, обхватывала мою голову ладонями и пела… Отчего же её пение опять зазвучало в ушах? Зачем оно объединяется с рыданиями лошонка? Неужели моё естество вошло в какую-то бурю? Кто-то хочет, чтоб я ощутил себя облаком, готовым растаять?.. Меня бросает в жар?.. Я безумею?..
Это нервозное состояние и погнало меня обратно в посёлок. Под покровом темноты я пробрался к амбару. Натаскал сухой соломы. Лихорадочно напевая какую-то песенку, развёл костёр, направил огонь на деревянную пристройку. Затем с остервенением невменяемого бросал охваченную пламенем солому в секции зернохранилища…»
Произнося в СИЗО эти заключительные слова своей исповеди, Вадим рыдал. Его как бы испепеляла жалость к себе. А вот осознания вины в его эмоциях не ощущалось, хотя он вроде бы и сожалел о своей лжи и о сожжённом амбаре. А на суде, как ни странно (видимо, чтобы досадить присутствующей в зале цветущей, невозмутимой Ольге) выкрикнул:“Я не раскаиваюсь в содеянном!”
Вадима Николаевича Шулыка приговорили к шести годам лишения свободы, обязали уплатить потерпевшему 43 000 гривен… А спустя месяц осуждённый задохнулся от приступа астмы и скончался.
«Південна зоря»
ЛИЦА ЧУТКОСТИ
СИНИЕ ГЛАЗА ГАНКИ
житейская история
Как-то по радио о семейных узах рассуждали батюшка и матушка. Последняя искренне созналась, что всегда благоговеет перед мужем, так как ее , в прошлом атеистку, именно он вернул к Богу. «Моя любовь, - сказала она, - бесконечная благодарность.»
Эта радиопередача вспомнилась, когда на днях ехал в скором поезде - и сосед по купе поверял перипетии своих чувств:
- На пляже я сразу ее приметил. Она лежала невдалеке на зеленом коврике, напоминая белую птицу. Когда время от времени устремлялась к воде освежиться, я отрывал глаза от книги и любовался ее гибкой «летящей» фигурой.
Порой незнакомка ловила мой взгляд, но я поспешно отводил его, понимая, что мне, низкорослому, с непривлекательным лицом, тут ничего не светит.
Однако солнце уже на закате, все пляжники испарились, а девушка вроде чего-то ждет. Я решаюсь искупаться. Гляжу – и она приближается к воде. Плывем рядом. Теперь она от меня глаз не отрывает. И я вдруг забываю о своей некрасивости. Под-гребая ближе, беру на руки. Не протестует. Наоборот, припадает ко мне, обнимает за шею. Губы наши сливаются. Опьянев от нахлынувшей страсти, выношу ее на берег, ложу на коврик – и мы до беспамятства наслаждаемся друг другом.
На зорьке она засыпает. Не бужу. Мне, врачу, хочется «осмотреть тело»... Да, у нее редкая красота. Греческого типа лицо строго симметрично, аккуратный, словно выточенный, нос, брови «под шнурочек», лоб без морщинок, щеки с розовым отливом, губы вишневые, чувственные, подбородок небольшой, мягкий. А груди и плечи божественней чем, у Венеры Милосской...
Вот приподнимает веки. На меня смотрят большие, синие и будто искрящиеся глаза... Разве можно их не поцеловать?
Надо одеваться, а я не в силах оторваться от ее сладких губ. Мне не везло в любви. Те девушки, с которыми встречался, видели во мне только будущего мужа. Моя посредственная внешность не пробуждала нежности. А эта - ласкает, целует. Она как бы освобождает мою душу от панциря, раскрепощая. Все мое естество обретает новую силу и какое-то внутреннее свечение.
Но чего девушка внезапно отстраняется? Ее глаза вянут, и слышу дрогнувший голос:
- Ты знаешь, что у меня нет слуха? Я - инвалид...
Видимо, ожидала моей растерянности или полной перемены в отношениях. Но я еще крепче обнял ее, затем написал на чистой странице книги: «Ты для меня дороже солнца. Скажи свое имя».
- Ганка.
«А я Самуил», - написал я на том же листе. И еще больше ощутил слияние наших «я». Я ощутил ее как себя, а себя как ее. Мы как бы стали единой зарей, одним дуновением ветерка. Если Ганка сейчас вскочит и уйдет - я брошусь следом, схвачу в охапку и понесу к себе. Она - мое счастье, моя любовь. А порежет руку - вместе с ней буду чувствовать боль.
Словом, с этой секунды ее беда становится моей бедой. Ищу не выхода для себя, а выхода для нас. Прокручиваю все мои знания по анатомии уха. Уже представляю, как пласт за пластом буду ворошить науку - и избавлю от глухоты мою любимую.
А сейчас цепко сжимаю Ганке руку и тащу вначале к ее родителям, а потом к моим. И со своего дома уже не отпускаю... На свадьбе, подымая тост, всем объявляю, что, прежде чем заимеем детей, я, как врач, обязательно помогу ей обрести слух.
В эти хлопоты окунаюсь с первых дней супружества. А как же иначе? Ведь наши души - одна душа... Кстати, до нашего знакомства Ганка успешно окончила спецшколу. Теперь работает в машбюро крупного предприятия. Я - невропатологом в больнице. Лорврачи, к которым обращаюсь, внимательно ее осматривают. Но приходят к выводу: помочь нельзя. Почему? Ушные раковины в норме, слуховой нерв тоже. Все упирается в головной мозг, где не получил должного развития слуховой центр. Ганка в раннем детстве упала с высоты и после травмы практически перестала слышать. Родители в течение многих лет оббивали с дочуркой пороги клиник и профессорских кафедр, но так ничего и не добились. А теперь что-либо сделать во сто крат труднее.
Но я не опускаю рук. Переключаюсь на нейрохирургов, экстрасенсов, народных целителей. Сам лично овладеваю мастерством массажа, иглоукалывания, гипноза и т.д.
Неуспокоенность не отступает от сердца. И прямо-таки бомбит сознание, когда, целуя синие глаза, нашептываю жене слова благоговения. Когда от наплыва чувств рождаются стихи, а она не слышит и приходится писать их на бумаге, которая «глушит» звучание моей любви.
Но вот однажды попадаю на семинар, где профессор из Франции не только рассказывает, но и демонстрирует на пациентах методики по краниальной мануальной терапии, показывая, как устранять дисфункции костей черепа. Он утверждает, что, используя его приемы, можно в отдельных случаях, когда травма небольшая, возвращать людям зрение, слух, речь, движения.
Говорю с вами, а душа кровит. Такая боль, что плакать хочется. Ганки-то я лишился. Лишился тогда, когда, думал, наступило настоящее наше семейное счастье. Целых два года, применяя методики француза, изучая ее череп и головной мозг, я микрон за микроном высвобождал центр слуха от сжатия костями - в том месте, где в детстве была травма, и, наконец-то, этот центр начал развиваться. Может не только мои руки, но еще в большей мере моя любовь свершили чудо - жена стала слышать. Вот как я. Как вы. И тут я ее потерял.
Я забыл сказать, что она на восемь лет моложе меня. О красо-те, конечно, упоминал. Но пока Ганка была, грубо говоря, с дефек-том - мужики к ней не прилипали. А стала полноценной - нашлись шакалы. Нет, я вру, нашелся всего один - красивый с чистой душой юноша, который полюбил ее. А она, понятно, не устояла.
Она слишком природная, естественная, как растение, как цветок. Вот и расцвело у них взаимное чувство, да такое, что оборвало нашу с ней супружескую жизнь.
Видите: уезжаю из родного города... Я превозмог безумную ревность... Была ночь, когда в темном углу подстерег соперника... Но в последнюю минуту осознал, что я ведь не зверь, а человек, - и убежал от греха... И себя убить не смог... Удержала любовь...
Она продолжает пульсировать во мне. Ненависти нет. И вот, любя, начинаю понимать чувства Ганки и вообще гляжу на любовь как бы глазами вечности... Что она такое? Это ни в коем случае не благодарность. Скорее это жажда. Без нее нельзя. Как без воды. Как без воздуха. Любовь - росток, что пробивает скалу. Ни цепи, ни долг - ей нипочем. Любовь - это воля, свобода!.. Когда душа тянется к тому, другому, а не ко мне, - разве имею право спать с ней, называть женой?
Веками, тысячелетиями отшлифовывалась нравственность гомо сапиенс. Люди первым долгом освободили от всяких оков свои интимные чувства. И вот теперь каждый из нас имеет право выбора, имеет право на любовь. В этом, думаю, высшее счастье человечества. В будничной суете мы этого не осознаем. А ведь это главное достижение земной цивилизации... Я ныне в печали. Но было же ведь?.. Мне более четырех лет освещали душу синие глаза Ганки!
1997.
ЛИЦА ИЗМЕН
БАБНИК
Регину из реанимации только что перевели в обычную палату. Врачи не советовали ее тревожить. Но она сама настояла на встрече с корреспондентом.
- Раны мне нанес, - сказала, утирая слезы, - мой муж, Георгий Грыз¬лов. Мне жалко и себя и в такой же мере его. В браке мы состоим семь лет. Познакомились здесь, в Никополе.
Он ворвался в мою жизнь как какой-то снаряд - и взорвал все преж¬нее. Был у меня жених Алеша. Высокий, плечистый па-рень с голубыми гла¬зами. А этот Жора - небольшого роста, лицо веснушчатое. Однако так ме¬ня закрутил, такой страстью обложил, что и об Алеше, и обо всем на све¬те забыла. Каждое утро к двери букет роз ложит, вечером песни под ги¬тару поет. На тусовках танцует, как змей. Слова и движения у него такие жаркие, так обжигают, что за неделю с ума сошла - и под венец с ним пошла.
Чтоб подзаработать денег, после свадьбы уехали в Зауралье. Пер¬вое время Гоша был идеальным мужем. Пылинки с меня стряхивает, по ма¬газинам бегает, борщи сам варит. Правда, ревнует к каждому столбу. В комнату, которую нам предоставили в общежитии, не впускает ни одного лица мужского пола. Только после того, как родила ему сына Мишу, немно¬го успокоился.
Однако вскоре узнаю, что соседка по общежитию беременна от моего Грызлова. Да и на работе (он таксист) не пропускает податливых баб. Об этом они сами приходили и рассказывали. Я не верила, гнала прочь этих потаскух. А потом Георгий исчез на неделю, нашла его у парикмахерши. И так раз за разом у него любовные приключения. Издергалась я, извелась. А муж как ни в чем не бывало объясняется мне в любви, говорит, что все это легкие флирты, а душа его всегда со мной.
Не знаю, как долго продолжалось бы это донжуанство. Но какой-то мужик застал Жору в постели со своей женой, набросился на него с кула¬ками. В процессе драки Грызлов, который никогда не расставался с ножом, воткнул его в соперника. Тот попал в больницу. Суд влепил Гоше два года тюремного заключения.
От этих событий чаша моего терпения переполнилась. Во время свидания в СИЗО я заявила Жоре, что подаю на развод - и уехала домой в Украину. Но он и тут меня достал. Забросал письмами. Слезно просил сохранить верность, дождаться его освобождения. А в Никополе случай снова свел меня с Алексеем, который до сих пор так и не женился. Проведав о моих се¬мейных неурядицах, он незамедлительно предложил руку и сердце. Но я воздержалась связывать с ним свою судьбу. Решила дать от-стояться чувст¬вам. А когда они отстоялись, то выбор опять оказался в пользу Грызло¬ва.
Сознаюсь: умом я понимала, что Алеша лучше, но... Вот после отсид¬ки Георгий стоит на пороге. Лицо поблекшее, в волосах седина. Просит разрешения пройти в комнаты. Не удержалась: обняла, поцеловала. Коль приехал из далекого края, значит, любит? Переосмыслил свою жизнь? Осте¬пенился?..
Несколько месяцев мы жили душа в душу. Гоша не отходил от сына, во¬дил Мишу на качели, загорал с ним на пляже. Но когда муж (я так и не оформила развод) устроился водителем машины, занятой на ремонте элек¬трических сетей, у него пошли сплошные командировки. И вскоре в каждом селе он обзавелся «женой». Дошло до того, что любовницам отрекомендо¬вывал меня своей сестрой - и те передавали мне гостинцы: сметану, яй¬ца, молоко. Когда отказывалась брать - избивал.
Разве могла я мириться с рукоприкладством?.. Отец подыскал квартиру и перевез нас с сыном туда. Адреса Жоре не оставила. Чтоб не отыскал, поменяла и место работы. Однако этот вездесу-щий проныра каким-то обра¬зом узнал номер моего рабочего теле-фона и стал донимать звонками. Стал предъявлять претензии, что я вроде бы должна ему деньги. Упрекал, что не так воспитываю сына. Требовал сообща обсудить эти проблемы, назна¬чал места встреч. Я, понятно, не приходила. Тогда по телефону он оскор¬блял меня, грозил расправой. 23 ноября я обратилась в милицию. Георгия предупредили, он пообещал оставить меня в покое. Но все равно не пере¬ставал звонить, умолял вернуться к нему.
Как-то ко мне на работу (я медсестра) зашел Алексей. Услышав наш очередной телефонный разговор, порекомендовал согласиться на встречу, вызвался сопровождать. Я поступила опрометчиво, втянув в наши распри Алексея. Ведь этот парень оставался мне просто знакомым. На его попытки сблизиться я не отвечала взаимностью. Держалась на расстоянии. А Геор¬гий, увидев нас рядом, потерял и дар речи и всего себя потерял.
Встреча происходила ближе к полуночи, возле гаражей. Я сидела в сто¬ронке на бордюре. А мужики вроде как на дуэли сошлись. Алексей, на го¬лову выше Георгия, подошел к нему, схватил за ремень и приподнял с та¬кой силой, что - я подумала - зашвырнет на крышу гаража. Услышав мое «ой!», поставил его обратно на ноги и сказал: «Ну, где твой нож? Вынимай! Ты ведь всегда с ним ходишь!» Ответа не последовало. Тогда Алек¬сей махнул рукой и слегка ударил Жору по лицу: «Что, на бабу горазд руки поднимать, а тут струсил?.. Забудь о Регине! Вали к своим шлюхам!»
Я заметила, как из правого рукава Георгия выскользнул нож. Но рука не успела его подхватить. Ножом завладел Алексей - и со всей силы отб¬росил в темноту. Тем временем Грызлова схватил за руку юноша, который пришел с ним, и потянул за гаражи.
Дальше процитирую протокол судебного заседания.
А. Никонов, юноша-свидетель:
- Физическое и моральное превосходство Алексея не подейст-вовало на Грызлова отрезвляюще. Он метнулся к тому месту, где упал нож, нашел его и спрятал в рукав. И сразу же побежал за Региной и Алексеем. Мне еле удалось удержать его от нанесения подлых ударов из-за угла. Злоба не поубавилась, и когда Жора увидел, что в подъезд Регина зашла одна, не пригласив к себе Алексея. Ревность была беспричинной. Но Грызлов продо¬лжал распаляться. В ближнем киоске купил бутылку водки и сам все выпил. Я немного провел его и простился.
Г. Грызлов:
- Дома я долго чаевал. Думал, успокоюсь и лягу спать. Но мысли цепко держались за Регину. В полтретьего вышел и по улице К. Либкнехта направился к ее дому. Подъезд я высмотрел, а вот номера квартиры не знал. Поэтому до рассвета затаился на верхнем этаже. А когда какая-то дама появилась на лестничной клетке, спросил, где дверь Регины. Так убедился, что жена действительно находится здесь. Выбрался на ули¬цу, стал под деревом, надеясь, что Регине понадобится выйти в магазин или еще куда-нибудь.
Р. Грызлова:
- Примерно в восемь утра я собралась ехать к отцу. Выхожу из подъезда - а тут Георгий. «Ну что? - спрашивает, - Алексей лучше меня?» Лицо свирепое, глаза налиты кровью. В панике я попятилась назад. Жора держал правую руку в кармане. Затем, надвигаясь на меня, вынул руку с ножом, ударил меня в область грудной клетки, посередине. Потом выта¬щил нож и еще раз ударил в область сердца под левую грудь. После вытя¬нул нож и стал кричать: «Вызовите «скорую»! Милицию!» Я настолько ис¬пугалась, что поначалу было ощущение какого-то сна. Нож втыкают, а крови нет. В этом же состоянии сна побежала по лестнице вверх, открыла ключом дверь, вызвала «скорую» и... потеряла сознание...
Суд приговорил Георгия Ивановича Грызлова, 1976 года рож-дения, к шестилетнему сроку тюремного заключения. Но поведе-ние Регины на суде было каким-то странным. Она четко отвечала на вопросы, не умаляла вины мужа. Но при встрече с его глазами вся вспыхивала, излучая милосердие. Создавалось впечатление, что, несмотря на все, что произошло, она про¬должает любить му-жа. Еще большее недоумение ожидало ее близких полгода спустя, когда от нанесенного увечья Регина умерла, и они прочитали в ее завещании: «Я все простила Георгию. В последние минуты моли-лась, чтоб в тюрьме не надломилось его здоровье. Чтоб после он был с сыном. Я любила мужа, люблю и на том свете буду любить».
Комментарий православного священника:
- Бог воздействует на человека через его сердце. Сердце Реги-ны не отринуло от себя Георгия, чтобы помочь ему очистить свою душу от скверны. Под воздействием дьявольских сил Грызлов превратился в прелюбодея, семейного тирана, а затем и в преступника. Если он победит в себе зло, станет жить по совести - это будет означать, что сердце Регины совершило земной подвиг - своей любовью исцелило душу мужа.
ЛИЦА СЕКСА
БРАЧНАЯ НОЧЬ
Следователю Н. Викулову впервые за 18 лет работы в органах поручили проверить такое заявление: «Требуем привлечь к уголовной ответственности человека, который довел до суицида нашу дочь…» В качестве доказательства родители погибшей предъявили ее дневниковые записи. Они начинаются со слов:
«Мне, выпускнице географического факультета, дали направление на работу в родную школу, которую, кстати, окончила с золотой медалью. И вот захожу в учительскую – а навстречу высокий брюнет. Протягивает руку и, заглядывая в глаза, представляется: «Учитель физики Демид Захарович Плачков». Лицо невыразительное, глаза тусклые. Ради вежливости я пожала руку, назвалась: «Агния Сергеевна Вербицкая». А он с первых минут как бы зациклился на мне. Стал приглашать в экскурсионный поход, предложил услуги в обустройстве кабинета географии. Хвастался, что за год работы научился держать дисциплину в классе. Если кого из учеников клонит в сон, взбадривает хлопком в ладоши. Для занимательности в учебный материал вплетает анекдоты. «Педагог, – заключил свои рассуждения Демид, – тот же клоун: обязан развлекать, играть, импровизировать».
Может, я бы и дальше с иронией относилась к Плачкову. Но вышло так, что в день моего рождения (я, понятно, из гордости не объявляла о его приближении) никто из коллег, в том числе и официально, меня не поздравил. Один Демид пришел в школу с букетом алых роз, прошествовал с ним прямо в кабинет географии, где преподнес мне в присутствии учащихся. Дети аплодировали, выкрикивали: «Любовь! Любовь!» Мое сердце в те минуты будто надело обновку. Поэтому я не могла отказаться от приглашения на концерт комиков, что приехали в наш провинциальный город из столицы. Мало того, после концерта мы гуляли в парке, пили в баре пиво.
Дальше Демид провел новое «наступление». Явился на наш дачный участок и помог моему отцу вскопать его. От угощения отказался, заявив, что «водки не пьет, застолий не любит, его влечет только одно – работа, работа».
Ближе к весне я заметила, что мой «ухажер» пользуется авто-ритетом у замужних дам. На переменках его угощают яблоками, пирогами. Учительница математики, мать двоих детей, как-то принесла даже бутылку вина. Он отказался. Но когда Демиду согласно графику выпало присутствовать на моем уроке, эта Клавдия Ульяновна (дети прозвали ее «Клушей», а меня, не буду скрывать, «Агнецом») пришла в кабинет географии вместе с ним.
Сели рядом на заднюю парту. Я увлеклась изложением нового материала, но все же заметила, как «Клуша» клала левую руку на правую коленку Демида. Не ускользнул от меня и тот момент, когда она цепким захватом крутанула его мышцу на бедре (так грубые дамы приглашают мужиков к сексу). Демид чуть ли не подпрыгнул от резкой боли, а в его глазах вспыхнула краснота – признак возбуждения. Я дальнозоркая, и все это легко увидела.
Именно эта охота «Клуши» за моим «ухажером» подогрела мои чувства к Демиду. Спустя месяц во время вечерней прогулки мы поцеловались. Видимо, считая, что все бабы одинаковы, он тут же предложил вступить в интимную связь. Ссылался на то, что ему 24, мне 22, в таком возрасте вредно противиться сексу. Но я сказала, что меня воспитали по-другому: на первом месте должна быть любовь, отдаться смогу только тому, кто станет моим мужем. Он принял мои слова как должное – и, грустно улыбаясь, предложил выйти за него замуж.
Я не ожидала такого напора и, краснея, ответила: «Мне надо подумать».
Однако мама, узнав о таком «выгодном предложении», стала уговаривать меня: мол, переборчивые невесты до старости ходят в девках. Уже на следующий день я подошла к Демиду и прошептала на ухо: «Приглашаю в ЗАГС».
Он обрадовался. В субботу приняли наше заявление и назначи-ли месячный испытательный срок. Демид хотел прямо из ЗАГСа повести меня к себе (он снимал комнату у какой-то старухи). Но я не пошла, мотивируя тем, что надо привыкнуть друг к другу. Да и нам пообещали к свадьбе предоставить однокомнатную квартиру в учительском доме. «Вот там, – сказала я, – и начнем семейную жизнь, до этого дня ограничимся поцелуями».
Потянулись обычные дни. Родители приболели, мне довелось бегать по аптекам, варить бульоны для отца, которому неожиданно сделали операцию, удалив аппендикс. В школе Демид каждый день заходил в кабинет географии, дарил мне цветы.
Однако накануне свадьбы Плачков забежал ко мне домой и потребовал: «Одевайся, прогуляемся и обсудим наши проблемы». Майский вечер был теплый, безветренный. Возле речки, куда мы забрели, Демид вытащил из кармана ключи и, бряцая ими, спросил: «Отгадай, от какой они двери?» «От твоей», – ответила я. «Нет, от нашей! Директор авансом вручил их. Пошли, посмотрим нашу квартиру».
Мы поднялись на второй этаж учительского дома. От прежних жильцов в квартире остался один расшатанный стул. Присев на него, Плачков с серьезным видом сообщил:
– Директор дал ключи с условием, чтобы уже завтра дети были.
В ответ на этот «анекдот» я воскликнула:
– Гляди, из щелей какие-то твари подглядывают!
– Тараканье войско? Пли по нему!
Он мигом отыскал в туалете потрепанный веник и со скоростью персонажей мультфильмов принялся подметать мусор, выкуривать насекомых. Затем наткнулся на дырявую кастрюлю, наточил в нее воды и, зажав пальцем дыры, стал заливать щели.
– Но эти звери, – хохотала я, имея в виду насекомых, – не погибнут от воды. Они, смотри, выстраиваются поротно и мар-шируют на кухню!
– Пусть убегают! Хотя бы на часок избавимся от этих скверных старожилов!
Нахлынули сумерки. Демид бросился вкручивать лампочку. Однако неисправный выключатель не позволил ее зажечь.
– Если есть лебеда – темень не беда, – проговорил Демид какую-то «козлиную» присказку. – Я прихватил одеяло и простыню. Сейчас расстелю на полу.
– Зачем? – удивилась я.
– Полежим, помечтаем!
– Не хочу мять выходное платье.
– А мы мигом снимем его.
Он приблизился ко мне, обнял, поцеловал. Умелым движением расстегнул на спине молнию – и я оказалась в одной рубашке.
– Не тревожься, без твоего разрешения я ничего делать не стану.
– Хорошо, – согласилась я. – Помечтаем о нашей будущей жизни.
Когда легли рядом, Демид, не спрашивая разрешения, в грубом темпе занялся моими плавками. Ощутила, как участилось его дыхание. Возле меня, отметила с испугом, входит в сексуальный раж жестокий самец.
– Стой!!! – мой крик оборвал его эмоции. – Мы еще не муж и жена! Сегодня я не хочу этого!
– Почему?
– Я – девственница. Это большой подарок мужчине. Его заслуживает только законный супруг.
– Но я без пяти минут твой муж. Нам необходимо попро-бовать. Вдруг не подходим друг другу. Что тогда делать?
– Разведемся!..
Демид без особого настроения провел меня домой, сухо поцеловал – и мгновенно исчез.
А я, мечтательница, осталась стоять у калитки. Задрав голову, более часа топталась на месте, с упоением рассматривая небесные светила, особенно те, что знала по учебникам. Затем потянуло в ближний сквер к вербе, которую еще в детстве выбрала в «родственницы». Обняла ее, как много раз обнимала за 22 года своей жизни. И вдруг за кустами слышу голоса.
– Ты впал мне в око с первого взгляда.
– Полюбила?
– Это что-то другое. Я люблю мужа. Кроме того, у меня есть друг, который много лет за мной ухаживает, холостяк, между прочим. А тебя жажду целовать, жажду ложиться под тебя. Ни с кем в жизни под кустами не трахалась, а тебя сама сюда затащила.
– А перед этим выследила?
– Есть такой грех. Я несколько часов наблюдала за вашей квартирой – с того момента, как зашли туда. А когда увидела, что вышли не в обнимку, поняла: секса не было. Вот я его и пред-ложила тебе. Избавила от болей в этих ваших мужских органах, когда баба трется, целует, а не дает.
– Точно – спасла! Спасибо!
– Всегда готова «лечить». Моя квартира этажом выше вашей. Если что, заходи или позови.
– Не надейся, это последний наш секс.
– Опротивела?
– Понимаешь, души не чаю в Агнии. Очень люблю мою Агнульку…
Когда мужской голос назвал мое имя, я наконец-то сообразила: за кустами Демид с «Клушей»… Минут пять не могла шевельнуться. Потом – побежала.
Бежала почему-то к дальнему светлому пятну. Им оказался освещенный со всех сторон танк на пьедестале. «Даже это орудие войны, – пронеслось в уме, – не ограничено механической функ-цией, сейчас вон служит чему-то возвышенному. Почему же у людей на первом месте функция – секс, например. Неужели эта функция главнее души? Главнее мечты, любви, счастья?
Ночью не могла заснуть, металась, плакала. Возбуждение спало только к утру. Это солнце, что появилось в окне, своим теплом потеснило холод уныния. Оно же высветило выход: измену стоит простить.
В девять часов на пороге появился с цветами Демид. Его глаза искрились неподдельной нежностью. Может, мелькнула мысль, ничего плохого не случилось? Может, у вербы не реальность была, а наваждение, галлюцинация?
Не только от солнца, в этот день утешительные лучи исходили и от Демида. Он упреждал все мои желания. Регистрация брака и свадебное гулянье прошли без сучка и задоринки.
Уже к вечеру мы уединились в нашей квартире. К тому времени мои родители привели ее в божеский вид. Стоят шифоньер, двуспальная кровать. На столе – белые георгины, шампанское.
Демид откупоривает бутылку, наполняет бокалы. Пьем за любовь. После приема душа ныряю под одеяло. Муж тоже ополаскивается, ложится рядом.
Но едва его руки прикасаются к моему телу – взрыв в сознании: вижу кусты и голую «Клушу» в его объятиях. Тогда сбежала, не зафиксировала момент измены. А теперь будто обрела дар ясновидения – и они передо мной сплелись, спариваются… Отталкиваю от себя Демида, вскакиваю с брачного ложа. Тошнота забивает дыхание. Нутро вроде колючей проволокой выворачивают. Во рту горькая блевотина.
Успеваю заскочить в туалет. После рвоты рези в желудке по-степенно затухают. Но спазмы в горле не проходят. Рядом стоит муж, предлагает вино. Небольшими глотками выпиваю подряд два бокала. Он подхватывает меня на руки, возвращает в постель.
Его ласки на какое-то время успокаивают. Но вот целует соски, проводит ладонью по бедру – и новый взрыв тошноты. Блюю прямо на простыни.
– Что с тобой? – спрашивает.
– Не знаю (не скажу же ему, что меня преследует это гадкое видение его измены?)
– Я готов выполнить любое твое желание.
– Отпусти меня на эту ночь к родителям.
Демид искренне проникся моим страданием. Помог одеться. И даже позволил (я настояла) уйти без его сопровождения.
Я дошла до калитки родительского дома – и там спохватилась: что скажу папе и маме? Врать не умею. А правда зачем им? Зачем им мой позор? Болезни на них навалились, а теперь еще и я?.. Коль вышла за Демида – надо все терпеть. Люблю ведь его. А коль так, боль лучше закупорить в сердце. Нельзя ее расплескать, давать пищу для сплетен.
Меня опять потянуло к «родственнице»-вербе. Обняла, излила горести в ее плакучую душу. А после с облегченным сердцем направилась обратно – к школьной квартире: «Если простила – надо спать с Демидом. И это должно произойти сейчас – в брачную ночь!»
От этих мыслей уменьшилась головная боль. Какую-то силу в себе почувствовала. А когда в нашей квартире увидела свет – выпрямилась, уверенным шагом зашла в подъезд: «Демид тоже переживает, не спит».
Дверь оказалась приоткрытой. Я тихо, как мышка, проскольз-нула в прихожую. Сняла туфли и куртку. Захожу в комнату – и немею: в постели лежит голый Демид, а верхом на нем сидит голая «Клуша». Я закричала, но крика не услышала: он рвал душу, но наружу не пробился. Память помутилась. Чувствую только, что оседаю на пол, а где-то глубоко в подсознании кружится картинка: волк спаривается с волчицей.
Пробудила меня вода, которой плеснули в лицо. Открываю глаза – надо мной склонилась уже одетая Клавдия Ульяновна. Она по-матерински заботливо массирует мне голову и приго-варивает:
– Не плачь, детка. Демид любит тебя. А я просто подстави-лась. Когда ты сбежала – он был в отчаянии. А я сняла ему стресс – вот и все.
– Вчера под кустами тоже спасала?
– Откуда ты знаешь?
– Случайно наткнулась на вас.
– Ну, коль так, не стану скрывать. Влечет меня к этому чистому мальчику. Он вроде лучика света в моем темном царстве. Мой муж – владелец солидной фирмы, дамы перед ним стелятся. Мне перепадает не чаще одного раза в месяц. Дача – на мне, сын и дочь – на мне, свекровь – на мне...
– Но влезть в чужую брачную ночь!
– В жизни и не такое бывает! Учителя истории видела? Урод, а с ним спит жена директора, а тот спит с его супругой – опять-таки уродиной. У завуча роман с уборщицей, которая старше его на 20 лет… И так – кого ни возьми. В своих чувствах человек – многовекторный. Сегодня мне по душе Демид, завтра – еще кто-нибудь. Не думай, что ты из иного теста. Будут, обязательно будут и у тебя разные мужчины. Уверена: Демиду сотню раз изменишь. Вот детей предавать нельзя. Ради них мой муж (и он молодец) не бросает семью. Я ему, а он мне все прощаем. Так что я – примерная жена.
– Жить во лжи и считать себя праведницей?
– Твое обвинение – наивное, детское. Вот ныне меня тянет к Демиду. Мои мысли, мои чувства – ему. В чувствах нет лжи. Все остальное – условности. А у тебя разве не было перемены чувств? Помнишь одноклассника Анатолия (я о тебе многое знаю), он же тебе до сих пор письма пишет? А однокурсника по пединституту Сашу забыла? Ты более года с ним по театрам бегала, а потом он нашел тебе замену. И это хорошо! Иначе любовь заплесневеет, перестанет стремиться к новизне. Перестанет радоваться жизни, творить, созидать.
– Выходит, измены существуют ради перемен?
– Это опять-таки упрощенный взгляд на жизнь. Та же измена директорской жены обусловлена не жаждой перемен, а сексуальным влечением. Красивых тянет к уродинам, а тех, в свою очередь, к красивым. В интимных чувствах предательства нет. Просто у человека меняется вкус, он попадает в водоворот новых влечений, ощущений. Убить их невозможно. Они сильнее нас.
– А как же мне быть сейчас?
– Демиду я посоветовала не появляться тебе на глаза дня три. У тебя есть время все перечувствовать, передумать, взвесить и оценить. Он готов хоть сейчас стать перед тобой на колени, вымаливать прощение. Для Плачкова ты – божество. Я же подло ему навязалась, подловила. Каюсь! Ради вашего с Демидом счастья я уеду из города. Мой муж давно мечтает перебраться в областной центр. Ничто не будет напоминать тебе о нашей стычке. Советую сберечь семью, родить детей. Скажи себе, что ты ничего не видела, ничего не знаешь. Ведь, если бы не знала, – сердце не подняло бы бурю. То есть за твоим гневом стоит условность. Преодолей ее, отбрось! Ты же любишь Демида?
– Безумно люблю!
– Значит, это чувство поможет погасить обиду, не поддаться панике. Секс – это физиологическая потребность человека. Как еда, дыхание. А любовь – творение души. Если муж трахает другую – не беда. Бойся, чтобы он не полюбил эту другую…
Клавдия Ульяновна ушла. А в моем сердце продолжает кипеть вулкан. Да, многие люди живут так, как изобразила эта «матема-тичка»: в мещанстве, пошлости и душевной гнилости. Они не осознают, что лечь в постель без любви – это скотство, это удел животного, а не человека. Что, и мне так жить? И мне забыть, что я – Богом поднятое над всеми существо? И мне превратиться в шлендру? Нет, никогда! Я люблю Демида и умом готова все ему простить… Но душа не подчиняется. Ей легче сгореть в этом огне, нежели плюхнуться в грязь. Душа просится в чистое небо. Вот допишу эти слова – и приму яд».
Следователь Н. Викулов проверил и подтвердил все факты, изложенные в записях Агнии Сергеевны Вербицкой. Однако ни в одном из кодексов не нашел статьи, по которой Демида Захаровича Плачкова можно было бы привлечь к ответу. Поэтому заявление родителей погибшей оставил без последствий. Правда, Плачков после этих проверок уехал из нашего города. Если это самонаказание – то оно справедливое.
P. S. По этическим соображениям имена и фамилии в тексте изменены.
ЛИЦА ВЕРНОСТИ
ЦВЕТОК ПОДСОЛНЕЧНИКА
Поезда я уже догнать не мог. Стоял и смотрел на пожилую женщину, бодро ма¬хавшую рукой вслед уходяще¬му составу. Потом мы разго¬ворились. Узнав, что я коман¬дировочный и отстал от поез¬да, Софья Кирилловна Пуза¬тая (так назвалась женщина) предложила заночевать у нее. «Не сидеть же на станции до утра...»
В темноте нельзя было рас¬смотреть ее лица, и я всю до¬рогу почему-то думал: у такой доброй женщины оно обяза¬тельно должно быть веселым и нежным. Когда же в комнате в ярком электри-ческом свете я увидел его — от неожидан¬ности оторопел: морщины гу¬стой сеткой сжали щеки, пе¬чать испуга и недоверия засты¬ла в неподвижных черных зрач¬ках.
Поняв причину моей скован¬ности, Софья Кирилловна стала рассказывать.
- Забрали бы моего Лариона на фронт, может, я бы и не столкнулась с горем. В сорок первом его оставили для борьбы с оккупантами здесь, в тылу.
Как сейчас помню, ночью 26 ноября в нашу хату ворвались полицаи.
- Подымайся, ты аресто¬ван! - с порога закричал один из пришельцев, долговязый в каракулевой папахе.
Ларион одевается, а двое шарят по закуткам. Переверну¬ли все вверх дном. Оружие ис¬кали.
- Побыстрей, коммунист! — торопил долговязый.
Когда увели его, я потуши¬ла керосиновую коптилку, села возле окна и при свете луны принялась пороть подушку.
На какое-то время я забы¬лась в полусне. Вдруг грохот сле-тевшей с петель двери под¬нял меня на ноги. На пороге опять стоял полицай в караку¬левой папахе.
Полицай замахнулся, и ру¬коятка пистолета ударилась о мою голову. Я упала...
Из беспамятства меня возвратил шепот Ульяны. Сестра, видно, хлопотала надо мной уже давно. Ибо когда я пришла в себя, оказалось, что лежу не на полу, а в постели. Заметив, что я шевелюсь, Ульяна сообщила:
- Схваченных ночью комму¬нистов с минуты на минуту по¬гонят в Днепропетровск.
Вскоре мы уже шли в толпе причитавших женщин вслед за арестованными. Ветер пронизы¬вал насквозь, обжигал лицо. Мысли роились вокруг смертей, что принесла война.
В город входили в сумерках. Полдня этапной дороги утомили конвойных. От усталости и холода они обозлились. Когда мы оказались на Широкой улице (ныне улица Горького) у входа в отделение гестапо, размещавшееся там, где сей¬час контора мелькомбината, нам не разрешили даже попро¬щаться с мужьями. Тогда муж¬чины, рискуя жизнью, сами бросились к женам. Обхватив меня закоченевшими руками, Ларион прошептал, уга-дывая тревожные думы: «Крепись! На¬ши возвратятся, обязательно возвратятся...»
Уже пели первые петухи, ко¬гда на горизонте показалось Сурско-Литовское. Наконец-то хаты. Но что такое? В первом дворе прохаживается часовой: дом заняли немцы.
— Тетя Соня! Арестовывают всех, у кого мужья коммунисты. Вас повсюду ищут!
Сестра сказала:
- Убегай в степь.
Набросив на себя, что было под руками, я выскочи¬ла из хаты. Бежала огородами, балками, ярами. Все время оглядывалась: не гонятся ли? Когда же за горизонтом скрылось село, и в лицо пахнул степной ветер, впервые за эти дни почувствовала прилив бод¬рости.
Я шла и мечтала, как в юно¬сти. Шла и клялась, что все снесу, но врагу не поддамся. «Вот здесь можно и землянку вырыть, — поду-мала я, ступив в лесозащитную полосу, — но это завтра, а сегодня...».
Рядом на ниве лежали копны пшеницы. До прихода гитле-ровцев колхозники не успели их обмолотить, и теперь обильный урожай пропадал под дождями и снегом. Я приподняла по-крывшийся ледяной коркой верх одной копны — в ноздри ударил удушливый теплый пар. Не долго думая, снесла в одну кучу не-сколько ледяных шуб, и залезла под них. Уснула мгновенно.
Утром вылезла из гнилой со¬ломы совершенно ослабевшей и простуженной. И тут меня забрали рыскавшие по степи полицаи.
Ничего в жизни я не видела страшнее фашистской тюрьмы. Истощенная, больная, я еле передви¬гала ноги. Вместо лекарств меня уго¬щали шомполами, вместо теплой по¬стели давали непо-сильную работу на холоде. Опухшая, обмороженная, я тупела от побоев, становилась совер¬шенно безразличной ко всему окружаю-щему. Только после сна немного от¬ходила. В такие минуты щупала бу¬рок и, убедившись, что красная кни¬жечка - оставленный мужем на хранение партбилет - на месте, мечтала о встрече с Ларионом, размышляла об одном и том же: «Выживу».
Нас отправили на борьбу со снеж¬ными заносами. Расчищали за горо¬дом железную дорогу. После похлеб¬ки, похожей больше на жидкие по¬мои, чем на картофельный суп, лопата казалась тяжелее лома. Я знала: остановлюсь на секунду — не подымутся руки. Поэтому старалась ма-хать размеренно, ритмично. И вдруг - то ли от физического перенапряжения, то ли от голода, то ли от тоски по свободе, то ли от того, что вокруг простиралась безбрежная степь, а мо¬жет, от всего разом—у меня нача¬лись галлюцинации.
Вместо снежной глади передо мной поплыли волны подсолнеч-ного поля. Нежданно-негаданно рядом выплыва¬ет озорное знако-мое лицо:
- Ларион!
- Соня!
Таким когда-то был первый день нашей любви. Мы росли в одном селе, но я как-то не замечала этого смеш¬ливого парня. И так, однажды, свела нас степь. С той минуты лучшими часами нашей жизни стала пора цвете¬ния подсолнечника. Мы приходили к нему помечтать...
Почему же сейчас перед глазами прошлое? Но пусть! Пусть подольше останется со мной подсолнечное поле и Ларион. Что есть духу рвусь на¬встречу, бросаюсь в его объятия...
Но что это? Удар прикладом. Опро¬кидываюсь навзничь. Вровень с сугро¬бом снега—свирепое лицо конвойного и дуло нацеленной на меня винтовки.
- Партизанка!—орет немец.
Мое тело молотят прикладом, а я смотрю в синее небо. Сейчас грянет выстрел, и все кончено. Меня пронизал страх, словно ток высокого напряжения. Сколько я в тюрьме? Месяц... На тридцатый день уже ничего не остает¬ся, вот и все от человека. Глаза за¬волокло пеленой.
- Спа-си-те!!!
Сбежались заключенные. Кто-то подступил к конвойному и, показывая на меня, с мольбой заговорил:
- Драй киндер! Драй киндер!
Больше ничего не помню. В себя я пришла уже в камере. Заключенным, оказывается, все-таки удалось угово¬рить немца, убедить, что я не убега¬ла, что у меня была галлюцинация - здесь так часто это случалось, что к этому привыкли... Хоть каждый еле стоял на ногах, люди несли меня це¬лых три километра к машине. Словно знали, что спасают не только меня.
Как я была им благодарна! Но чувство признательности не заглушало испуга. Мне все время виделась мушка винтовки, ловящая мою переносицу, и палец на спусковом крючке. Когда сообщили, что сестра принесла передачу, и мы можем встретиться, я опять задрожа¬ла, как в лихорадке. Мы привыкли: тот, кому разрешают свидание с род¬ственниками - в камеру не возвраща¬ется. Таким способом непригодных к труду заключенных гитлеровцы выво¬дили на расстрел.
Идя под конвоем, уже не сомнева¬лась - на казнь. Старалась взять себя в руки, приготовиться к смерти, но никак не получалось. Да, что я гово¬рю. Разве к этому можно привыкнуть? Даже когда увидела Ульяну - душа не стала на место. Мое лицо, видно, уже к тому времени превратилось в ужасную незнакомую маску. Сестра ничего не сказала, только смотрела на меня и плакала. Потом она усадила меня на топчан и принялась стаски¬вать бурки. Значит, и Ульяна не забы¬ла о красной книжечке. А когда сест¬ра взамен бурок натянула на мои рас¬пухшие ноги свои теплые сапоги, я совсем забыла, что через несколько минут меня должны убить.
- Спасибо, — сказала. — Если воз¬вратится Ларион, передай, что я жи¬ва.
Меня не расстреляли. Но на лице навсегда остался след от много раз пережитой смерти.
После выхода из тюрьмы я вместе с Ульяной еженедельно ходила на Ши¬рокую, носила Лариону передачи.
Работники гестапо охотно принима¬ли передачи, но свиданий не разре¬шали, даже записок арестованным не соглашались передавать. Как-то я су¬нула дежурившему у входа молодень¬кому солдату гостинец и стала пока¬зывать жестами, чтобы разузнал, как чувствует себя мой муж, назвала фа¬милию. Постовой сходил в помеще¬ние и, возвратясь, ответил:
— Эр арбайт (он работает).
И раньше меня успокаивали таки¬ми словами. Я объяснила свою трево¬гу. Тогда солдат приложил руку к сердцу и заверил, что обманывать не велит ему совесть: заключенные ско¬ро возвратятся, я могу увидеть мужа собственными глазами.
Обрадованные, мы с Ульяной реши¬ли дождаться счастливой минуты. Все время находились поблизости, чтобы не прозевать, когда будут вести за¬ключенных. Но совсем стемнело, а их все нет и нет. Тогда я обратилась с наболевшим вопросом к проходив¬шим мимо городским женщинам.
— Зачем вы носите продукты? — изумились они.—Вашего мужа давно расстреляли. Они убивают их здесь, во дворе. Кого на второй, кого на третий день после ареста...
Значит, уже больше года мы отры¬ваем от своего рта последние крохи и кормим убийц Лариона? Какими надо быть людьми, чтобы смеяться над чу¬жим горем, потешаться над самым святым.
Не помня себя, я метнулась к отде¬лению гестапо. У входа уже горел фо¬нарь. Прохаживаясь взад-вперед, мо¬лодой немец играл на губной гар¬мошке.
- Где мой муж?..
Гитлеровец не ответил, он молча по¬ложил в карман гармошку, взметнул над головой автомат и с улыбкой, как будто угощал конфетой, ударил при¬кладом. Я упала, потом снова вскочи¬ла, в припадке отчаяния и гнева го¬товая броситься на него. Ульяна по¬чувствовала недоброе и оттащила ме¬ня в темноту.
С того дня кого ни встречу, спрашиваю, не слыхал ли что-нибудь о Ларионе. Освободили наши Днепропет¬ровск—побежала на Широкую. При¬близилась шагов на десять до той страшной двери и остановилась, как вкопанная: из здания выходит совет¬ский солдат такого же роста - в профиль точь-в-точь Ларион.
- Вы здесь впервые? — спрашиваю и теперь уже вижу, что это не «он».
- Да.
- Не знаете, из этого здания осво¬бодили заключенных?
- В подвалах никого не нашли. Сохранились только слова, написанные кровью на стенах: «Мы погибли… Люди, отомстите за наши муки!..»
Обратно шла, шатаясь, как пьяная.
... И теперь, когда цветет подсолнеч¬ник, выхожу в степь и брожу часами.
Днепропетровский район, село Сурско-Литовское.
«Днепровская правда»
20.04.1968
ЛИЦА ПОДВИГА
ПАМЯТНИК СОЛДАТСКОЙ ВДОВЕ
— Я вижу его среди без¬брежной степи. На невысоком пье-дестале, который как бы сливается с колосящими¬ся вокруг хлебами, идет за плугом разгоряченная рабо¬той мать, а дети, держась за подол ее платья, бросают под лемех семена. Она на¬блюдает за зернами, что ло¬жатся в грунт, а ребятишки с тревогой смотрят в небо, откуда падают бомбы и, вы¬секая молнии, гремит гром. Повседневный труд сделал лицо женщины волевым, а руки сильными. Ее твердая поступь полна веры в то, что ненастье пройдет и пашня, впитывая лучи солнца, зазе¬ленеет благодатными рост¬ками жизни.
Так говорит член кол¬хоза имени Орджоникидзе Н. Гордиенко, первый его председатель, который руко¬водил хозяйством тридцать два года, подымал его из пепла войны вместе с неуто¬мимыми труженицами — вдовами-солдатками.
А вот мысли нынешнего председателя правления кол¬хоза имени Тельмана того же Никопольского района А.Копаницы: «Мы уже решили увековечить в граните под¬виг наших женщин, которые не дождались с фронта му¬жей. Это будет фигура скорбящей матери с ребен¬ком на руках».
Более десяти миллионов женщин нашей страны сде¬лала вдо-вами война. Им вы¬пала самая трудная судьба. Стремясь при-близить победу, они работали и за себя, и за погибших любимых. Кто жил в те годы в селе, помнит, как женщины впрягались в бороны и сеялки, как вруч¬ную обмолачивали снопы пшеницы. А разве забудутся героини, заменившие мужей у станков, у плавильных пе¬чей и конвейеров, выпускав¬ших оружие для фронта?!
Не счесть подвигов, совер¬шенных вдовами. Но самый боль-шой из них — это таин¬ство нежности, переданной детским сердцам, лишенным отцовской ласки. У меня и сейчас перед глазами мои ровесники из родного села Хутор-Чаплине Васильковского района: Саша Билык, Гриша Кравченко, Коля Ски¬дан, Галя Хоменко, Боря Дробот, Володя Жук, Коля Коваленко... Они, их сестры и братья приходили в школу опрятно одетыми, подтяну¬тыми. Материнская доброта и любовь помогали успешно учиться, взрастили их мо¬рально здоровыми, честными.
«Спасибі, земле, спасибі, нене, що добра доля була у мене!» — напишет Виктор Корж, отец которого «ушел в огонь». Это образ своей матери поэт перенесет во многие стихи и скажет так проникновенно:
В оцих гінких полях
упав колись боєць,
він сивій жінці
мариться ночами...
Біжить за обрій шлях,
і вироста чебрець –
трава вдовиної печалі.
Не только печаль, но и слава должна прорасти на нашей земле тем, кто принял на свои плечи всю тяжесть послевоенных лет, построил дома и посадил сады на пе¬пелищах, оставленных фа¬шистской ордой. Поэтому с особой теплотой мы говорим сегодня об агитаторах колхоза имени Горь¬кого Никопольского района, которые в период подготовки к 35-летию Великой Победы посвятили многие беседы судьбе вдовы. Это по их инициативе в селе Покров-ском состоялся вечер чест¬вования солдаток. На нем бывший фронтовик, предсе¬датель колхоза Н.Галайда сказал:
— Правление приняло по¬становление, по которому каждой колхознице, муж ко¬торой погиб за правое дело, будем доплачивать к пенсии 20 рублей.
На встрече вспомнили, как 9 февраля 1944 года жи¬тельницы села — жены крас¬ноармейцев-фронтовиков по¬могли воинам 243 -й стрелко¬вой дивизии переправиться через реку Подпольную и освободить Покровское.
Е. Балыхина рассказала о своем муже, павшем смер¬тью храбрых в Молдавии, о сыне Владимире, который, работая в колхозе агроно¬мом, за достижения в труде награжден орденом.
Вдовам вручали подарки. Им посвящали стихи, песни. Тимуровцы местной школы взяли обязательство шефст¬вовать над этими женщина¬ми.
И вот уже хорошая ини¬циатива, словно на крыльях, пере-неслась во все села Ни-копольского района. В брига¬дах и на фермах повели речь о том, что сол¬датская вдова служит при¬мером для нынешней колхоз¬ницы — в трудолюбии, без¬заветном служении Родине. В Красногригорьевке и Дмитриевке в своих беседах вос¬создавая обстановку после¬военных лет, рассказывают о М. Моска-ленко и Р. Логвиненко. По четверо детей - мал мала меньше - остава¬лось у них на руках. Но ду¬хом не пали. Работали там, где наиболее трудно: броса¬ли снопы в молотильный аг¬регат, грузили мешки с зер¬ном. А М. Ковалева и А. Ма¬лая впрягались в тележку и вдвоем возили пшеницу за десяток километров.
«День был для работы. Получив похоронку, мать-кормилица только ночами могла дать волю слезам», — говорила ведущая на вечере в честь солдаток в колхозе «Дніпро». На нем поименно назвали пятьдесят пять жен¬щин, оставшихся без мужей. Дарья Ганноченко, Мария Зеленская, Пелагея Сухая, Дарья Софиенко, Марфа Бойко, Анна Полянская, Да¬рья Блажиевская...
А потом огласили решение правления: всем производить доплату к пенсии, бесплатно выдавать топливо, транспорт для перевозок, освободить от уплаты за электроэнергию, радио и т.д.
С искренним одобрением встретили люди такое же решение в колхозе имени Тельмана и других хозяйст¬вах. Уверен, что оно найдёт распространение в республи¬ке и за ее пределами. Пусть рядом с воином-освободите¬лем встанет на постаментах неутомимая труженица - солдатская вдова. И не надо безымянных памятников. Все героини — известны. Так пусть же их лица, высечен¬ные из мрамора и гранита, отлитые в бронзе, своим оду¬хотворением освещают наш путь. Сто, двести, тысячу лет... Женщина-мать, зака¬ленная в пламени военных невзгод, взрастила богаты¬рей нынешнего созидания. Земной ей поклон от на¬шего поколения!
«Днепровская правда»
02.04.1980
ЛИЦА ТЬМЫ
«НЕ БУДЕШЬ СО МНОЙ –
УБЬЮ!»
- Помню, - продолжает рассказ В. Барабаш, - весной исчезла начальник бюро пропусков завода ферросплавов Людмила Пихай-ленко. Мать, на руках которой осталось двое ее детей, обратилась с заявлением о розыске. Однако поиски ничего не дали. Была только небольшая зацепка к ее бывшему мужу Алексею. Но он отрицал какую бы то ни было причасность к ЧП. И вот я, почувствовав, что его что-то угнетает, стал расспрашивать о детях, об их отношении к нему. Оказалось, что дети не от него. А с Людмилой знаком еще с юности. Его мать шила ей, тогда еще школьнице, платье. Пытался ухаживать, всячески стремился завоевать доверие. Но его заурядная внешность и узкий кругозор помешали. Людмила вышла замуж за другого. Вскоре и Алексей женился. Но не перестал думать о ней, не терял из виду. И вот у нее не сложились отношения с мужем - развод. Он тоже оформил развод и снова предложил руку и сердце. Рассчитывая на глубину его чувств, она решилась связать с ним судьбу. Он во всем уступал, даже взял ее фамилию. Но вскоре проявились отрицательные черты его характера: не умеет строить ровные отношения, все делает по-своему, даже если не прав. Через три месяца расстались. Однако он не оставил Людмилу в покое, приходил к ней на работу, упрашивал сойтись. В тот день люди видели, как Алексей подъехал к заводу, она села к нему в машину – и поехали. После этого Людмилу больше никто не видел.
- Где расстались? – спрашиваю.
- После того как покрасили ограду на могиле ее бабушки, я отвез Людмилу в Никополь, высадил, где попросила.
Это уже в десятый раз возвращаю подозреваемого к тому моменту – и, вижу, не выдерживает, теряется. То есть в человеке, как в глубине бушующего вулкана, зреет взрыв. Внутреннее напряжение требует выхода, разрядки. Восемь часов ведь беседуем. Он уже молит, чтобы ударили его или посадили в камеру. Но я продолжаю:
- Дети вырастут и никогда не смогут принести на могилу матери цветы. Ты лишил их даже этого.
Вскакивает со скамейки, кричит:
- Я убил ее после того, как наотрез отказалась жить со мной! Поехали, покажу, где зарыл!..
За окном полночь. Идет обложной дождь. Но этот “пиковый” миг нельзя утерять. Если отложить поездку до утра, преступник может отказаться от признания, уйти, как улитка, в “раковину”... Садимся в машину, и едем в сторону Орджоникидзе к пустынным отвалам Чкаловского карьера. Колеса буксуют в раскисшей глине. Выходим из “УАЗика” – молнии и гром раскалывают небо. Льет, как из ведра.
- Здесь?
- Вроде тут...
Обходим один склон, второй – ничего нет.
- Где?!
- Не могу сориентироваться при такой погоде...
Опять едем.
- Кажется, на этом спуске...
Исходили несколько километров карьерных отвалов. Про-мокли до нитки. И вот – наконец-то – фонарь поймал выгляды-вающую из глины женскую руку...
* * *
Ничего не скажешь... Тревожные будни у уголовного розыска. Вот только одно сравнение: за октябрь нынешнего года в Никополе совершено столько же преступлений, сколько в 1980 за полгода. Нагрузка по их раскрытию до того возросла, что оперативникам приходится работать по 15 часов в сутки.
01.11.1990.
“Днепровская правда”.
P. S. 30 декабря 1996 года Барабаш, к тому времени полковник, начальник Никопольской криминальной милиции погиб от бандитской пули.
ЛИЦА РАССВЕТА
НЕ ОСТУДИ СВОЕ СЕРДЦЕ,
СЫНОК
Уже полночь. А я не сплю. Вспоминаю…
- Младший сержант Волян!
- Есть!
- Три шага вперед!
- Есть!..
Это я выхожу из строя, чтобы принять благодарность лейтенанта Козлова за отличное выполнение операции по разми-нированию пшеничного поля. Ловко придумал помкомвзвода. Он знает, что я пахарь. Поэтому и затеял укладку мин на колосящейся ниве. Мол, пусть твоя крестьянская душа затрепещет, узнав, что взрывы могут уничтожить урожай. Верно рассчитал, не только руками, но и душой я обезвреживал мины. Действовал с таким напряжением, что даже забыл, что это учение. Понадобились счи-танные минуты для выполнения задания.
- Молодец, Волян!
Лейтенант, знаю, будет долго хвалить меня. А потом шутками посыплет. Хорошо, весело с ним. Но все же, Козлов, не надейся – сверхсрочно служить не останусь, не агитируй. Ты видел, как весной распускаются вербы?.. Я, как птица, лечу на мотоцикле, а нежные пряди ветвей лицо мне ласкают. Не выдерживаю: глушу мотор и обнимаю печальное дерево, уронившее желтые косы в голубую воду… Не видел он, командир, наши пруды! Нет, не останусь сверхсрочно. На отлично же тут все делаю потому, что иначе не могу. Мой дед Ярослав погиб в сорок третьем, защищая родную землю от фашистской орды. Отец назвал меня его именем: значит, я как бы лоза из его корня.
Еще раз бьют часы. Но сон по-прежнему не берет. Перед глазами оживает новая картина…
- Смотри, какой он нынче яркий! – Валя показывает на Млечный путь.
- Это он, - отвечаю ей в тон, - привел меня домой. Теперь я – в запасе.
Вот уже час стоим среди поля. На том самом месте, где еще школьниками встретились. В то давнее воскресенье я вышел в поле просто так. Но путь взял отчего-то в сторону Красного Тока – села, где жила остроглазая девчонка по имени Валя. Она училась в школе в нашем селе Запорожец, и на переменках я все время натыкался на ее смешливый взгляд. В тот день она тоже бродила степью. Так, не сговариваясь, мы пришли на свидание. Рвали васильки, бессмертники. Плели венок.
А теперь – ура! – мы уже взрослые. Валя окончила проф-техучилище. Я – отслужил в армии.
- Давай уедем куда-нибудь в тайгу, - говорит девушка.
Я глажу ее рассыпавшиеся по плечам волосы и долго смотрю в глаза. Не знаю, что она видит на моем лице. Но оно в этот миг жи-вет той детской радостью, когда восьмилетним пареньком я впер-вые взялся за штурвал трактора. Отец въехал на гусеничном во двор, оставил невыключенным мотор, а сам убежал по какому-то срочному делу. Мать стала сетовать, что шум двигателя поразгонял кур. Я был тут и говорю: «Подсади на трактор!» Она улыбнулась, но просьбу выполнила. Сев за руль, я без промедления вспомнил, что, где включал родитель, когда брал меня в кабину. Трактор бод-ро затарахтел. Я вывел его со двора, заглушил мотор. Отец, когда возвратился, не поверил. Но я убедил его в своих «способностях» тем, что тут же завел его мотоцикл и поехал по селу. Может, врож-денное это: стоит раз увидеть, как кто-то обращается с техникой – и точь-в-точь воспроизвожу все операции? Поэтому в школе легко овладел профессией тракториста, в армии – специальностью сапера-разведчика.
- В четырнадцать лет, - говорю Вале, - мне в нашем колхозе «Зоря комунiзму» доверили самостоятельно водить комбайн. Разве отсюда я могу куда-то уехать?
Она опускает руки с моего плеча, разглаживает ими китель, касаясь пальчиками знаков воинских отличий:
- Может, в город махнем? Твои способности везде пригодятся.
Знаю, Валя хочет остаться в селе. Просто живет в ней дух противоречия. Ни с чем не может согласиться.
- Ну а против свадьбы не возражаешь?
Она улыбается: поняла. Целует меня.
Горланят первые петухи. А мне все не спится…
- Что? Уже на работу, Ярослав? – удивилась Елена Ивановна Логвин. – Ведь только семь дней, как погоны снял!
- Надоело гулять, - отвечаю. – Разрешите в мастерскую, с отцом к жатве комбайн готовить.
- Ну что, солдат, заступай на трудовую вахту! Но прежде получи 1200 рублей подъемных. И запомни: женишься – дом колхоз тебе выделит.
Добрая у нас «колхозная мама»: двадцать лет председателем, а душой – простая, человечная. Ее слова всегда окрыляют.
Жатву я начал на «Колосе» в паре с отцом. У него опыт, у меня – сила. В течение дня обойдет нас Граков на два круга, а ночью, ког-да отец спит, я поднажму – и в бюллетене опять первое место. Воз-ле фермы, помню, трудное поле нам выпало. Бугристое, камни на каждой загонке. За сутки пять раз выходила машина из строя. Но меняли сегмент быстро. Отец поддерживает зубило, а я молот-ком орудую. Десять минут – и заклепки готовы… 700 тонн зерна намолотили за десять дней. Нет, не усну я сегодня. Так всегда было после радостных волнений: демобилизации, свадьбы, вселе-ния в колхозный дом. Даже когда орех посадил в новом дворе, чтобы «начать» им сад, тоже долго не спал.
…Вот будильник звенит. Пора. Не разбуди Валю. Ей позже на работу. Приготовил себе завтрак и – к трактору. Сегодня предстоит возить молоко с приемного пункта. Опаздывать нельзя. Там ждут… Откуда эти слова «Не остуди свое сердце, сынок». Вспомнил, из песни.
- Вот, пожалуй, и достаточно на сегодня. А встретимся в другой раз, можно будет и продолжить.
Ярослав Антонович Волян протянул мне руку и заторопился по своим делам.
Апостоловский район.
«Днепровская правда»
1.01.1980.
ЛИЦА РАЗВРАТА
…И СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА
«СВИНЦА»
У Горького есть такое выражение – «свинцовые мерзости». Лучше всего, пожалуй, оно подходит и к ситуации, о которой пойдёт речь. А началось всё с равнодушия, безразличия, попус-тительства.
Из постановления следователя: «9 марта 1991 года примерно в 8 часов в доме по улице Ковельской в городе Никополе обна-ружен труп Любови Николаевны Ярошенко, 1952 года рождения».
Из показаний мужа – П.К.Ярошенко:
«8 марта в честь праздника жена принесла откуда-то две бутылки водки. И мы до обеда их выпили вдвоём. После двух часов к нам в гости с бутылкой водки пришёл Иван Пахомов, который и прежде не раз бывал у нас».
Из показаний И.Пахомова, 1955 года рождения, газосварщика передвижной механизированной колонны № 4, ранее судимого: «Семью Ярошенко знаю три года. Вначале познакомился с Петром. Затем – с его женой. Ходил к ним в гости где-то раз в месяц. Иногда выпивали. Люба мне понравилась как женщина. Когда не заставал дома мужа, вступал с ней в связь. Наша близость началась примерно полтора года назад и продолжалась до последнего времени. Говорила несколько раз, что муж ревнует ко мне. На этой почве избивал, а также бил и по другим причинам. Когда я заглянул к ним 8 Марта – они уже были в нетрезвом состоянии. Я тоже до прихода к ним выпил в общежитии, где проживаю, 200 граммов водки. Мою бутылку сели распивать в зале. Пили поровну. Закусывали хлебом и ещё чем-то…»
Из показаний матери погибшей – М.Л.Шевяковой, пенсионерки: «Люба и Петр жили вместе с 1971 года. Пили оба. Пристрастились к спиртному лет десять назад. С начала восьмидесятых годов находились на учёте, как алкоголики, в межрайонном наркологическом диспансере. После выпивок у Любы нередко появлялась белая горячка. Три раза она проходила курс лечения в Никополе и раз в Днепропетровске. Но пить не бросила. Были случаи, приходила ко мне, жаловалась, что муж избивает. При этом у неё были синяки под глазами. Говорила, что он её и ногами избивает. Но я ни во что не вмешивалась».
Из показаний П.Ярошенко: «Я, пьяный, лежал возле стола. А когда пришёл в себя, то увидел Ивана и свою жену… Я поднялся и куда-то ударил Пахомова. Он куда-то ударил меня. Я понял, что с ним не справлюсь, и выскочил на улицу. Однако через время дёрнул дверь, но дверь оказалась запертой».
Не станем утомлять читателя дальнейшим описанием «свинцо-вых мерзостей», тем паче, что представить дальнейший сюжет нетрудно. Муж попытался выкурить любовников с помощью огня (бросил в открытую форточку горящую бумагу), но, не достигнув цели, ушёл куда глаза глядят. Возвратился, когда жена была уже одна. Тут и разыгралась трагедия. Ярошенко, как сказано в прото-коле допроса, ударил жену «кулаком в область живота разов пять», после чего «она вскочила и сразу же упала… лицом на разбитую бутылку».
И вот другой документ – характеристика с места работы. «На Никопольском подсобном производстве треста «Днепрметаллург-монтаж» П.Ярошенко в качестве слесаря работал с 1979 года. Повышал квалификацию, осваивал смежные профессии. В 1987 году был назначен бригадиром комплексной бригады по изготовле-нию металлоконструкций.Зарекомендовал себя добросовестным и исполнительным тружеником, является наставником молодых рабочих. За хорошие показатели неоднократно поощрялся. Пользуется уважением в коллективе».
И, собственно, сам приговор: «Ярошенко Петра Климентьевича признать виновным по части третьей статьи 101 Уголовного кодекса УССР, назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы. Принимая во внимание, что преступление подсудимый совершил на почве алкоголизма, страдает хроническим алкоголизмом, нуждается в принудительном лечении, а также лечение ему не противопоказано, суд считает необходимым применить к нему статью 14 УК УССР…»
Осталось несколько слов для резюме. Оно, как ни крути, будет грустным: большинство «свинцовых мерзостей» делается в пьяном виде. И всё чаще эта порция «свинца» приводит к смерти. «Мы, - пишет кандидат химических наук О.Лебедев (журнал «Изобретатель и рационализатор», №10, 1990 г.), - дошли до предела. Здорового народа у нас сейчас на 35 миллионов меньше, чем было всего населения в 1915 году. Тогда так не пили, а среда обитания не была отравлена. В мире есть развитые, есть развивающиеся страны. Мы – страна вырождающаяся. Подвижка генофонда – это посерьёзнее всех наших бед. При достижении… критического уровня она станет необратимой».
17.08.1991.
«Днепровская панорама».
ЛИЦА МАЛОДУШИЯ
Памяти Николая Дробота
КУЧУГУРЫ
Прошло семь лет, как от меня ушла жена. Пять из них нигде не работаю. Живу случайными доходами: подношу к базару грузы, собираю бутылки... Два рубля в день хватает на 200 граммов какой-нибудь жидкости, чтобы погружаться в алкогольное безразличие. Родные дети: дочь Тамара и сын Владимир - обходят стороной. Стыдятся. Нестиранная, помятая одежда еще ничего. Но лицо превратилось в некую маску дикого, страшного человека. Давно не смотрюсь на себя в зеркало, так как противен сам себе.
Ныне еще и по-другому болен. Две недели назад простудился: сильный кашель, высокая температура. К врачам не обращаюсь. Лежу в постели (благо квартиру пропить нельзя - государственная). В душе да и в теле жуткий огонь. Выпить хочется так, что когтями рву на груди кожу. О тебе бы не вспомнил, если бы из стопки старых газет не вывалился блокнот с фотографией и адресом. Так что это письмо - вместо водки, а точнее - предсмертное отрезвление.
На снимке, что дала мне 30 лет назад, ты, Катенька, с длинной черной косой. Лицо открытой деревенской девчонки. Но одновре-менно в нем и, в особенности, в больших карих глазах буяет сила весны и страсти... Вот пишу, а в висках стучит одно и то же: если бы не разъединились наши судьбы - я был бы другим человеком.
Как сейчас, вижу сельский клуб. Вот заиграл баян. Начались танцы. При тусклой лампе трудно разглядеть собравшихся. Тем более, что почти все - незнакомые студенты, прибывшие на уборку кукурузы. Я тоже в то время был студентом. Но приехал в родное село Вишневое с иной целью - пройти практику в местной школе, так как заканчивал химфак и готовился стать учителем. И вот в полутьме заметил твои глаза. Нет, они не горели, как угли, а как бы мерцали и, казалось, влияли на интерьер, из убогого и тесного превращая его в просторный и приятный. Когда после долгих колебаний пригласил на вальс - глаза не потухли и не вспыхнули, а продолжали с той же незаметностью украшать будничность обстановки, создавать привлекательность твоей небогатой одежде. Ты, как и многие, пришла в клуб прямо с поля: в ватной фуфайке и запыленных шароварах. На мою шутку: «Из какого концлагеря вас пригнали?» откликнулась без предубеждений:
- Из Днепропетровского медучилища.
- Будущие сестры милосердия?
- Нет, зубные врачи.
Я оголил фиксу, что портила мне рот:
- Прошлой осенью вместо больного зуба выдернули здоровый. Надеюсь, и ты применишь в работе такой же «юмор»?
Сдержанно улыбнулась, открыв ровные белые зубы:
- Мне этого не позволит любовь к профессии.
- И я влюблен... - фраза осталась недосказанной. Танцы закончились. Но я задержал в своей твою левую руку - и мы вместе вышли из клуба.
По небу густо расцвели звезды. Нас повела как бы не дорога, а Млечный путь. Я узнал, что зовут тебя Екатерина Федоровна Стадниченко, ты из села Зачатовка Софиевского района нашей области.
- А когда родилась?
- Сейчас.
- Не может быть!
- Да, я появилась на свет именно в вечернее время.
- А если конкретно?
- Сегодня у меня день рождения.
- Сколько исполнилось?
- Восемнадцать.
У ближайшего палисадника я сорвал пучок хризантем - и поздравил. Приняв цветы, ты не отстранилась - и я неумело поцеловал тебя в губы. При этом осознал, что еще в клубе они потянули к себе, это из-за них тогда оборвал фразу.
Чтобы унять волнение, воспроизвел в лицах анекдот о бедных студентах. Не забыла?.. Поезд стоит на парах. За секунды до отправления в вагон, качаясь, заходит парень. Он настолько худ и бледен, что похож на привидение. Да еще волочит объемистый мешок, который затем с большой осторожностью громоздит на незанятую полку... Когда состав трогается, пассажир напротив, съедаемый любопытством, спрашивает: «Далеко едешь9» «В село Вишневое, - расплывается в улыбке парень. - К родителям. Я студент. Вот только сдал сессию». «Ну и как?» «На стипендию!» «А что в твоем мешке шевелится?» «Это товарищ - сдал на повы-шенную.»
Потом, «перевоплотившись» в радио, я торжественно сообщил, что сегодня в честь твоего совершеннолетия на околоземную орбиту выведен новый искусственный спутник. Задрав головы, повели поиск, перебегая взглядом от созвездия к созвездию. И свершилось чудо - на южном склоне небесного купола увидели огненную точку, что плыла между звезд с востока на запад.
- В самом деле спутник! - воскликнула ты, и такая же «точка» засветилась в твоих глазах.
Мы оба как бы ощутили причастность к окрыляющему душу полету. Да и если бы спутника не было, а был бы только полет твоих глаз, лучистых и кротких, мое сердце не потеряло бы той ду-ховной высоты, на которую поднялось. Ибо в него проникла ма-гия твоих чар - оно озарилось, как небо звездами, и велело запом-нить: и звон кузнечика в траве, и дуновение луговой прохлады, и могильные кресты под свечками тополей, и прикосновение к щеке длинных ресниц, и пронзающую сладость внезапного поцелуя
Такое ощущение, что мы одни во вселенной... Вновь и вновь прикипаю к твоим губам, воспринимая тебя, как упавшую с неба звезду, как огонь, без которого навсегда остался бы в темени одиночества. Ведь до встречи с тобой душа изнывала в сиротстве. Порою жить не хотелось. Это уныние длилось не день и не два. Целых три года барахтался в безответной любви. И сжился с тем, что оковы вечны. Но вот твои глаза за пару часов превратили их в прах, позвали к свободе, подняли над буднями и несчастьями - и закружили, как тот спутник, над землей.
А хата, где ты обитала, на удивление была приземистой и скособоченной. На ее фоне твоя красота выглядела инопланетной. Я испытал какой-то внутренний озноб, новое тревожное оцепенение. И почему-то не назначил повторного свидания. Простился будто с цветком, лепестки которого за неделю отпадут - и увидеть его уже будет нельзя.
Но возвратясь через десять дней в Днепропетровск, сразу же принялся искать тебя. Направился в медучилище. Там подтвердили, что студенты из колхозов возвратились. Однако номера твоей группы я не знал и оказался в положении чудака, что пытается ловить рыбу голыми руками... «Продежурив» более часа у входной двери - удалился ни с чем.
А на следующий день, удрав с лекций, поспешил на площадь Островского, сел на шестой номер трамвая и поехал к твоим Кучугурам. Так ты назвала дорогу от трамвайной линии к поселку Новое Клочко. Пролегала она по песчаному пустырю, где выси-лись горы угольного шлака и других отходов металлургических заводов. Здесь, на извилистых тропинках, и надеялся встретить тебя. Из отрывочных фраз я все же выудил, что квартируешь в этом поселке у родной тети - и после занятий топаешь сюда.
Проскочил двухкилометровый отрезок, туда, обратно, изучил всю неприглядность Кучугур - но ты все не появлялась. Когда вдалеке на изгибе главной, как мне показалось, тропинки возникла женская фигура - я устремился к ней. Однако вскоре перед глазами предстало сшитое по последней моде драповое пальто с шикарным каракулевым воротником. Оно совсем не «перекликалось» с ватной фуфайкой, в которой ты была в селе, - и я поубавил шаг.
Усталый и разочарованный, уже намеревался повернуть обра-тно, но случайно заметил тугую черную косу, что, выбившись из-под платка, свисала до самого пояса, - и ахнул: ты! И стыдно стало за свою, хотя и не рваную, но все же порядком поношенную стеганку - подарок старшего брата. Душу окутало такое смятение, что впору бежать без оглядки. Ты же, будто почувствовав мое «пораженческое» настроение, остановилась - и вся обернулась ко мне. Широкие глаза стали еще шире. Прилив света, что наполнил их, - тут же шквальной волной накрыл меня. Я обнял тебя и осыпал пылкими поцелуями. А когда восхождение чувств достигло «девятого вала» - сделал паузу и, слабо понимая самого себя, сказал:
- Прости, но нам суждено расстаться. Есть девушка, на кото-рой обязан жениться. Она ждет ребенка.
Твои глаза стали жалобно суживаться. По щекам потекли крупные, как горошины, слезы. Их специфический вкус вполне ощутил, так как не дал упасть на землю ни одной капле. С завидной ловкостью перехватывал губами - и выпивал.
На обратной дороге Кучугуры предстали до боли милыми и родными. Ничего, что уродливы и пустынны. Зато в душе пробу-дили ростки благоухающей надежды. Они набухли какой-то звеня-щей искренностью, что не вмещалась в отведенном объеме и рва-лась наружу, кроша на своем пути затвердевшую обыденность. То пробивались к жизни поэтические строки о «выпитых слезах», что своей горечью пропитали каждую клетку и постепенно отрави-ли душу печалью и любовью. Ведь не было никакой девушки, кроме тебя. Не имел никаких грехов, кроме безмерного болезненно-го желания пробудить ответное чувство. И оно возникло - я читал его в твоих зрачках, слышал в надрывном шепоте, ощущал во вздрагивающих пальцах.
Три дня жил в шторме неведомо откуда нахлынувшей и с головой окутавшей меня поэзии, выхватывая из шквала нежных слов самые нежные. На четвертый пришел в Кучугуры и - эти стихи прочитал тебе
Все, если смотреть с высоты нынешнего опыта, я сделал правильно. Допустил только маленькую ошибку, заверив, что нет у меня никого, что ты - единственная. Это оборвало цепь твоих переживаний, так необходимых для развития чувств. Твоя душа, как всякая в таких случаях, жаждала страданий, препятствий - а я все хищно выхватил для себя. После каждой встречи сжигал сердце в стихах, а тебе предоставлял возможность плыть по течению готовых куплетов. Они приятны, волнуют горячим прикоснове-нием. Но, когда расстаемся - пищи для возникновения сомнений, питающих душевные порывы, остается очень мало.
Не увеличивали ее и «Крошка Дорит», «Гений», «Красное и черное», «Воскресение» и другие книги, что приносил. Ты что называется проглатывала их, прочитанное знала почти наизусть. Но мне в тех впечатлениях, по всей видимости, отводилось косвенное присутствие. Ведь по своим данным я не Жульен Сорель и даже не князь Нехлюдов, а обычный простолюдин с неуклюжи-ми манерами и копной волос, схожих на ячменный колос. Наша дружба крепла. Но та волшебная, как флейта, нежность, что была прежде, стала терять неповторимые звуки и краски.
А душа, однажды испытав, уже почему-то не могла жить без них. Зрел протест.
Как-то февральским вечером вышел на проспект Карла Маркса, смотрю - грузины цветы продают. Купил связку ландышей. Мокрый снег хлопьями падает. Одет неважно. Пожалуй, лучше завтра махну на Новое Клочко. Да и свидание на сегодня не назначено. Но вдруг какой-то глубинный коварный толчок, исходящий из того самого еще не осознанного протеста, не дал опомниться. Словно подгоняемый ветром - я на ходу вскочил в трамвай и помчал к тебе.
В Кучугурах, когда вьюга порядком остудила и вколотила в мозги: простуды не избежать - подумал: а не повернуть обратно? Но спрятанные в рукаве ландыши звали вперед. Я ускорил шаг, а затем что есть мочи побежал по глубоким сугробам. Одновременно руками тер уши, чтобы не превратились в ледышки. Снег с открытой головы перестал сбивать. Бесполезно. Новый тут же залеплял шевелюру.
Собака, к счастью, узнала. Без труда пробрался к заветному окну - постучал. Ты выскочила на крыльцо без платка, в наброшенном на плечи пальто. Увидев цветы, как-то растерялась и долго вдыхала их лесной запах. Волосы не были заплетены в косу, а ниспадали на плечи и развевались, как у русалки. От этого глаза, постепенно расцветая, становились похожими на сгустки моего счастья. Резко обняв тебя, я принялся бешено их целовать. Под козырьком крыльца в самом освещенном месте двора мы оказались будто на сцене. Но зрителями были одни порхающие снежинки. Давно не чувствовал такого ни с чем не сравнимого упоения в объятиях и умопомрачительных засосах. Язычок твой был до бесконечности сладок и ароматен.
После получасового опьянения взаимной нежностью ты зашептала на ухо:
- Я после бани... Простыну... Давай прощаться.
Еще раз прижав тебя, напоследок ощутил в язычке такую притягательную ласку, что чуть не заплакал от счастья и от необходимости расстаться. А после поцелуя, будто дьяволом заведенный механизм, - артистично отстранился и с каким-то отчаянным размахом врезал пощечину. Не взглянув на результат своего действия, соскочил с крыльца и, отворив калитку, сгинул в снежном вихре.
Палящее удовлетворение и холодный страх, а затем искреннее раскаяние - сменяясь одно другим - в каком-то бесконечном калей-доскопе терзали сердце всю дорогу. Ведь я не хотел, а все же при-вел в исполнение, возникшую в подсознании «программу»: если первой пожелаешь прервать свидание - дам пощечину. Пружиной такого «отмщения» была все та же неудовлетворенность, протест.
Давно знал, что в самой идеальной паре кто-то любит больше, а кто-то меньше. Но душа не желала смиряться с такой «неравно-правностью» - с тем, что ты все пассивнее откликалась на мои интимные порывы, не впитывала их, а как бы рассеивала, охлаждала.
Но уже лежа на общежитской койке, как ни стремился - оправданий себе не находил. Вспомнил выпитые слезы, твою детскую открытость, ранимость. И понял: нигде, ни в ком не встречал столько искренности и правдивости, доброты и мягкости. И защемило в сердце раскаяние. Оделся, вышел в прилегающий сквер. Бродил меж залепленных снегом (простуда, кстати, не по-явилась) деревьев, как неприкаянный. Иступленно рыдал, просил у тебя прощения. Переливал скорбь в стихи:
Прости, хорошая, прости. Я не хотел тебя обидеть. Я лишь желал среди зимы Цветы нетленными увидеть.
Теперь думаю: если бы стихи действительно были «нетленны» и сделали твой образ бессмертным - оскорбление я бы искупил. Но все мои сочинения - однодневные мотыльки. А тогда мнил себя поэтом. И когда спустя три дня встретил тебя в Кучугурах, и увидел печальное, отчужденное лицо - внутренне обиделся.
Ты же слушала ссылки на какого-то демона, что влез в душу помимо воли и велел ударить по щеке, и - не желала верить в эту чушь. Порой поглядывала задумчивыми глазами: а не псих ли? И только когда прочитал, раз и второй, покаянные стихи - лицо неожиданно покраснело, словно у школьной отличницы, не понявшей пустяковой задачки. Постепенно ты вся озарилась, повеселела. И позволила взять за руку.
Но на свидание, назначенное на воскресенье, - не явилась. Исколесив вдоль и поперек Кучугуры - уже в который раз прохо-дил мимо вашего дома. Собака узнала и откликнулась дружелюб-ным «Гав!». А из людей - никого, хотя дверь веранды на улицу открыта... Вот опять на минуту замер у калитки. Но теперь не напрасно: из сарая возникла хозяйка - твоя тетка. Прежде с ней здоровался, но особо не рассматривал. А сейчас отметил, что по-крестьянски ширококостная, сильная, в лице - воля, ум. Привет-ливо улыбаясь, спросила:
- Вы к Кате?
- К ней.
- Она заболела. Заходите, проведу.
Я помялся и не очень уверенно стал открывать калитку.
- Смелее, молодой человек, - подбодрила. - Мы все Вас хорошо знаем и симпатизируем. Видите - через минуту ухожу из дому - а доверяю, как родному.
Вслед за ней я шагнул в прихожую, снял пальто и шапку.
Указав рукой на комнаты, тетя подождала, пока туда на-правлюсь, - и удалилась, плотно затворив за собой наружную дверь.
Отыскал тебя в узкой спаленке. Ты лежала на металлической кровати. Глаза закрыты, руки вразброс. Лицо пылает не то от вы-сокой температуры, не то еще от чего. Остылыми ладонями касаюсь щек и нежно целую в губы. Но не шарахаешься, не вскакиваешь. А плавно обвиваешь мою шевелюру, притягиваешь к себе. Ты ждала, а, может быть, и жила этим мгновением.
После бесконечно ругал себя за то, что не проявил мужских качеств, не дал воли позывам инстинкта. Не сорвал с тебя одеяло, не насладился девичьим цветением. 23 года - а по житейским сооб-ражениям, считай, подросток. Развлекался игрой в святые чувства, в обожествление женщины. Не доходило, что ты - слабый пол, жаж-дущий чужой силы. Что в настоящей любви поцелуи - преддверие огромного божественного храма обладания друг другом, удовольст-вий, блаженств. Не войти в него - не узнать высшей истины, не свя-зать женщину цепями наслаждений, которые крепче клятв и молитв.
Не предполагала и твоя тетя, что я такой лопух. После, встре-тясь с ней через шесть лет в доме твоей мамы в Зачатовке (к это-му еще вернусь), понял, как благосклонно ко мне относилась, и все делала для того, чтобы мы поженились. Ее бывалый взгляд видел, что боготворю тебя. Только в ее возрасте (теперь моем) уясняют, что для крепости семьи важнее всего любящий муж. Ее рационализм учитывал и то, что я на последнем курсе университета, завтрашний специалист, определившийся в жизни человек.
Но я, тупица, даже не догадался, что в тот день теряю. О же-нитьбе, семье абсолютно не думал. Мне достаточно было видеть твои кроткие глаза, касаться теплых рук, целовать припухшие гу-бы и сосать сладкий язычок. Правда, азарт позвал к чуть оголив-шейся груди - но твое резкое движение корпусом и скрип кровати обескуражили (Теперь понимаю, что то была естественная реакция самки, у которой началась течка, и самец, если он сильный самец, обязан проявить максимум настойчивости и добиться своего). Я же отступил. Принялся гладить твои плечи, затем читать стихи. В таком целомудренном общении не заметил, как пролетело не-сколько часов. Ведь ты - Родное Божество - была рядом, а о большем не мечтал.
Спохватился, когда вернулась хозяйка дома, быстро оделся и ушел.
Через несколько дней в Кучугурах начал таять снег, появились оголенные холмы. Мы всходили на них, пытаясь найти подснеж-ники. Но на песчаной почве, пропитанной промышленными отхо-дами, ничего не росло, кроме кустов кволой лозы. Я срывал желтые тростинки с пушистыми, похожими на крошечных цыплят, пупырышками и вкладывал в твои руки. Поначалу ты брала их с поклоном, одаривая благодарным взглядом. Затем без особой отзывчивости.
Находившись вдоволь, мы становились с неветреной стороны шлаковых отвалов - и, обнявшись, молчали. Мне было покойно и блаженно в том таинственном беззвучии. Но со временем стала озадачивать твоя замкнутость. Прежде была активной и звонкой. Твой доверительный голос звучал, как мое второе я. Живописно рассказывала о сельских новостях, о смешных случаях в стоматоло-гической поликлинике, где проходила практику. А теперь все боль-ше на лице прорезалась печать немоты и какой-то неразгаданной грусти. Порой на мой вопрос бросала въедливую реплику. Это, как вихрем, взбудораживало. В стихах появились строки:
Не говори мне грубых слов.
Их от любимой слушать больно.
Ты лучше глянь на синь ветров,
Что нежно шепчутся по полю.
Стихи, наполненные тревожным чувством, оттепеляли твою душу. Руки снова как бы пробуждались, поглаживали мне волосы, сжимали пальцы. Но «поэтического допинга» хватало ненадолго. Через какой-то временной интервал ты опять уходила в себя, сникала. Все чаще укорачивала свидания, ссылаясь на необхо-димость готовиться к занятиям. Только в поцелуях, оставалась, как прежде, горячей и щедрой.
Не желая смиряться с такими перепадами настроения, что сжимали, как прессом, - однажды я сыграл что называется ва-банк. Объявил, что мои чувства угасли. Мол, никого у меня нет, но встречи стали натянутыми, скучными - и нам лучше расстаться. Ожидал, как когда-то осенью, увидеть слезы. Но твои глаза не увлажнились. Лишь скорбно потемнели, что-то дрогнуло в них, надломилось. Но вслух ничего не сказала, не возразила и не попросила. Только прощальный поцелуй был лихорадочно продолжительным и с какой-то трагической чувственностью.
А меня три дня душила обида, исторгая из сердца слова:
Когда до унижений долюбил,
Теряя гордость всю свою -
Во мне хватило только сил
Сказать, что больше не люблю...
Однако когда стих был окончен, и я мог явиться с «повинной», - вдруг захотелось сделать перерыв во встречах. Дескать, если разрыв приняла близко к сердцу - то любовь (теперь стал понимать это) от передряг, как растение от рыхления почвы, окрепнет, разрастет-ся. Да и надо было заканчивать дипломную работу: время поджима-ло. Вот и пришел я в Кучугуры только через три недели. Цветы, что принес, тебя обрадовали. Стихи - еще больше. Ты отнесла в дом сумку с учебниками - и мы пошли гулять по весенним тропинкам.
Боязнь, что могу потерять тебя навсегда, что из-за моих душевных вывихов знаться со мной не захочешь - побудила к новым переживаниям, и я, как бы заглядывая в будущее, написал в те дни еще и такие строки:
В лугах, где бродили мы с Вами -
Весной разрастется трава.
В местах, где, резвясь, целовались -
Цветами повьется земля.
Где ж слезы разлуки упали -
Я знаю, цветам не расти.
В том месте тоски и печали -
Одни неживые пески.
А мы продолжали ходить по этим пескам. Слушая мое стихо-творное «пророчество», ты чуть наклонилась - и не уловил: то ли печаль прятала, то ли улыбку. За эти три недели, оказывается, дважды побывала в Зачатовке. В том числе на свадьбе у своей школьной подруги, где познакомилась с парнем по имени Гриша. Он работает в Донбассе шофером, высокий, стройный. Сходу вцепился в тебя, почти силком тянул в ЗАГС. Но ты предложение не приняла. А три дня назад зарулил сюда на грузовике, хотел переночевать. Но тетя не позволила загнать машину во двор - и он ни с чем уехал.
Это уже в последующие дни душу обожгли вопросы: если у вас ничего не было - зачем давала адрес? Тетя не разрешила, а ты, значит, согласна была?.. Но в тот вечер мне достаточно было твоей мягкой уступчивости и чуткого радушия. Ты как бы воскресла для меня, для моего вдохновения. То, о чем говорили, почти не улавливал. Воспринимал только интонацию голоса. А он звенел, как апрельский ручеек: раскованно, с какой-то отзывчивой поспешностью. Успокоительно подействовали и засосные поцелуи. Забалдел от них, как от большой дозы наркоза? И мы как бы обоюдным дыханием установили, что встретимся опять через три недели, так как у тебя начинается сессия, а у меня защита дипломной работы и госэкзамены.
Только когда расстались - печаль глубокая и безжалостная пронзила душу. Думал, за Кучугурами исчезнет - ан нет, днем и ночью, как открытая рана, кровоточила. Отсюда немотивированная вылазка в частные сады за клубникой, что едва не завершилась трагедией: хозяин увидел меня, я, готовый на убийство, обнажил нож, еще шаг - но он отступил... Отсюда после отличной защиты дипломной еле вытянутые на тройки государственные экзамены. Отсюда жажда немедленно поехать к тебе: сажусь в трамвай, добираюсь до Кучугур - но дальше не иду... Ревность к тому незнакомому Грише останавливала, требовала оставить тебя, выбросить из сердца. Но теперь вот недоумеваю: почему тогда мои чувства так бессмысленно и бесплодно вращались вокруг любишь - не любишь? Ведь ясно же было: люблю! Почему я не сделал элементарного: не позвал тебя, как тот Гриша, в ЗАГС?
Единственное, в чем унял свое себялюбие - так это купил альбом и вписал в него все стихи. Учти, стихи, что в нем, - это все, что я сочинил. Ни до, ни после их не было.
Передал альбом в твои руки во время нашего последнего «днепропетровского» свидания. Помнишь: моросило, пошел дождь, а мы все не могли расстаться? Прочитал стихи от корки до корки, а прощальное, что накануне сложил, - трижды. В нем, считал, не от жизни, а как бы по «художественной логике» появилась та наполненная безысходностью концовка:
В твоей косе густой, как в чаще,
Запуталась моя мечта.
Но не хочу на время расставаться -
Простимся лучше навсегда.
Но фактически получилось все по стиху. Хотя после этого виделись еще дважды - в Зачатовке и на железнодорожной стан-ции. К тебе в село приехал после летнего путешествия по побе-режью Черного моря. Туда два А.Г., что были в нашей группе (Анатолий Глушко и я - Артем Гримов) отправились сразу после получения университетских дипломов. В кармане по 5 рублей, в рюкзаке - пять килограммов сала - вот и все средства. И по морю и по суше передвигались исключительно «зайцами». В Севастополе переспали на мусорной свалке у подножия Малахового кургана. В Форосе и Ялте кормились за счет девушек-кулинаров из Днепропетровска, что проходили там практику - одна из них была пассией Анатолия. В Сочи задержала милиция за ночлег на сцене недостроенного театра. Случались и амурные знакомства. Но твой образ не затерли, а, напротив, высветили, сделали еще более притягательным. Поэтому и потянуло к тебе перед окончательным отъездом в Васильевку, куда получил направление.
Добрался к Зачатовке к полудню. Искупался в вашем пруду. Расспросил пацанов, где живешь, - и перед сумерками постучал в окно вашей глинобитной хаты. Мать, на которую ты очень похожа, уяснив, кто я, -вспыхнула приязнью. Но на вопрос, можно ли тебя повидать, развела руками:
- Катя собиралась в клуб в соседнее село. А куда выпорхнула - не знаю.
На улице те же пацаны подсказали, что какие-то девчата только что прошмыгнули на луг. Двинул туда. Проскочил, как рекомендовали, однобревенную кладку - и тут же столкнулся с сидящими на пригорке девушками, в том числе с твоими вспугнутыми глазами. Поздоровался и, интуитивно ориентируясь в обстановке, предложил сыграть в «атаманский счет». Все согласились. Не ведаю каким образом, но результат получился таким, как надо: ты - моя пленница. Беру за руку и по той же кладке перевожу обратно через яр. Темень мгновенно скрывает нас. Но в твоей оторопелой покорности улавливаю смятение и недовольство:
- Как это надумал приехать?
- Адрес был, душа желала.
- Но ведь мы простились навсегда. Сам вынес такой приговор.
- А теперь, видишь, отменяю.
- Письмом хотя бы предупредил.
- Внезапность оголяет правду, - изрек по-латыни. - У меня до отхода поезда целая ночь. Пойдем к пруду.
- Мы коллективно едем к соседям в клуб.
- Сегодня обойдутся без тебя.
- Это невозможно.
- Почему?
- Есть человек, которого это не устроит.
- Гриша?
- Ну хотя бы.
- Давай исчезнем в степи или другом каком месте.
- У него мотоцикл с яркой фарой. Найдет и под землей. Нам сейчас же надо расстаться!
Грустно, но факт: в словах я логичен и смел, а в поступках тушуюсь, сникаю. Твоя настойчивость не только повергла в уны-ние, но и в какую-то безропотность.
- Хорошо - уйду. Только поцелуй на прощание.
До сих пор во всем теле живут те последние прикосновения воспаленных губ. Они схожи с порханием ослабевших стебельков, что пытаются противостоять песчаной буре. Но буря легко прерывает их трепет, бурой массой покрывает зеленые листики.
Подавленный и униженный, ступаю на тропинку, что ведет к пруду, отыскиваю в крапиве припрятанный рюкзак и шагаю за околицу. Нервный тик зовет к движению, но глаз, натренирован-ный за полтора месяца бродячей жизни, пришвартовывается к ближним копнам сена. Зарываюсь в одну из них - и проваливаюсь в сон.
Отчего это птичий звон в ушах? Открываю глаза - рассвет. Ночь прошла, как мгновение. Вот что значит усталость от путешествий. Но семь километров, что до станции, преодолеваю споро и как бы на одном дыхании.
Поезд прибыл. Подымаюсь в тамбур и сзади слышу:
- Артем!
Ты стоишь бледная, запыхавшаяся, в руках руль велосипеда.
- Что случилось?
- Не спала ночь, переживала за тебя... Я сразу же ушла домой. Маме рассказала. Она велела ехать за тобой.
Глаза, как тогда в клубе, когда познакомились, - ясные, чистые. Только теперь вместо беззаботности - тревога и совсем не скрываемый отблеск вины. Они просили - сойди, останься. Но я, как прежде, не понял тебя, не подумал, что жизнь одна и только одно в ней может быть счастье.
А сердце это знало. Оно щемило, плакало - и все время звало к тебе. Даже семь лет спустя, когда по служебным делам попал в Софиевский район, - повело по знакомой дороге в Зачатовку, отыскало знакомую хату.
Дверь открыла та самая тетя, у которой ты жила в Днепропет-ровске. Чуть присмотревшись, узнала, пригласила в горницу. Со стены на меня посмотрели два фотопортрета - твой и какого-то молодого человека.
- Это Катин муж Григорий, - пояснила тетя. - Вчера из Луганска, где живут, пришла телеграмма, что жестоко избил, лежит в травмато-логии. Мать поехала к ним. Как чокнутый, беспричинно ревнует то к Вашим стихам, то Бог знает к чему - и до полусмерти истязает.
Записав адрес, я хотел все бросить и податься к тебе. Но в Софиевке, где по поручению облоно разбирал конфликтную ситуацию, - свернуть дело не удалось. Задержался на целую декаду. За это время твоя боль уже не так стала отдавать в сердце. Возникло даже некое злорадство: мол, выбрала кретина - теперь получай. Не я ведь, а ты затемнила дружбу нашу светлую. Отчего у тебя беда, а у меня все хорошо: живем с женой без ссор, второй ребенок родился? Свяжи судьбу с тобой - может, и у меня жизнь пошла бы кувырком?
Лукавил я, наговаривая на тебя. А на самом деле не хватило элементарного мужества, побоялся встречи с твоим мужем-ревнив-цем, а также новых забот и хлопот, связанных с разводами, али-ментами и т.д. Хотя нутром чувствовал, что это последний шанс спастись. Ведь находился по пояс в трясине, которая безжалостно засасывала. Попав после университета в вечернюю школу и став классным руководителем 10 «А» - я увидел услужливо устремлен-ные на себя тридцать пар девичьих очей. Назначай свидание - и любая с прискоком побежит. Еще бы! С учителем престижно крутить любовь. Вот я и попался, как воробей на мякине. Вместо того чтобы написать тебе письмо, сделать предложение (теперь, когда шла солидная зарплата и дали благоустроенную квартиру - наконец-то, появилась мысль о женитьбе), - побежал прямиком в капкан. Тихая и скромная на вид ученица пригласила на день рождения, споила и легла ко мне в постель. А через пару недель объявила, что беременна, и, если брошу, покончит с собой.
Обходительностью в первые супружеские месяцы приводила в растерянность. Млеет, робеет, во всем угождает, подносит, подтирает. Но затем проклюнулась другая натура: жадная, хищная. Работая продавцом в магазине, нагло обвешивала и обсчитывала покупателей. Богатство, деньги ставила выше всего. Я увлекся интересным химическим опытом - зашипела, как змея: «Это бесприбыльное дело! Лучше сажай под пленку помидоры!» Так, с женой и детьми, я оказался фактически одиноким.
Однако обязан сказать, что главная причина была все же не в ней, а во мне. Не полюбил я жену. Отсюда - тягучее уныние, чрезмерная вспыльчивость, желание хлопнуть дверью и уйти куда глаза глядят. Тоска подтолкнула к рюмке. А водка всегда была под рукой: жена ящиками держала дома, чтобы в вечернее и ночное время продавать с наценкой .
В ту пору и потянуло в Зачатовку. Уверен, если бы в тот период разрубил узел безнравственности - избежал бы падения. Да мы оба возродились бы наконец-то после мытарств по-настоящему обретя друг друга.
Не поехав в Луганск, я обрек себя на дальнейшую деградацию. Жена же, видя мою нелюбовь, предприняла контрмеры. То попре-кала низкими заработками, то унижала в постели. А затем изменять начала и вообще ушла к другому, более денежному. Тем временем мое пристрастие к спиртному вылилось в алкоголизм. Со школы уволили. Недолго продержался и истопником в парокотельной. Сейчас, как сказано в начале письма, стою у могилы.
Почему в последние часы обращаюсь к тебе? Случай, а может, судьба так распорядились. Кроме тебя, у меня нет другого близкого человека. Прими покаяние, прости за все. Знай, что ты была Родным Божеством, моей Поэзией. Сохрани стихи. Это все, что от меня остается. Пусть оно будет с тобой, помогает держаться в отравленной нашей среде, где сошлись в одно яд отходов и яд жестокостей человеческих. Но понимай и то, что стихи частично повинны в нашей разлуке. Чтобы рождаться - им нужны были острые ощущения. И они заставляли меня терзаться, плакать, выкидывать всяческие коленца, капризничать, жаждать «полной» взаимности, выдвигать сверхъестественные требования. Ровная, бесхитростная дружба, а тем более семья не их стихия. Они дети той Любви, где сплошные страдания, безумства, надломы, разрывы - и даже смерть.
Р.S. Это письмо, как последний поклон, прими...
Март 1990 года
ЛИЦА СЕМЬИ
МАРГАНЧАНИН ИЗ АНАДЫРЯ
Во многих изданиях замелькало имя художника Ивана Мельникова – уроженца Марганца. А не сын ли это моих давних знакомых?.. Захожу в утопающий в зелени уютный дом. Хозяева, Иван Венедиктович и Мария Федоровна, вырастили и воспитали десятерых детей, сейчас пенсионеры, но еще бодрые, разговор-чивые. Показывают фотографии, картины.
- Да, это мой «наследник», - подтверждает отец, - недавно был тут. Вон принялся вырезать из дерева русалку. Но пришла телеграмма из Анадыря – и срочно вылетел туда.
Помню, лет 20 назад, когда я впервые переступил этот порог, школьник Ваня смущенно перелистывал альбом с набросками лиц, предметов, пейзажей. В них уже были заметны пытливость и оригинальность линий.
Тягу к рисованию пробудил в сыне отец. Иван Венедиктович 30 лет добывал под землей марганцевую руду, установил в забое десятки рекордов, удостоился звания Героя Социалистического Труда, а в свободные минуты рука, покорная увлечению детства, тянулась к карандашу или резцу.
Сын поначалу тоже отдавал своему хобби только неурочные часы. Правда, лепка, чеканка в последних школьных классах так захватили, что хоть поступай в художественный институт. Но встала проблема: а на что жить? Отец хоть и хорошо зарабатывал, но в семье почти все мал мала меньше. Довелось идти туда, где полное государственное обеспечение. Так Иван оказался в Алма-Атинском пограничном училище. А затем, как военный, получил назначение на Дальний Восток. Там, не обращая внимания на затхлость казарменного быта, опять с головой ушел в искусство. Поступил заочно на учебу в Москве. Получил диплом скульптора, стал членом Союза художников СССР.
- Не так давно, - рассказывает Иван Венедиктович, - сын ушёл в отставку, занимается только любимым делом. Городской Совет Анадыря выделил сыну просторную мастерскую. Трудится похлеще, чем когда-то я в забое. Катя, жена, жалуется, что почти не видит его.
- Он рано обзавёлся семьёй?
- Да, дочери Галине уже четырнадцатый год, меньшей, Анне, - седьмой. А самому-то всего 33 – возраст Иисуса Христа…
Мой взгляд падает на снимок, запечатлевший последнее завершённое творение художника – скульптурную композицию “Возвращение”. Не показной, но уверенной поступью идёт с Библией в руке Христос. Он – вне суеты, вне страстей. Он – Высший Разум, наполненный смирением и благородством. Он – не только возвращает нам, надломленным смутами, Веру, но и зовёт к очищению, к постижению самих себя.
В последние годы И.Мельников выдаёт шедевры, как из рога изобилия. Несколько его произведений приобрели финансисты американского города Бетел, выставив их в местном банке. Одну из скульптур купило союзное Министерство культуры. Он единст-венный ваятель восточного севера, представленный в Третьяков-ской галерее. Две работы – “Нерпа”, выполненная в мраморе, и “Бабушке по секрету” (бронза) – попали туда с выставки художни-ков автономных краёв и республик. Ещё две – “Осень в Переясла-ве” (бронза) и “Охотник” (мрамор) – сотрудники Третьяковки отобрали непосредственно в мастерской скульптора, специально за этим приехав из Москвы в Анадырь.
- А отцовский дом “наследник” не забывает?
- Приезжает часто. Но всё неожиданно, без предупреждений. Письма пишет, звонит. Вот и в июле гостил. Прилетел сразу после пребывания в США, где имел деловую встречу со скульп-тором Дєвидом Барром. Американский коллега предложил создать в соавторстве “Арктическую арку”. Она задумана как величествен-ный монумент со множеством скульптурных групп. Одна его часть должна расположиться на американской Аляске, другая – на советской Чукотке. Между ними – Берингов пролив. Это бу-дет, как говорил сын, что-то в виде незаконченного моста в форме протянутых рук дружбы. Ваятели намерены передать желание народов двух континентов жить в мире и согласии… Вот Иван и вылетел срочно в Анадырь, чтобы приступить к этой работе в качестве руководителя группы советских специалистов.
Открылась любопытная деталь: до 17 лет Иван Венедиктович жил в селе Нерубайка на Кировоградщине и носил фамилию Мельник. А в январе 1951 года завербовался на строительство Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. И там инспектор ошибочно записал - Мельников. Так и прилепилась к украинскому роду “обрусевшая” фамилия.
- Но я не огорчен, - говорит, - напротив, в происшедшем вижу хороший знак: нерасторжимость славянского племени, его стремление к мобильности и простору. Иван тринадцать лет живет на Чукотке. Сын Андрей обосновался на Сахалине. Дочь Лена поселилась в Запорожье. Внуки подростают, а их у меня 22. Если пожелают расселиться по всей планете – не возражаю. Пекусь об одном: чтобы нравственно не оскудели, чтобы и правнуки мои были творцами, созидателями – такими, как Иван. Взгляните на последнее письмо сына, в котором подчеркнуты слова Альбера Камю: “Сегодня всякий художник прикован к галере своего време-ни. Ему следует примириться с этим, даже если он считает, что галера провонялась селедкой, надсмотрщиков чересчур много и вообще взят неверный курс. Мы в открытом море. Художник должен грести вместе со всеми, и при этом, если удается, не по-гибнуть, то есть продолжать жить и творить...”
21.09.1991.
“Днепровская панорама”.
ЛИЦА РАЗЛУКИ
НАДЕЯСЬ, ЖДИ…
Луч, проникший сквозь занавеску, лёгким зайчиком бегает по лицу – будто зовёт куда-то. Евдокия Ивановна открывает глаза, щурится. “Муж уже хлопочет по хозяйству, пора бы и мне вставать…” Однако сновидения не отступают.
Снова она на жужжащем пчёлами молдавском кладбище. В метрах трёхстах рвутся снаряды, идёт жестокий бой. В санроте раненых так много, что не помещаются в палатках. Их укладывают прямо на землю, под кустами. В тени разлапистого клёна бредит в горячке и она, сестра милосердия. Коллеги борются за чужие жизни, Евдокия Ивановна – за свою. Работа без сна и подмены завершилась воспалением лёгких.
- Мама, успокойся, - поглаживает её волосы малыш, сидящий у изголовья.
- Пить хочу… - пальцы, сжимающие детскую ладонь, ослабевают. Сознание меркнет, уступая место забытью.
Когда снова проясняется небо, сквозь промытую солнцем листву пробивается ласкающий шёпот:
- Мама, молочка принёс… Попей…
Вова протягивает Евдокии Ивановне солдатскую каску, наполненную до краёв молоком.
- Спасибо, сынок… - каска валится из обессилевших рук.
- Я ещё принесу. Тут рядом корова пасётся. Только не умирай, мама! – кричит малыш. Его слёзы смешиваются с ее слезами.
Двадцать семь лет видит Евдокия Ивановна этот сон.
Был у неё сын Володя. Она потеряла его в последние дни войны. Где только не искала. Запрашивала армейские части, архи-вы. Писала в различные комитеты и бюро по розыскам без вести пропавших, во все училища и спецшколы. Обращалась к Сергею Смирнову и Агнии Барто. Но Вова не объявился. А вчера встретила знакомую, и та говорит: «Какой-то военный спрашивал: “Не знает ли кто-то медсестру Евдокию Ивановну?..” Снова заныло сердце. Сколько пережила на веку, а такого волнения не было. Хоть и здоровье никудышнее, а всё перемыла в квартире, новые гардины повесила. Ждала. А вечером исколесила весь город. В Марганце, кроме неё, есть ещё три Евдокии Ивановны, и все работают медсёс-трами. Может, Вова перепутал и обратился не по адресу? Однако военный не приходил. Только когда уснула – явился. И вот снова всю ночь был рядом с ней. И луч солнца его не спугнул.
Поднявшись, Евдокия Ивановна снова взялась за перо. Написала в “Красную звезду”, вложила в конверт фотографию.
Вскоре пришло несколько запросов. “Ваш рассказ двойной болью отозвался в сердце, - писала другая мать, потерявшая сына. – В похоронке написано, что мой сын Вова погиб 30 марта 1945 года, за месяц и восемь дней до конца войны. Его могила на се-верной окраине города Глаган в Германии. Однако на снимке в газете – будто он. Может, жив?..” Следопыты из села Баклань Брянской области спрашивали: “Родной ли это Ваш сын? Почему же тогда фамилии разные? В нашем крае в сорок первом фашисты арестовали малолетнего Вову Тимошенко, и он не возвратился… На этой фотографии мать признала сына…”
Среди множества откликов в Марганец пришёл и такой: “Это пишет Владимир Тимошенко из города Полонное Хмельницкой области. Мы с женой Оксаной работаем на заводе художественной керамики. Сын Гриша учится в шестом классе общеобразовательной и параллельно в четвёртом музыкальной школы. Дочь Татьяна третьеклассница – отличница. Пишу потому, что на помещённом в газете снимке паренёк похож на меня. Правда, текст будто не обо мне. Я – еврей, а вы - украинка. Родителей по именам не помню, потому что потерял их очень рано. Когда Запорожье ок-купировали гитлеровцы, все мы оказались за колючей проволокой. Мать, рыдая, поучала, чтобы на допросе говорил, что русский. Меня выпустили. Но куда спрятаться – не сообразил. Побрёл к знакомому кварталу. Несколько дней ночевал в разграбленных квартирах. Поймал полицай, избил до полусмерти и отволок в концлагерь. В подвале, где раньше сидел, уже никого не было. Окровавленный пол и исписанные кровью стены говорили о страшной участи мамы, младшего брата и тех людей, которых я видел тут недавно. На допрос попал к тому же немцу. Он узнал меня, дал несколько зуботычин и вышвырнул на улицу. Страх вывел меня за черту города. Попрошайничал, брёл от села к селу. Спал в скирдах соломы. Если кто спрашивал, говорил: “Иду вон туда - домой, к маме”. Так минули лето и осень. На одной из станций увидел красноармейцев, попросил хлеба…”
Евдокия Ивановна дальше не могла читать. Буквы сливались, превращаясь в поток воспоминаний.
“…Приготовиться! Через десять минут эшелон отправляется!”
Как всегда, после этой команды она выскочила из вагона и бросилась снимать развешанные бинты. Сорвав последний, услы-шала за спиной необычный звук. Оглянулась. Мальчишка лет семи жёг просыпанный на рельсах порох. Вид его поразил: изорван-ный в клочья пиджак волочился по земле, из-под лохмотьев выглядывали босые, сбитые в кровь ноги…
Завидев женщину в белом халате, парнишка по-стариковски заковылял к ней, протянул загрубелую ладонь:
- Тётенька, дайте кусочек хлеба…
И тут же встревоженно отдёрнул руку, спрятал за спину. То ли обращённый на него пристальный взгляд что-то напомнил, то ли слишком много участия было в голубоватых женских глазах. Мальчик спросил:
- Вы не моя мама?..
У неё других слов не нашлось:
- Сынок. Родненький…
Нет, он не бросился к ней на шею. Просто Евдокия Ивановна взяла его на руки и заспешила в санитарный вагон.
“Осталась ли эта встреча в твоей памяти, Володя?” - спраши-вала в письме в Полонное Е.И.Новцева-Корецкая.
“Нет, - отвечал он. - В тот период, видимо, было очень мно-го всяких событий, радостных и печальных, и мой детский ум не смог все их впитать. У красноармейцев мне понравилось. Отлично знаю, что в походе помогал солдату поднести каску, а он за это дал три раза выстрелить из автомата. Ещё запечатлелось: в Бол-гарии посадили меня на машину и возили по городу. С цветами. Старшина всё время толкал в бок: “Не спи! В кино тебя снимают!” И я изо всех сил крепился, хотя глаза закрывались непроизвольно после трёхдневного безостановочного перехода… Помню, ещё жен-щина в белом халате учила меня читать и писать. Когда первое слово по слогах разобрал - дала кусочек сахара. Считать до ста научился. Она же сшила мне детский армейский костюм, подобрала сапоги. Купала. Кормила. А Вы ли это были или другой человек - кто знает. Все меня звали сыном…”
За чертой мальчишеского понимания остались и рассказы красноармейцев о тщетных поисках Вовиных родственников, о фашистских рассправах с жителями в Запорожье и других городах. Не осмыслил Вова и событий у венгерского озера Балатон, когда командир полка приказал отправить ребёнка из зоны, окруженной противником. Тогда Евдокия Ивановна и потеряла его, ибо по дороге он сбежал от провожатого… А вот как доил бурёнку в сол-датскую каску - не забылось.
Письма из Полонного и обнадёживали, и сеяли сомнения. За длинные годы поисков она познала много разочарований. Однажды уже “находился” Вова. И фамилия, и факты биографии вроде те, а при встрече выяснилось: не он. Переполнявшая душу тоска по сыну искала выхода, и Евдокия Ивановна перенесла ее на другого - Валентина Корецкого, сызмальства не видевшего материнской ласки. Вместе с его отцом, Иваном Наумовичем, вырастила и воспитала, как родного сына. Валентин окончил институт, работает инженером, имеет семью. Вот и сейчас он пришёл в гости к родителям с пятилетним Андрейкой и годовалой Таней. Вместе с отцом и матерью держит совет: как быть? Евдокия Ивановна так много рассказывала о Вове, что у него невольно появилось чувство родства. Он сжился с мыслью, что у него есть брат. О его подвигах на войне, об “отчаянных вылазках в тыл врага” знали все мальчиш-ки во дворе. А когда вырос, подолгу сидел, задумавшись над фотографией парнишки в военной форме.
- Однако, - говорит Валентин, - с твоим больным сердцем, мама, в Полонное одной не добраться. Завтра возьму пару дней за свой счёт и махнём вместе. Увидим его, тогда точно будем знать: тот, кого ищем, или нет…
Неожиданно беседу прерывает осторожный стук в дверь. А через минуту на пороге вырастает худощавый мужчина с висками, тронутыми сединой.
- Я - Вова, - нерешительно произносит он. - Не дождался отпуска… Приехал на денёк…
Евдокия Ивановна сделала пару шагов навстречу и замер-ла: он!
Перед глазами поплыли разноцветные круги. Послышалось жужжание пчёл. То были не слёзы. То возвратился к ней часто повторяющийся сон: маленький Вова подаёт каску с молоком и говорит: “Пей, мама, только не умирай…”
К рукам Евдокии Ивановны припадает сыновье лицо. Сколько лет она мечтала об этом! Но глаза почему-то отказываются видеть его взрослым, хочется вернуть всё то далёкое, святое, чтобы вместе пройти пройденные порознь дороги.
24.05.1972
“Днепровская правда”.
ЛИЦА МУЖЕСТВА
В БОЯХ ЗА НИКОПОЛЬ
«Что же касается никопольского марганца, то его значение для нас вообще нельзя выразить словами. Потеря Никополя означала бы поражение в войне». Это высказывание принадлежит Гитлеру. Не случайно поэтому части Третьего и Четвертого Украинских фронтов в 1944-м встретили под Никополем отчаянное сопротивление врага.
В горниле боев по-разному преломлялись судьбы людей. Вот свидетельства очевидцев.
МОЖЕТ СЫН ДУМАЛ ОБО МНЕ?..
Степан Яковлевич Панкеев, бывший пулеметчик 244-й стрелковой дивизии:
- Провожая на фронт, Клавдия сказала: «Я беременна. Думай о ребенке – и Бог сохранит тебя». Но вскоре армейская кутерьма заглушила память. Каждый день переходы, недоедание, затяжные бои. Ведь меня, как и других новобранцев, призванных в армию на побывавшей у врага территории, - сразу же бросили на передовую. Я – пулеметчик, наступаем на Никополь… Только в короткие минуты привалов то ли во сне, то ли наяву перед глазами всплывают эпизоды нашего с Клавой знакомства, регистрация брака… С росписью мы поторопились – чтобы оккупанты не угнали в Германию. Прослышали: женатых не берут. Но только поженились – облава, всех подряд хватают. Клава спряталась в подвале, а я спустился на цепи в колодец и затаился там.
И теперь вот, буквально через месяц, - я боец Красной Армии, имею возможность отомстить гитлеровцам. Но жуткая это работа – стрелять в людей. Сколько крови пролили при взятии Зеленого, Томаковки, Арбузовки, Шевченково.
Невдалеке от Никополя наткнулись на вражеский заслон. Нас угораздило на пять километров вырваться вперед.Соседние роты отстали – и враг с трех сторон навалился на нас. Стволы пулеметов от беспрерывной стрельбы накалились. А немцы прут и прут. Вижу: падают наши бойцы. Командир роты Владимир Гаркушин не растерялся – из автомата чешет по ним. Вдвоем с ним спрятались за холмом. Я меняю диски, а он строчит. Три атаки отбили…
Когда на выручку подоспела соседняя рота, из нашей группы в 36 человек половина убитых, почти столько же раненых. Невредимыми остались только трое: Гаркушин, старшина и я…
Схватка была затяжной, бешеной. Некогда было вспоминать о Клавдии, о ребенке. Но, видимо, на уровне подсознания они присутствовали в моей памяти – вот Бог и сберег меня. А может, в утробе матери сын думал обо мне…
Родила его Клавдия в мае – спустя четыре месяца после того боя. В честь командира роты, смелость которого помогла нам выстоять, назвал новорожденного Владимиром. Ко времени появления его на свет я уже был дома. После взятия Никополя, в бою за село Чертомлык 9 февраля меня все же не обошла пуля, притом – разрывная. Разворотила правую руку ниже локтя – и сделала инвалидом…
С Клавдией за 55 лет совместной жизни мы вырастили двоих детей, четверых внуков. Есть у нас уже и правнук – двухлетний Сережа.
НОЧЬ ЛЮБВИ
Лидия Алексеевна Ануфриева, бывшая партизанка, почетный гражданин Никополя:
- Почти каждый день у переезда гремели автоматные очереди. Оккупанты расстреливали евреев, партизан, патриотов. Километровую траншею, вырытую на глубину в шесть метров, доверху забрасывали трупами… Поэтому появление за Днепром наших войск мы с Валей Череп восприняли как что-то сверхъестественное, святое. Нами овладела такая внутренняя сила, что помимо воли 7 февраля еще с утра отыскали в плавнях казацкий дуб и – только на землю сели сумерки – спустили его на воду. Послышалась немецкая ругань, свист пуль – а мы, как заведенные, гребли веслами, летели в пучину реки. Над нами зависло несколько осветительных ракет… Но вскоре с левого берега по правому, по захватчикам, ударила артиллерия.
Бойцы встретили нас, как пришельцев с неба. Но лейтенант остановил ринувшихся к нам солдат командой:
- Отойти от берега на двадцать шагов! Первому отделению второго взвода приготовиться к посадке в лодку!
Двадцать рейсов туда и обратно сделали мы с Валей. Утром 8 февраля семьдесят таких, как у нас, лодок перевозили в Никополь людей в серых шинелях.
Я не причисляю себя к красивым. Но один из бойцов отыскал меня на второй день и предложил дружбу, просил отвечать на письма, клялся в верности… Подарила я ему ночь любви. Нет не подарила, а взяла… И у него, и у меня это был первая интимная близость… Мы целовались и плакали. Ведь завтра ему идти дальше, на Запад.
После разлуки каждый раз перед тем, как уснуть, я думала о нем – моем Михаиле из села Хомзаки на Волге. И во сне часто шептала его имя, нередко просыпалась заплаканной. Было этих ночей ожидания около тысячи. И, наконец, он постучал в окно – и я обняла его на своем пороге. Поменяла вскоре фамилию Дядик на Ануфриеву. Мы прожили вместе 53 года. Воспитали дочерей: Наташу – родную, Эллу – приемную, внучек Аллу и Викторию. А теперь вот качаю на коленях трехлетнюю правнучку Лилю.
БАБУШКИНА ДОЧЬ
Анна Гавриловна Автономова, бывшая медсестра Никополь-ского госпиталя:
- Первыми среди сотрудников полевого госпиталя № 2680 через Днепр переправлялась я и ещё несколько медсестёр. Плыли на плоту в ночное время. Правого берега достигли в четыре утра… Душа рвалась в Никополь. Тут на попечение родителей при эвакуации я оставила годовалую дочь Аллу. Что с ней? Живы ли она, отец, мать?.. Почти четыре года я была разлучена с моей крошкой. Мне, мобилизованной медсестре, в 1941 довелось вместе с Никопольским госпиталем уйти в глубь страны. Думала, расстаёмся на месяц, а пролетели годы…
Но домой не вырваться. На берегу нас окружили раненые: «Перевяжи!..», «Дай глоток воды…» Разве можно их бросить? Но где под лазарет найти помещение? Медучилище, школа, кинотеатр в руинах… Выбираем бывший музей. Кладём раненых прямо на пол… У бывшего архитектора из Ленинграда Буленкова ноги… синие. Нужна донорская кровь, в противном случае неизбежна ампутация. Подоспевшие с того берега хирург и лаборанты сообщают: только моя група крови ему подходит. Я, операционная сестра, три часа вместе с хирургом обрабатываю раны, а потом ложусь на донорский стол…
Вечереет. И ночь, и день на ногах, передача крови раненому. Должна бы упасть без сознания, уснуть, но откуда-то берутся силы. Выскакиваю из музея и бегу в сторону переезда.
Трасса, ведущая из города, запружена брошенными немецкими орудиями и машинами. Драпака дали оккупанты!.. А пацаны шастают по оставленным «трофеям». Шустрая девочка лет шести взобралась на ствол пушки, балансирует, как канатоходец. Шубка на ветру надулась, как парус, от неё кусок с боку оторвался и за затвор цепляется.
- Чья ты? – спрашиваю.
А она меня не слышит: голос я потеряла, лишь мысленно произношу слова.
- Чья ты? – наконец-то мой шёпот прорезается.
- Бабушки Марии…
- А как тебя звать?
- Алла.
- Доченька! Дочь! – звуком наполняется голос.
Но в ответ слышу:
- Ты не моя мать. Моя мама воевает…
Почти силком обняла мою Аллу, повела домой, где, слава Богу, всё было благополучно.
ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ НАГРАДА
Илья Иванович Костенко, бывший лётчик Восьмой воздушной армии, заслуженный учитель Украины:
- Мы сбросили на прилегающие к Днепру сёла, а затем на Никополь листовки с призывом уничтожать врага и свежие номера областной газеты «Днепровская правда». При очередном развороте самолёта увидел большое скопление вагонов. «Отличная цель!» - сказал я напарнику. Длинная пулемётная очередь прошила несколько вагонов, два загорелись: видимо, были с боеприпасами. Затем нажал бомбовый сбрасыватель. Бомбы попали в цель – в вагоны с фашистскими солдатами. Но в это мгновение щупальца нескольких прожекторов вцепились в наш самолёт. И вдруг со страшной силой что-то забарабанило по крыльям, фюзеляжу. А вокруг вырастали шапки зловещих разрывов. Как вырваться из этого ада?..
Вскоре в Москву по телеграфу пошло сообщение: «Лётчики Краснознамённого 77-го авиаполка успешно произвели боевую разведку Никопольского плацдарма, уничтожили вражеский эшелон с живой силой и боеприпасами. Проявив мужество и героизм, лётчики Костенко и Борзыкин не возратились с боевого задания, сгорели над целью».
Поторопились нас похоронить. Мы с Сашей Борзыкиным выжили. Нам удалось посадить повреждённый самолёт на чужой территории, а потом исправить машину и добраться до своего аэродрома. В те дни у меня появилась первая седина.
А когда отгремела война, этот случай помог мне после окончания Криворожского пединститута определиться с местом будущей работы. Никополь как бы позвал меня к себе – и я на-всегда связал с ним судьбу. Кстати, недавно местный краевед Л.Игнатенко привёз из Главного архива Министерства обороны копию выписки из наградного листа. Майор Слесаренко и генерал-майор авиации Кузнецов представили меня к ордену Красной Звезды. Я не знал об этом, так как тогда попал в госпиталь и потерял связь с родной частью. Теперь получу награду – двадцать пятую по счёту, но самую дорогую. Ведь она связана с Никополем, в котором прожил уже пятьдесят лет, стал его почетным граждани-ном, где женился на обаятельной учительнице Софии Ивановне, в венах которой течет кровь знаменитого в России рода князей Румянцевых. И которая отказалась от наследования их имущества, отобранного революцией.
ОБЛИЧЧЯ ЗЛОДІЙСТВ
Цю документальну оповідь присвячую Дмитру Гордону
БІЛЬ ЛЮБОВІ
Мамо, тебе по-звірячому вбили, але твоя душа лишилась живою. Ось уже стільки років вона охороняє мене. Я дожив до 86-ти. Зараз сиджу в своєму будинку № 18 по вулиці Дідика в Нікополі і розмовляю з нею, а значить, з тобою.
В серці те ж відчуття, що було тоді, в сорок шостому, коли, пройшовши дві війни – з німцями та японцями, поспішав у село Мамеч. Поспішав на зустріч з розстріляним родом своїм, з тобою, моя люба мамо.
З самого Далекого Сходу їхав і плакав, знаючи про все з листа голови сільради. В душі клекотало. Ось перед своєю станцією сплигнув у нічний ліс. Безвітряно, тихо. А в венах все той же стукіт, ні, не коліс поїзда, що помчав далі, а нудьги й надлому... Крізь решето сосен прорізався місяць. З темряви визирнув місток. Колись спритними хлопчаками хлюпались під ним, як каченята. Ось і зараз вир споминів зриває з мене одяг – і голяком стрибаю у воду. Змиваю дорожню пилюку. Тіло відчуває свіжість... Однак тиша продовжує стогнати.
Та ось неподалік у кущах затьохкав соловей. Не одягаючись, я поплазував у зарослі і побачив крихітну сіру пташку. Ліг на спину, принишк і відчув, що пісня ніби торкається шкіри і входить у мене... І хто таке придумав, що непоказна птаха володіє таким чарівним голосом, який так швидко повертає від темряви відчаю до промінця надії?
Одягаю армійське галіфе, чоботи, гімнастерку, на якій тьмяно сяйнули медалі, і крокую далі в трішечки заспокоєному стані. Пісня не поспішала випурхувати з душі. Я ніби взяв з собою солов’їне натхнення і ніс його тобі, люба мамо. Мені не вірилось, що тебе нема серед живих. Я мріяв про те, що зараз увійду в двір – і в ту ж хвилину з’явишся з розчинених дверей, кинешся мені на шию, заплачеш, поведеш у горницю і розповіси, як тяжко жилося в окупації, як дні і ночі виглядала мене у вікно.
Та вікна й двері нашої хати зустріли мене забитими хрест-навхрест трухлявими дошками. Мені ледь вистачило сил дійти до ганку, і там від розворушеної в серці муки упав і заридав, відчуваючи, що кричу не своїм, а якимось чужим голосом... Отямився лише після того, як сусід Ананька Кузьмін відірвав мене від землі і запитав:
– Це ти, Йосип Дорфман?
– Так, – відповів я.
Він обійняв мене, заспокоїв, повів до себе, нагодував.
Коли зійшло сонце, ми з Ананієм уже підходили до того місця, де вбивці закопали ваші тіла – тіла десяти членів мого роду: батька Абрама Мотьєвича, твоє – Брайни Ниселівни, рідних сестер Леї і Гені, а також двоюрідної сестри Леї Ельєвни Дорфман та п’яти малолітніх дітей. Закопали не на людському цвинтарі, а в канаві скотомогильника. Полінувалися навіть поверх останків накидати достатньо землі. Бродячі пси після цього розрили землю і довершили бузувірство. Перед нашими очима лежали оголені кістки і черепи.
І я почув твій голос, мамо:
– Ми ні в чому не винні. Нас убили тільки за те, що ми євреї... Пам’ятаєш Сергія Сліпня? Він ровесник твоєї сестри Гені. Обоє народились у 1914 році. Ми жили тоді в достатках, мали коня, корову, качок, курей, 20 соток землі та в поміщика Дердієвського брали в оренду гектар. А твій батько ще й на підробітки ходив – печі ладнав. Молода і розкохана, я зціджувала материнське молоко, яке Геня не встигала висмоктувати. А мати Сергія в цей час хворіла, він охляв без молока. Тоді Секлета й умовила мене спасти її дитя, підгодувати зі своїх грудей. Майже рік сосунець жив у нашій хаті, перекидався в одній колисці з Генею. А ти, старший, доглядав їх, забавляв сосновими шишками.
І ось тепер цей двадцятисемирічний Сліпень, одягнений у чорний мундир поліцая, гвинтівкою відчиняє двері і кричить:
– Нова окупаційна влада присудила всіх жидів до розстрілу!
– За що? – запитує батько.
– За паразитичний спосіб життя.
– Глянь на мої руки! – батько піднімає їх долонями догори. – Хіба ці мозолі від дармоїдства? Все життя не розгинаючись працюємо – і я, і моя жінка, і діти.
– Тоді відкупляйтесь. Німецький офіцер сказав: принесу кілограм золота – можу не вбивати.
Я вийняла з мочок вух срібні сережки, передала Сергію:
– Бери! Це все, що у нас є з дорогоцінного металу. Забирай, якщо потрібно, корову, домашні речі, тільки відведи біду.
Сліпень схопив сережки і зник.
Трохи згодом сусіди нам сказали, що ніякий німець Сергія до нас не посилав. Це він сам разом з п’яничками-поліцаями, накачуючи себе самогоном і слухаючи промови Гітлера та Геббельса, виношує підлу думку про наше знищення. В своєму оточенні все частіше викрикує: „Прийшов час і в Мамечі потрощити жидівське плем’я!”. Хлопець не розуміє, що по Святому Письму ненавидіти інші нації – це те ж саме, що не бачити в собі людину. Він не розуміє, що таке почуття – дике, варварське. Гітлерівська людиноненависницька пропаганда отруїла душу не тільки Сергієві. Фашисти у багатьох збурили кровожерні інстинкти, провокують насилля, жорстокість. Хіба це не блюзнірство? Масові вбивства євреїв, циганів, дітей-калік вони називають „вищим служінням Богу”. Ось у цих умовах злочинної влади Сліпень і перетворився в монстра. Адже в Мамечі всього сорок дворів. Село мовби загубилося в глухому лісі. Сюди рідко заглядають підрозділи карателів. Сергій мав можливість зберегти нашу сім’ю, та серед вовків він теж завив по-вовчому.
Настав останній для нас день. Поріг переступили п’ять поліцаїв з гвинтівками. Дивлячись на їхні сині від самогону обличчя, я розгадала їхній диявольський намір. Упала перед Сліпнем на коліна і почала благати:
– Синку, я ж тебе своїм молоком годувала. Я ж тебе любила... Зжалься... Відпусти... Ми зараз же зберемося і поїдемо з Мамечі.
Мої слова залишились не почутими. Не пробудилися налиті кров’ю очі поліцаїв і тоді, коли на коліна опустились усі дорослі члени родини. Я обняла ноги Сліпня, цілуючи їх.
– Не вбивай! – заридала Геня. – Я ж з тобою за однією партою в школі сиділа.
– Змилостився! – заплакала Лея. – Адже твій Бог – єврей Ісус Христос, а він милостивий.
– Не губи! – заголосила друга Лея. – У мене маленькі діти!
– А ми і їх не залишимо! – прогримів бас.
Дітлахи з переляку заметушились і тут же принишкли, їхні оченята наповнилися слізьми... А я у відчаї дивилась, як знадвору у відчинені двері в хату ввійшла моя найстарша онука – десятирічна Люся. В руках вона тримала букет лісових фіалок.
„Як же ти, – закричала я їй очима, – не здогадалась утекти? Невже не бачиш, що тут коїться?..” Та онучка не глянула у мій бік. Вона не могла зорієнтуватись у цій ситуації, а можливо, острах не дав нічого зрозуміти. Дівчина поклонилась убивцям, обдарувала їх тихою дитячою посмішкою. Потім зосередила погляд на Сліпні – високому і стрункому. Кокетливо граючи очима і по-дитячому ніяковіючи, простягнула йому букет.
Він ніяк не сподівався на таку незвичну увагу. Почервонів, прийняв квіти... Та через мить різким помахом руки швиргонув їх. Вони розлетілись по кімнаті, а одна фіалка досягла розпеченої плити і перетворилася на вуглинку.
– Вогонь! – скомандував Сліпень.
У цю мить, остаточно збагнувши, що поліцаїв ніщо не зупинить, що перед ним не люди, а звірі, твій батько схопив сокиру, що лежала біля плитки, і з відчайдушним криком кинувся на вбивць. Та куля перервала його розмах, він упав на долівку, захрипів, криваві павуки поповзли по його одежі. Я обхопила онучат, закриваючи від пострілів, але в мою спину ввійшло щось гаряче, пекуче – і руки самі розчепились.
Дочки і племінниці продовжували ридати, повзаючи на колінах, однак кулі не обминули моїх красунечок. Так само безжалісно погубили вони й непорочних онучат-ангеляток. Лише трирічна Муся, яку я, падаючи, накрила собою, залишилась живою. З останніх сил я шепнула їй: „Біжи”. Але дитинча не в змозі було рухатись – шок скував м’язи. Я вже не дихала, та ще залишалась у цьому світі. Мозок продовжував відкладати в пам’яті те, що з нами відбувалось... Ось наші тіла поскидали на бричку і повезли по вибоїстій дорозі, що веде до глинистих круч, де закопують здохлих корів і коней.
– Мамо, тебе вбили п’ять років тому, а я чую твій голос.
– Не дивуйся, синку. Це моя безсмертна душа говорить з тобою. Їй усе відомо.
– І що було далі?
– Прибувши до скотячого цвинтаря, тіла вбитих поскидали з брички.
– Але ж Мусю, ти стверджувала, кулі не зачепили?
– Так, її доправили сюди живою. Вона смирно сиділа на бричці, притулившись обличчям до обличчя мертвої мами. Сльози з очей не лились. Дитя заціпеніло від страху. Травмована свідомість не могла охопити жах того, що відбувалось. Усвідомлення було паралізоване.
– Поліцаї змилостивились і відпустили Мусю?
– Сліпень першою шпурнув її в канаву. Вона стала видиратись нагору. Тоді він оглушив дитя прикладом гвинтівки. З вуха цівкою полилась кров, дівчинка ойкнула і покотилась униз. А на неї, ще живу, навалили наші тіла. Потім сяк-так засипали землею і пішли.
– Ніхто із селян не спробував спасти дитя?
– А хіба це було можливо? Осатанілі поліцаї тримали село у вовчій облозі. Вони загнали людську жалість у п’ятки. Жодна душа її не виявила, не кинулась на поміч дитятку... Муся залишилася з нами в могилі.
...Мамо, знай, я протягом року економив кожну копійку, зібрав кошти і перевіз ваші останки в Овруч, перепоховав за єврейськими звичаями, власноруч змайстрував надгробок.
А того дня я доторкався руками до ваших кісток, черепів, плакав, промовляв слова молитви. Потім Кузьмін приніс лопату і ми їх прикопали так, щоб ніхто над ними не глумився.
Коли повернулися в село, біля контори юрмилось майже все місцеве населення. Жінки ридали, поминаючи добрим словом мою рідню. До мене притерся Тиміш-заїка, винувато зазирнувши в очі, протяжливо мовив:
– Я не в-би-би-ва-вав. Ме-ме-не п-при-му-с-си-ли з-за-п-пря-гти ко-ко-ней і в-від-в-вез-ти.
Одягнені в усе чорне, батько і мати Сергія – дядько Юхим і тітка Секлета – впали переді мною на землю, благали, щоб пробачив їхню сім’ю. Вони сказали, що Сергій після звільнення Мамечі записався в Червону Армію і змив провину кров’ю, загинувши в бою.
І тут, мамо, до мене знову долинув твій голос:
– Не вір! Він живий і всі вбивці живі! Один із них до цього ча-су ховається у навколишніх лісах. Та мститися, синку, не треба!
Пробач, я не стримався. Я закричав на все село:
– Катів знайду і під землею!!! Згною на каторзі!!!
Я довго говорив. Ридав і говорив. Мені необхідно було зняти тугу, що накопичилась у фронтових окопах. Я, рядовий солдат, під кулями йшов від Дніпра до Волги, а потім від Сталінграда до Берліна, замерзав у снігах, поранений стікав кров’ю, після контузії у Маньчжурії довго лишався без слуху і голосу. А за що страждав? Щоб мої ж односельці, одягнувши форму поліцаїв, винищили мій рід?.. Невже вони не розуміли, що Батьківщина одна?.. Що коли служать окупантам, то вони зрадники, покидьки?.. Що на рідній землі їм ніколи не буде прощення?..
Моя нестримана промова ледь не згубила мене. Увечері, після того, як з Ананькою Кузьміним випили по чарці, я попрощався з сусідами і пішов до залізничної станції, щоб поїхати в Коростень до родичів... Пробіг з півкілометра лісом, наближаюсь до дерев’яного містка – і раптом інтуїтивно фіксую: соловей співав і... замовк. Мої ноги миттєво підкосились, не здатен і кроку ступити. На фронті в розвідку ходив, „язика” брав, потрапляв у такі ситуації, що ледве до пам’яті приходив, після чого дивувався своїй живучості. А тут... Тіло дрижить, судоми зціплюють м’язи.
– Ти стоїш, – чую голос, – за десять кроків від смерті. Он за тими соснами затаїлись „лісовики” з фінками і автоматами. То спільники Сліпня. Вони вирахували, що коли знищать останнього із роду Дорфманів, то не буде кому викривати їх за скоєне в Мамечі. Із селян ніхто не насмілиться притягти їх до суду. А ти поклявся це зробити... На містку в тебе всадять фінку, потім зіштовхнуть у воду і для „надійності” прошиють автоматними чергами.
Мамо, то був твій голос. Це ти затримала мене... Я переборов шок, по-пластунськи, як раніше на війні, віддалився від небезпечного місця і потім попрямував в інший бік. Тільки вранці, коли стало видніше, вибрався з лісу. Поглянувши навкруги, з’ясував, що до станції треба пройти більше десяти кілометрів. А неподалік з туману неждано виринає дрезина. Підіймаю руку – гальмує.
– Ти не той солдат, що поліцаї сім’ю розстріляли? – запитує залізничник.
– Ні, я відстав від свого взводу, – відповідаю і відчуваю, як мурашки бігають по шкірі: невже і цей має завдання знищити мене?
З побоюванням заліз на дрезину. Докотили ми до Овруча. Там я пересів на попутній поїзд.
А через декілька місяців від слідчого, що вів справу Сліпня і його спільників, я дізнався, що вони й справді організували в лісі засідку і той залізничник був співучасником. Виконуючи твій заповіт, мамо, я не доносив на них, не виступав свідком у суді. Їх піймали на іншому злочинстві, а потім уже ланцюжок потягнувся в Мамеч. Ті поліцаї самі в усьому зізнались. Вироки мали суворі: з Сибіру ніхто не повернувся в Мамине Село, як у давнину називали наше поселення.
Я теж не був там півстоліття. Якось з електрички зіскочив на станції, хотів іти в свій Мамеч, а не можу – сльози душать... Образа і любов ніби схрестили мечі в моїй душі. Я не в змозі забути наші луки, річку, соснові зарослі... З селом пов’язані спомини про твої, мамо, теплі долоні, які в дитинстві своїм дотиком зцілювали від усіляких хвороб. Інколи у снах з’являються твої карі очі, щоб заспокоїти і втішити. А ось твій голос з’являється найчастіше. Він як був, так і залишився сповненим енергії і бадьорості. Чи не від цього моя до тебе любов не зменшується, а навпаки, росте й розпалює образу на тих, хто відібрав у вас життя?.. У Святому Письмі сказано, що „любов відкриває врата всепрощення”. Чому ж моя душа ніяк не може відтанути?
Важко їй. Фашисти забрали в мене не тільки вас... Вони розбомбили потяг, у якому їхала в евакуацію моя дружина Ліза з п’ятирічною донькою Фірою. Ліза померла від ран. Доньку виходила молодша сестра дружини Маша, котра опісля стала моєю другою дружиною. Із Овруча ми переїхали в Нікополь. Я працював сушильником-термістом на Південнотрубному заводі, потім – підкрановим. Разом з Машею ми поставили на ноги не тільки мою доньку, а й двох наших хлопців – Володимира та Аркадія. Вже маємо шістьох онуків: Олександра, Леоніда, Машу, Тетяну, Ігоря, Аллу. Сім’я моя росте, духовно мужніє... Та ось рубці на серці й досі не розсмоктались.
Біль не згасає тому, що тут, на нікопольській землі, фашисти згубили всіх наших родичів, усіх євреїв, котрі жили в місті та в спецпоселеннях №№ 11, 12, 20, 23. Закатовано 12 тисяч чоловік. Знищували їх сім’ями, родами. Тому молитися за них нікому, крім мене. А я хіба вічний? Ось і щемить серце, особливо за тими, кого знав особисто. А це: Сіровські – Ісаак, Авраам, Ізраель та їхні родини. Дорфмани – Михайло, Яків та Лейба Берковичі, Овсій та Лев Ароновичі та їхні родини. Гутмани – Емма, Хайя та їхні родини. Гупери – Михайло, Лев та їхні родини. Бірман Шика, Фрідман Арон, Герш Олександр, Рибак Піня, Романовський Семен, Равінська Люба, Герман Михайло, Вінницька Фаня, Кербель Фая та їхні родини. Всі з прізвищами Райскін, Ройзман, Рохлін, Мурат, Рігер, Кріцман, Егудин, Вайнерман, Король, Велідецький, Брайнер, Піндрик, Ставшанський, Юхсман, Купливацький, Фишман, Яблоновський, Яльтман, Мандель, Лешинер, Кемельман, Найвельт, Лубочанський, Гольштейн, Зильберман, Австражанський, Левит, Радомильський, Азволинський, Гержбейн, Рашкован, Аснин, Дробачевський, Проектор, Вайнерман, Швіндерман, Фрізман, Слуцький, Брайман, Камінський.
Це не тільки я, це також і ти, мамо, просиш, щоб імена і прізвища безневинно убитих в Україні і в цілому на планеті Земля занесли в Святу Книгу Мучеників. Якщо такої немає – її потрібно створити. Настав час у Берліні, Парижі, Києві, Варшаві, Токіо, Будапешті, Пекіні, Відні, Лондоні, Вашингтоні, Москві та інших містах світу відкрити пантеони пам’яті жертвам людських злочинств. Яке ж це насильство над історією, коли тирани і кати в неї вписуються з великих літер, а річки пролитої ними крові мало хто помічає?.. Безсмертна душа моєї мами стукає не тільки в мої груди, вона стукає в серце кожної людини, вимагаючи: „Живіть по совісті! Не зраджуйте! Не вбивайте!”
ПІСЛЯМОВА. Запис сповіді єврея Йосипа Абрамовича Дорфмана, що звернута до закатованої мами, виконав я – українець Андрій Дробот. Ця робота давалася нелегко: дуже давні події. А потім – якийсь жах сковував: як міг Дорфман чути голос померлої, розмовляти з її душею?.. Та передана ним трагедія так глибоко проникла в серце, так ранила його, що я звільнився від болю тільки тоді, як виклав усе на папері – слово в слово.
ЛИЦА ДЕТСТВА
Алексей Рудницкий
ПОНЕСИ ПОРТФЕЛЬ!
Эту жутковато-смешную историю рассказал мне Леонид П., с которым вместе посещаем Никопольскую детскую театральную сту¬дию. Ему всего восемь лет, а в разговоре как старичок. Поцелуи и иные детские розыгрыши в его устах звучат, как нас¬тоящий интим взрослых. Вот послушайте.
- В нашем классе Аню называют не иначе как «блестящей». Еще бы! Учится на высшие баллы, одевается со вкусом, а ли¬цом напоминает никопольчанку из этого самого московского квартета. Мальчики балдеют от нее. И вот эта принцесса едет в школу на «мерседесе» - и машет мне рукой. Ее приветствие я истолковал как знак внимания и на последней переменке подхо¬жу к ее парте.
- Давай, - говорю, - после уроков помогу портфель нести.
Она хохочет:
- Таких, как ты, море. Сегодня мой портфель несет Петя, завт¬ра - Вася, в пятницу - Коля... Хочешь, в очередь запишу?
- Не возражаю.
- Учти, аж в следующий четверг тебе выпадает...
Дождался я своей очереди. Несу портфель. При выходе со школьного двора Аня вынимает из портмоне крупную ассигнацию, машет перед носом:
- Повеселимся?
Махнули в парк на аттракционы. На «чертовом колесе» вначале ей понравилось, а потом стала кричать: «Боюсь!» - и хватается за меня. На «американских горках» вела себя спокойнее, даже дремать начала. А в комнате кривых зеркал и она, и я хохотали от души. И дальше все как по маслу шло: обнимались, целова¬лись. Прям забыли о беге времени. Спохватились от звонка мобилки - мама напомнила Ане, что ее ожидает вкусный обед. Провожая Аню домой, я стал изображать в ролях (это заранее спланировал) сцены из рассказа «Жених во полуночи», автор - Пильняк. Я с шести лет посещаю актерскую студию, поэтому сумел заинтриговать слушательницу. Она - чтобы дослушать рассказ до конца - провела меня до моего дома. Хотя, прощаясь, неожи¬данно заявила:
- Больше ко мне не подходи! Мы очень разные! Ты все время чем-то злишь меня!
На следующий день я вошел в класс кислый, как лимон. На мое приветствие Аня не ответила и даже не посмотрела в мою сторону. А на большой перемене застаю ее под лестницей с Сашей - моим соседом по парте.
- Аня, ты что тут делаешь?
- Целуюсь. Не видишь? Думал, о тебе размечтаюсь?
- Ну хотя бы не опускала себя.
- Отвали, шут прибацанный!
- Но вчера ты меня целовала...
- Ну и что? С кем хочу - с тем и целуюсь! Мальчики, уберите этого - он мешает целоваться!
Пятеро пацанов, что стояли за Аней, взяли меня под ру¬ки и, как арестанта, увели прочь.
Ночью не смог уснуть. Аня, как заноза, вонзалась в сердце все глубже... «Но я не хлюпик, - твердил себе, - не сдамся. Приближается День любви - и я удивлю ее подарком...»
Собирал копейку к копейке. В супермаркете купил конфеты «Звезда». Подношу, а Аня снисходительно:
- Посмотри, что другие мальчики мне подарили!
Показывает кольца, кулоны, браслеты, серьги.
Я стушевался. А она:
- Ни к чему мне твой копеечный презент!
И плавно опустила «Звезду» в мусорку.
Я не смог сдержать обиду. Убежал из школы, бродил по улицам и плакал. А потом говорю себе: «Ты же актер! Сумей смеяться, когда душа в когтях у кошки!..» Сжал я волю в кулак, вернулся в класс, улыбаясь на все 32 зуба.
Увидев меня, Лиля, что сидит на передней парте, наклонилась к моему уху:
- Леня, прими поздравления с Днем любви и в подарок платочек.
- А что, - продолжаю наигранно улыбаться, - моя мама не в состоянии купить мне за 50 копеек платок?
- Но я вышила на нем твое имя, - побледнев, молвила Лиля.
- Тогда давай сюда...
Беру, понимая, что едва не уподобился нашей «блестящей». Чтобы подбодрить Лилю, поцеловал ее в щечку и ласково произнес:
- Спасибо. Скажи еще что-нибудь.
- Если честно, ты с первого класса мне нравишься. Раньше стеснялась сознаться. Ну а сегодня ведь можно?
- А можно, - ложу платочек в карман, - сегодня понести твой портфель?
- Пожалуйста.
Свое внимание Лиле я выражал бурно, с актерским умением. Мне важно было на глазах у Ани продемонстрировать, что я тоже привлекателен. И действительно повеселел, когда заметил, что Аня реагирует на мою игру. Это побудило пос¬ле последнего звонка взять Лилю за руку и вместе пройтись по школьной аллее. При этом видел, как Аня следит за нами.
Постепенно игра вошла в привычку. На переменках я уединялся с Лилей под лестницей. На уроках физкультуры помогал ей подтягиваться на турнике, завязывал шнурки на кедах.
Аня откликалась на это по-своему. Натравливала на меня Петю, который любит задираться. Угощала всех семечками, кроме нас с Лилей. А однажды крикнула нам вдогонку: «Козел выбрал козлиху!»
Это еще больше меня подзадорило. Везде и всюду появлялся рука об руку с Лилей. Вместе смотрели фильмы. Приглашал ее к себе домой поиграть на компьютере. Вечером засижива¬лись на лавочке (под Аниными окнами). Лиля меня не стесняла. С ней было легко и прикольно. В любое время мог обнять, поцеловать. Я все о ней знал. Однако, глядя ей в глаза, почему-то продолжал думать об Ане. Сердце по-прежнему тяну¬лось к «блестящей».
Словно догадываясь об этом, Аня подошла ко мне в прошлую среду:
- Леня, сегодня твоя очередь нести мой портфель.
- Разве больше некому?
- Вася заболел. Да и я очень хочу, чтобы нес его ты.
- Я не нанимался.
- Не хочешь на аттракционах пооткалываться?
Рядом стояла Лиля, ожидала моего решения.
- Нет, - ответил я. - Ныне у меня по расписанию игра на компьютере.
Я при Ане поцеловал Лилю - и в обнимку с ней удалился.
А сегодня учу математику, в комнату заходит мама и сообщает, что пришла Аня. От неожиданности едва не упал со стула.
Открываю дверь. В прихожей стоит «блестящая». Вся в слезах.
- Что стряслось? – спрашиваю.
- Люблю тебя...
Как я обрадовался! Ведь весь этот период ожидал, что ее сердце потянется ко мне. Хотелось обнять гостью, расцеловать. Но все же я унял свой порыв. А когда Аня присела на ди¬ван и нацелила на меня воспаленные глаза, почувствовал опас¬ность от заложенной в этой девочке вседозволенности, от ее стремления любого и каждого подчинять своей прихоти. Сейчас уступлю, поглажу по головке - а завтра сядет на шею и ноги свесит.
Как бы читая мои мысли, Аня сказала:
- Я буду верно дружить. Одному тебе разрешу носить мой портфель.
Еще раз взглянув на «блестящую», я ощутил восторг от победы над ней. Меня подмывало сознаться, что я, как тот паяц, разыгрывал комедию. Что моя симпатия принадлежала, при-надлежит и впредь будет принадлежать ей одной. Я уже рас¬крыл рот... Но какая-то внутренняя пружина остановила: «Не верь этой избалованной девчонке! Заставь ее страдать!..»
Печальная, униженная Аня притягивала к себе. Теперь точ¬но знал, что она милее всех на свете. Но сказал противо¬положное:
- Не могу предать Лилю. Я у нее один. А у тебя мно¬го пацанов.
Аня продолжала плакать. Но утешать ее не стал. Коль я актер, то обязан играть роль жестокого мачо до конца. Решил отречься от любви. Это рациональнее, чем взваливать на свои плечи всю непредсказуемость «блестящей».
Компьютер, в который заложил данные о себе и Ане, выдал такой же «ответ».
Но, нажимая клавиши этого бесчувственного аппарата, каждый вечер рыдаю. В сердце продолжает жить «блестящая». Буравит, выкручивает его. А во сне вижу ее в виде кликуши, которая насела на меня и кричит: «Понеси портфель».
ЛИЦА ОТРОЧЕСТВА
Алексей Рудницкий
ТАЙНЫЙ ПОЦЕЛУЙ
Вот какие записи я обнаружил в дневнике своего одно-классника.
«21 СЕНТЯБРЯ. Привет! Меня зовут Витя Шпак. Я живу в Никополе на улице Жуковского, которая, если честно, мне ужас¬но не нравится. Хотя где-то рядом с нами находится кварти¬ра мэра Старуна, уюта в нашем микрорайоне мало. Когда ветер со стороны ферросплавного - закрываю окна, гарь и дым не дают дышать. А вот в нашу квартиру я влюблен, особенно в мою комнату, где есть новый стол и красивые обои.
В восьмом классе, в котором учусь, меня часто унижают. И я считаю, что моя жизнь - ад. Друзей не имею, потому что вокруг одни эгоисты. Они создали компанию «крутых» и не пус-кают туда таких, как я. Да я и сам не стремлюсь с кем-то подружиться. Не знаю почему.
«18 ОКТЯБРЯ. Сегодня учитель географии дал мне задание принести из библиотеки карту Европы. Я взял карту, лечу ко¬ридорами в класс и неожиданно с кем-то сталкиваюсь, падаю. А рядом, вижу, упала девочка с книжкой. Заметил: нос кар¬тошкой, шелковистые волосы, губы розовые-розовые, а глаза - как зелень в нашем море. От моего пристального взгляда девочка зарделась, стала очень привлекательной.
- Ты чего идешь и не смотришь под ноги? — пробурчал я. - Не видишь - карту несу?
- Извини, урок на ходу зубрила,- пролепетала незнакомка.
- Ладно, прощаю. Помоги карту разгладить, а то помялась...
Мы привели в порядок карту, разговорились. Девочка ока¬залась из нашего класса. Новенькая. Звать Ира.
После уроков я показал ей нашу школу: залы, кабинеты, ко¬ридоры. И даже потайные места - такие, как курилка и скрывалка, где можно прогуливать уроки.
Мне приятно находиться рядом с Ирой. Ее размеренный говор как бы щекочет, притягивает. Неужели я нашел себе друга?..»
«2 ФЕВРАЛЯ. После нашего знакомства с Ирой минуло более трех месяцев. В классе она всем пацанам нравится. Липнут к ней, заигрывают. А я не желаю делить ее ни с кем. Убил бы того, кто к ней приближается. Она как бы читает мои мысли. Никого к себе не подпускает. С каждым днем мы все больше сближаемся. Компания «крутых» поглядывает на меня с завистью. Наконец-то и в моем окне засветило солнце».
«12 МАРТА. Понимая, что Ира мне симпатизирует, я решил сделать еще один шаг. Взял два билета в кино - пригласил пос¬мотреть картину «Титаник». Раньше «крутые» звали ее в кафе, макдональдс, на качели. Но она всем отказывала. А мне - ура! - не отказала.
Сидим в зале. Я бы не осмелился. А Ира это сделала - взяла мою руку в свои и слегка погладила. От ее прикосновения мое тело как бы вздрогнуло. Ощутил, как чаще забилось сердце. Во рту пересохло. Глаза заслезились. Стало трудно ды¬шать... Но волнение сладкое, ни с чем не сравнимое... Потом мы вместе смеялись, когда в кадрах было что-либо веселое. А под конец оба обливались слезами, видя как тонет «Титаник» и его пассажиры».
«13 МАРТА. После свидания долго не мог уснуть. Я как бы летал, и в этих полетах все время держал за руку Иру, ощущал токи крови в ее пальцах... «Титаник» тонул - а мы летали.
Утром я зашел за Ирой. Взявшись за руки, мы побежали в школу. Наши улыбающиеся лица компания «крутых» восприняла как оскорбление. Наиболее яростно посматривал на меня высо-кий пружинистый Мечислав, его взгляд как бы предупреждал: «Ну шкет, поколочу я тебя сегодня!»
Иру после уроков позвали в танцевальный кружок. А меня за школьной оградой встретил иной «кружок» - ватага «крутых». Первым подскочил Мечислав:
- Ты, бомжик, в рыцари метишь? Знай свое место - не высовывайся! Чтоб больше никто никогда тебя не видел рядом с Ириной! Ты понял?
- Отвали, Меч! - вскричал я.
- Ах так? Пацаны, проучим его!..
Около десятка «крутых» набросились на меня. Били по чем попало. Я упал на асфальт, ощущая боль, страх и какую-то тошнотворную пустоту...»
«3 АПРЕЛЯ. Сознание вернулось ко мне на второй день. Стены, потолки, занавески - все вокруг белое. А я вроде бы летаю. Один. Без Иры. Как ангел... И откуда-то голос мамы:
- Проснулся, сынок?
- А где я?
- В больнице.
- С твоими одноклассниками, - подал голос отец, - я разоб¬рался. Все это из-за кокетки Ирины.
- Она добрая, - возразил я.
- В любом случае запрещаю к ней приближаться!
- Пойми, - вставила мать, - так для тебя будет лучше.
- Но я люблю ее...
- Это детское чувство пройдет.
- Без нее не смогу...
- Сможешь! - отрубил отец. – Запрещаю - и всё!
Родители ушли. А меня несколько дней душили слезы. И вовсе не из-за отцовского запрета. Я понял: не то что при¬близиться - видеть Иру не в состоянии. Стыд мешает. Стыд за то, что не дал (и не дам) обидчикам сдачи. Стыд за свое унижение. За то, что не вышел ростом. Что не искал дружбы с пацанами. Не стал «крутым». Не добился, как Меч, авторите¬та в классе.
Стыд, можно сказать, размазал меня по стенке. Возник настоя-щий психоз. Я панически боялся встречи с Ирой. «Ни за что не пойду в школу!» - твердил... Перед выпиской из боль-ницы пере-оделся в спортивный костюм, что держал под матрасом, - и выпрыг-нул в окно. Побежал на вокзал. Как раз подошел скорый поезд. Я пристроился к симпатичной пассажирке, чтоб под видом ее сы-на прошмыгнуть в вагон. Но кондуктор при виде меня игриво шепнул даме на ухо: «Мне бы такого сына!» Пассажирка отреаги-ровала криком: «Вор! Вор! Помогите!» Мне тут же скрутили руки.
В милиции с улыбкой выслушали мои искренние признания. Вызвав отца, предупредили (с той же улыбкой), чтоб не при¬менял в качестве «воспитательной меры» ремень. Может, поэтому дома меня не наказали. Мало того, папа и мама не обмолви¬лись и словом о школе, Ире. Вместо этого ласково спрашивали: «Ты не возражаешь, сынок, если всей семьей переедем в Днепро¬петровск?» — «Не возражаю» - отвечал я.
После выходных подъехал крытый КАМАЗ, погрузили вещи. Мама села в кабину.
Мне предстояло садиться в отцовский «запорожец». И вдруг из-за торца дома возникает Ира. Я обмер.
Стыд испепелил душу. Все передо мной закачалось... А Ира хватает за руку, тащит в подъезд, обнимает. «Прости, - шеп¬чет, - я во всем виновата...»
Стыд меня не отпускает, топчет. А Ира тянет ладонь к груди: «Дотронься до сердечка. Послушай, как трепещет!» Она уже воткнулась губами в мои губы. Вначале я ощутил ее за¬пах, а потом - поцелуй, с какой-то сладкой кислинкой.
- Никогда тебя не забуду, - сказала она.
- Никогда тебя не увижу, - сказал я.
Мы оба заплакали. И тут же Ира выскочила из подъезда. А на меня снова навалились пласты стыда. Ибо побежала она к Мечиславу, который поджидал ее за углом дома... Получается, этот первый мой поцелуй был не настоящим, а каким-то «подпольным», «тайным».
... Нет, не хочу быть «крутым»! Мне по душе - одиночество!
ЛИЦА ПОРОКА
СИАМСКАЯ ТРОЙНЯ
Едва жену познакомил с другом, как на ее лице проступила какая-то внутренняя зажатоcть. Обычно шумливая и дерзкая, Тина неожиданно притихла и погрустнела. А Клим, как бы стремясь ее подбодрить, сыпал шутками и словесными парадоксами, несколько раз уколол меня, приписав «отяжеление ума бизнесом». Находясь под гипнозом его остроумия, я не обижался. Мне всегда импонировала природная одухотворенность его темперамента. И сейчас было ощущение, что от блеска его глаз освещается столик, за которым сидим. Шпильки в мой адрес - чепуха. Главное – ни Клим, ни Тина не проявляют обоюдной враждебности. А значит, два близких мне человека могут подружиться?
Так и вышло. Тина не надула губки, когда я предложил Климу переночевать у нас. Из ресторана пошли прямиком к девя-тиэтажке, где находится наша квартира. Там распили еще одну бутылку шампанского. Жена не убежала из-за стола, хотя ее звал в спальню наш трехлетний сын. Гость подарил Мите вылепленную из гипса обезьянку - и он позволил уложить себя спать не маме, а бабушке. А мы втроем до полуночи пиршествовали, вспоминали юность. В домашних условиях к Тине возвратилась привычная игривость. Она приперла нас к стенке вопросом: как это мы, такие разные, студентами «ходили по одному шнурку»?
- В один узел, - пояснил я, - нас связали трудности учебы в инженерно-строительной академии. Я помогал Климу грызть сопромат, а он чертежи мне клепал.
- Меня к тебе влекло, - вставил Клим, - то, что в твоей тумбочке всегда находил хлеб и сало.
- Зато в день моего двадцатилетия ты снял со своего плеча модное пальто - и подарил мне.
- Сейчас мой муж, - похвалилась Тина, - владеет солидным пакетом акций строительной фирмы, там же работает «незамени-мым заместителем». А ты что имеешь?
- Ничего, - ответил Клим. - Зациклился на скульптуре. Высек из мрамора несколько композиций. Но их мало кто покупает.
- За счет чего же живет семья?
- Жена - высокооплачиваемый чиновник, деньги у нас всегда есть...
В постели перед сном Тина зашептала на ухо: «Ты у меня самый надежный, самый успешный». Но ласкала с какой-то тревожной новизной и упорно-жестким азартом.
Утром я рано убежал на работу, не знаю, когда проснулись Тина и Клим. Но о том, что их утреннее общение было бес-конфликтным, друг с радостью сообщил, заглянув перед отъездом в мой офис. Я проводил гостя к поезду. Прощаясь, поругали друг друга за то, что около пяти лет жили в разлуке.
- Ты возвратил мне запахи юности, - признался я. - Приезжай почаще!
- А как мне тебя недостает! - глаза Клима засияли его «фирмовым» блеском.
И вот - как тут не удивиться? - спустя всего пару недель стоит мой друг с чемоданами в руках у порога моей квартиры. Он бросил жену, работу. Пока где-то пристроится, хочет пере-кантоваться у меня. Тина возражать не стала, я - тем более. У нас четыре отдельные комнаты, одну отвели ему.
Поначалу вынашивали план устроить Супруна (такая фамилия у Клима) прорабом в моей фирме. Но вот он выложил из чемоданoв скульптурные работы. Я осмотрел их - и мне взбрело в голову взять его на свое содержание. А он пусть творит, высекает и лепит из всяких материалов скульптурные шедевры. Но в первую оче-редь пусть создаст в натуральную величину образ моей жены.
Клима эта идея привела в восторг. В тот же день он принес из магазина мешок гипса и принялся ваять фрагменты будущего творения.
Из чемоданов Супрун извлек также связку уникальных книг: малоизвестных, но прямо-таки гениальных авторов. Вечерами Тина вслух читала их, а мы с другом слушали. После втроем спорили о прочитанном, дискутировали. Книги внесли в наш «кружок» новую живительную струю, уберегая мозги от телевизионного мусора.
Вскоре этажом выше освободилась однокомнатная квартира. Ее жилец уехал работать по контракту в соседнюю страну, а жилье оставил на наше попечение. С моего согласия Клим оборудовал там скульптурную мастерскую, поставил диван для отдыха. В остальном продолжает обитать у нас. Теща, мать Тины, варит вкусные борщи. Тина готовит отличные вторые и третьи блюда. Вечерние трапезы, как правило, переходят в развлекательные беседы об искусстве, в процессе которых Клим показывает видеоролики о скульпторах, живописцах, поэтах, музыкантах.
Но однажды в одиночку захожу в мастерскую Супруна (ключи лежат у нас в секретере), просматриваю альбомы с рисунками Клима - и вдруг натыкаюсь на текст: «Это лицо моей любимой. Я каждый раз плачу, когда оставляет мою постель. Какая это мука: знать, что после меня ее раздевает муж, хватает руками в разных местах, входит в ее лоно...»
Я не поверил своим глазам - текст размещен под портретом Тины. Теперь начались муки и для меня. Поспешил к жене, хо-тел устроить допрос… Но в ее глазах не замечаю и тени греха. Она как раз пекла мои любимые блинчики, улыбнулась нежно-нежно:
- Съешь вот этот, со сковородки, сметана на столе.
Блинчики есть не смог, убежал из дому. Но ее улыбчивость запечатлелась до боли в сердце. Жгуче хотелось, чтобы улыбка не исчезала, чтобы лицо жены все также светилось для меня... Вспом-нил, что всегда ей и себе внушал: свобода превыше всего! Любви ради долга не бывает!.. Но теперь как? Имею ли право качать права? Обвинять? Напоминать о супружеских обязательствах? К чему это приведет? Размозжу те крохи чувств, что остаются для меня в ее сердце. Они же там, я это вижу, не исчезают. Тина заботится обо мне, спит со мной, в постели ничуть не поменялась. Такая же горячая, податливая. И, пожалуй, еще более азартная.
Может, лучше того – другого - не замечать? Может, надо сказать себе, что в нашей любви с Тиной его не существует? Пусть он существует где-то далеко - в их любви. Пусть эта сторона жизни жены остается для меня закрытой. Я не смею открывать ее. Это все равно, что ломиться в заминированную дверь. Пробью ее – погибнут наши с Тиной чувства. Это предок-дикарь убивал соперника - и самка сполна отдавалась победителю. А современная женщина спит с любимым, а не с его убийцей. Ее выбор я обязан уважать!
Но как унять ревность?
Клин вышибают клином. В офисе выбираю ту, что не прочь развлечься. Выпиваем, трахаемся. Но происходит все это механиче-ски, отвлекают думы о Тине. А вот с ней, когда возвращаюсь но-чью домой, наслаждаюсь с неведомой доселе радостью. Ее ласки, ее всюду проникающий язычок завладевают моим телом, уводят его в свой чувственный поток, наполняют душу щемящим блажен-ством... Понял: без Тины завяну, усохну.
Жене будто передалась моя тревога. Будто она прониклась трагичностью возникших обстоятельств. Чтобы смягчить отношения - вечерами не отходит от меня. И как бы внушает: Клима для нее не существует. И в быту, и в постели относится ко мне, как мать к ребенку. Ем те же блинчики, а она возьмет на руки сына и вместе с ним поет мне детскую песенку. А остаемся наедине - даже днем обнажает себя, тугие груди прижимает к моим губам - и в ее зрачках сияют вспышки счастья.
После ловлю себя на мысли: неужели и с Супруном она такая же блаженно-сладкая?
Укрощаю свою ревность тем фактом, что имею преимущество: могу открыто обнимать и целовать Тину. А Клим вынужден уподоб-ляться вору: проделывает все это скрытно, когда меня нет дома.
Разоблачать их уже не стремлюсь. Даже побаиваюсь застать на горячем. Свою нерешительность оправдываю тем, что это было бы бестактно, не по-джентльменски. Да и зачем мне скандал? Тогда неминуемо лишусь жены, лишусь друга. Судьба моя между молотом и наковальней: ревность заставляет страдать, а любовь велит терпеть. Раненое сердце удовлетворяется только тем, что любовник жены не имеет преимуществ. Мне достается, и я с удовлетворением это фиксирую, больше ласковых слов и улыбок. Чтоб оставаться друзьями, мы с ним, не применяя ударов ниже пояса, очень утонченно соперничаем. В чем? В шутках, комплиментах, мелких услугах Тине по наладке бытовых приборов, по выемке и забивке гвоздей. От горячих конфликтов нас уберегает обоюдный страх потерять Тину.
Но вот Клим завершил работу над скульптурным образом моей жены. Все втроем собрались в мастерской. Супрун снимает покрывало со статуи. Да, это Тина! Скульптор изобразил ее в ви-де теннисистки с битой в руках. В каждой детали, в каждой ли-нии - динамика, полет. И поразительная схожесть! Будто это жи-вая Тина! Не мудрено, что стоящая рядом моя жена раскраснелась, ее чувства ушли в небеса. Она забыла обо всем, в том числе и обо мне. Восторг ее души прорвался наружу. Она обняла Клима, и губами впилась в его губы... Я ощутил, как мое сердце заныло, потом толчок в грудь изнутри - и жгучая боль. Впервые при мне они выявили свою взаимную любовь.
Чтоб не броситься в диком прыжке на соперника, бесшумно удаляюсь из мастерской. Даю Тине и Климу возможность удов-летворить жажду физической близости. А сам спускаюсь вниз по ступеням - и слезы капают из глаз. Всегда готов за друга жизнь отдать. Но тут он требует любимую отдать? Есть ли во мне столько мужской выдержки, столько любви к ним обоим, чтобы уступить?
Решаю уехать. Упрашиваю директора фирмы перевести меня на работу в наш филиал в Закарпатье. И, уже прибыв на место, сообщаю Тине о «долгосрочной командировке». Она ни о чем не просит. Только повторяет в телефон: «Люблю тебя! Люблю! Люб-лю!..» Эти пронзительные слова звучат в ушах, но не уменьшают, а усиливают страдания. Скитаюсь по улицам, утешаюсь сексом с проституткой. Но те слова не уходят из сознания, продолжают стискивать душу сладкими щупальцами. День ото дня все сильнее тоскую по жене. Вспоминаю, как познакомились на теннисном корте. Она, восемнадцатилетняя, обыгривала меня сет за сетом. Ее гибкое тело, добиваясь побед, делало на площадке кошачьи прыжки и такие профессиональные захваты и повороты, что я шалел от восхищения. Мне доставляло удовольствие проигрывать. Вечером я, считай, изнасиловал ее на том же корте. И женился не из-за того, что оказалась девственницей, - сладость объятий обру-чем сцепила нас. Ради рождения ребенка (а больше из-за обоюдной страсти) Тина оставила физкультурный вуз, соревнования. Превра-тилась прямо-таки в домоседку-жену, постель для которой - самое святое место... Зачем я свел ее с Климом? Теперь пожинаю горечь своего же легкомысленного посева?
Спустя три месяца понял: не вытравить из души душу Тины, а из тела - ее эротизм. Все женщины чужие. Одна она - моя. Светлым мотыльком приходит в сны. Днем ее тень прислоняется к моей тени. Подсматривает за мной из-за кустов расцветшей си-рени. Снимает палец с курка пистолета, что приставляю к своему виску. А ночью во время бессонницы внедряется в меня, и я ста-новлюсь наполовину Тиной, наполовину собой. Мои губы - это и ее губы, слышу их шепот: «Возвращайся домой, возвращайся...»
И я сдаюсь, возвращаюсь в Никополь. Тина и Клим встречают меня как блудного сына. По их глазам вижу: искренне любят, до-рог я им. А лицо жены - словно радуга после дождя. Ночью узнаю всю ее тоску по мне. Она вроде не сближается, а отстраняется, но с первой минуты зажигает и сама вспыхивает как костер. Ее тело не перестает отдавать и вбирать огонь. Он будто вернулся с того первого дня на теннисном корте. Радость близости побуждает обо-их стонать, хохотать, плакать - и парить, парить душой в небесах!
Там, в Закарпатье, за спиной все время стояло отчаяние, тол-кало к пропасти. Душу заклинивало безразличие к людям и к се-бе. А теперь к душе возвращается желание жить, сочувствовать, считаться с желаниями других... Ласка жены снимает наслоение злости, предовращает нервный срыв.
Клим вскоре принимается ваять (пока из гипса) очень симпа-тичное «чудовище», где я и Тина должны предстать со сросшимися головами, со слитыми спинами, ногами и руками. У Супруна на лице скорбь, но трудится он как каторжник. Спит всего-то два-три часа в сутки. Уже на тридцатый день, приспособив ковер, мы с ним перетягиваем готовое изваяние из мастерской в нашу квартиру, устанавливаем в горнице у большого окна.
Своим творением Клим как бы подчеркнул, что не собирается разрушать наши с Тиной супружеские узы, что я и она срослись навсегда и никакая сила нас не рассоединит. Этим жестом он направил в мою изгореванную душу целебный ручеек. Ко мне возвратилось равновесие, сошел на нет накал ревности.
Я продуктивно разрешил ряд служебных проблем. Посвежел лицом. Порой убеждал себя, что ревность возникала необоснованно. Что Клим всего лишь верный друг нашей семьи. Мне хотелось в это верить - и я начинал верить. Постепенно стал смотреть на нашу троицу, как на кружок по интересам. Тина возобновила чтение книг по вечерам. Мы выключали телевизионное «мыло», садились подле нее в кресла и слушали. Потом, как это у нас заведено, возбужденно дискутировали. Так же втроем совершали вылазки в кино, на различные городские шоу.
Как-то занятый поисками содержательной книги (все они хра-нятся в мастерской Супруна) натыкаюсь на тайник, открываю двер-цу - и леденею. Там стоит скульптура по размеру точно такая, ка-кую Клим сделал для нашей горницы. Только у этого «чудища» не две, а три головы, не четыре, а шесть рук, не четыре, а шесть ног. В третьем персонаже, слитом в одно со мной и Тиной, я узнал Клима. Приклеился к нам. И табличку приклеил: «Сиамская тройня».
В буйстве, что трясет мое тело, рыщу по закоулкам мастерской. Листаю альбомы, книги, тетради Супруна. И нахожу как раз то, чего больше всего боялась ревнивая душа, - дневник. Буквы кажутся гигантскими. Читаю: «У Тины на плече есть родинка. В горькие минуты прикасаюсь к ней - и мне становится легче. Эта родинка, по моим астральным предположениям, видимая часть «внутреннего солнца», которым ее наделила природа. Оно, когда я рядом с Тиной, удваивает мою творческую силу, я чувствую себя гением. Я все могу. Единственное, чего не могу, это отречься от этой, не до конца понятной мне женщины. Вчера она сказала:
- Ты мой крест, никогда тебя не оставлю.
- Почему же тогда, - говорю ей, - не разведешься с мужем?
- Сирен содержит нас с тобой. Ты хочешь искать пищу на мусорке?
- От брата на мой счет поступило четыреста тысяч долларов. Нам хватит для жизни.
- Но на суде я не смогу врать. А это приведет к тому, что за измену мужу у меня отнимут сына.
- Сирен не изверг. Он уступит ребенка.
- Но есть еще одно - непреодолимое! - обстоятельство.
- Какое?
- Оно находится в моей душе, в моем теле. Там глубоко засел Сирен. Люблю его так же сильно, как и тебя. А любовь моя, ты знаешь, смертельная.
- А если я тебя брошу?
- Погибну. И если Сирен бросит – погибну.
- Неужели сила любви к одному и другому одинакова?
- Одинакова и навсегда!
- Это у тебя болезнь какая-то?
- Возможно. Но чувство страсти к тебе и к Сирену сильнее рассудка. Одолеть его не в состоянии.
Открыв свою тайну, Тина разревелась. Я утешал ее - и сам плакал. Выходит Тина, Сирен и я в любви -как своеобразная сиамская тройня, которая не способна жить раздельно...»
В истерике бросаю дневник Клима в огонь - и тут же выхваты-ваю из огня. Под скрежет зубов переключаю гнев на себя. Подлец! Зачем читал чужие откровения? Чего достиг? Еще пару ножей во-ткнул себе в спину? Не обнажая правды, легче было сносить собст-венный обман собственной души. Меньше боль отдавалась в сердце. Ревность малость поутихла. Тина и Клим ее убаюкали тем, что глубже затаились. Все делали для того, чтобы ублаготво-рить меня. Я уже недоумевал: может, охладели друг к другу, оборва-ли интимную связь?.. А теперь видно (из дневника видно) - любовь у них еще жарче, еще драматичнее. Тайна сближает Клима с Тиной, а меня отодвигает от нее. Моя душа все больше страдает, усиливается брезгливость к любви на троих. Душа не принимает ее. В мучениях проклинает саму себя. Я готов заживо лечь в могилу, но не делить на двоих нежность Тины. Моя страсть, моя безумная тяга к ее телу доводят до отчаяния. Где тот лед, что снимет жар? Где тот огонь, что сожжет огонь?
Единственно Митя своим детским сердцем очищает грязь наших «тройственных» отношений. Это благодаря ему продолжается мое терпение - и в семье не наступает полный кризис. Не только любовь к Тине, но и мысли о сыне заставляют меня избегать конфликтов. Мальчику не доводится видеть ссоры между родителями. Митя растет уравновешенным и веселым. Но что будет, если он начнет все понимать? Какую трагедию мы ему готовим? Переживет ли ее?
Вчера купались с сыном на море. Разглядывая в бинокль противоположный берег, он воскликнул:
- Там какие-то черепахообразные здания!
- Это, - поясняю я, - шесть блоков Запорожской атомной электростанции . Если там случится авария, не поздоровится не только нам, но и всей планете.
- А почему соседская Верка говорит, что для нее смерть отца страшнее взрыва на этой станции?
- Потому что, если у ребенка нет отца, он лишается многих необходимых ему благ: отцовской любви, отцовской заботы, достатка, возможности получить хорошее образование... Вера одевается беднее тебя. Ей не с кем гулять, купаться… - чтобы сын не увидел, как при этих словах из моих глаз покатились сле-зы, я отстраняюсь от него и прыгаю в воду.
... Не оставлю Митю сиротой. Нет, не оставлю!.. Я изведу родинку на плече Тины.
ЛИЦА РЕВНОСТИ
Алексей Рудницкий.
БРАТ НА БРАТА
Это уголовное дело рассматривалось в Никопольском гор-районном суде очень долго. Слишком сложной и необычной была трагедия, разыгравшаяся в селе Лошкаревка.
Двадцатилетний Владимир, что жил и работал в Днепропет-ровске, на денек приехал в гости к родственникам. Старший брат Евгений по этому случаю купил бутылку водки, пригласил гостя в дом. К столу подсела и жена Евгения Наталья. Выпили, закусили. Вскоре хозяин на какое-то время отлучился по делам. А когда вернулся, дверь оказалась запертой. В порыве ревности он выбил дверь и, войдя в дом, увидел брата в одних брюках, а жену обна-ружил в шкафу голой, с одеждой в руках. Схватив кухонный нож, Евгений устремился к жене. Но на пути встал Владимир. Тогда он нанес удар брату. Наталья в испуге бросилась наутек.
Опомнившись, Евгений стал оказывать брату помощь, на соседской машине повез его в больницу. Но по дороге тот скон-чался - удар пришелся в самое сердце.
Суд приговорил Евгения Ларченко к семи годам лишения свободы... Прямо на суде он заявил, что по-прежнему любит жену и после отбытия срока вернется в семью, где у него двое малолетних детей. Мать же, которая потеряла младшего сына и только что услышала приговор старшему, вышла из зала суда наполовину седая.
Алексей Рудницкий.
ЛИЦА ЧУВСТВ
ОЧІ
В останній час свого життя,
Щоб світ побачити з вершини,
Я, ніби птах, рвонувся вгору...
Ось скеля, мов кинджал, пряма...
Висить, як я, в німій нескорі
На корінці хитка шипшина:
Подує вітер - й кине в море...
Та що мені тепер до квітів!
Блідий, наляканий, безсилий,
Вже чую - кровоточать рани.
Ще крок - і обірвуться муки:
Єство моє розвіє вітер,
Кістки мої обгложуть краби...
Та раптом - наче ніжні руки,
Немов жива гаряча сила,
Подхоплюють мене, як сина,
Очі сині.
Нечутно, мов сльозу свою,
Несуть все вище - аж до хмар –
І тихо опускають на краю
Поляни.
Тут ромашок тьма,
Рододендронів, едельвейсів...
Та я лиш сині очі бачу,
Немов з святого джерела,
З них п’ю надію на безсмертя.
Цілую їх і з ними плачу –
Останній час мого життя.
НОЧЬ
Сидели мы вдвоем под сонной ивой
И просто, откровенно говорили,
Как часто с человеком человек:
Что все свое давно уж отлюбили -
Друг друга не полюбим мы вовек...
А ночь была чарующе красивой!
Сидели мы вдвоем под сонной ивой
Совсем далекие, совсем чужие.
И думали, что не сойдемся мы,
Как берега не сходятся речные,
Хотя соединяют их мосты...
А ночь была чарующе красивой!
Сидели мы вдвоем под сонной ивой,
Не знали сами, от чего сияя,
В последний раз взглянувши в высь,
Откуда льется звездность золотая,
Хотели, как обычно, разойтись, -
Но ночь была чарующе красивой!
У МОЛЬБЕРТА
Давно пишу ресниц кайму,
Узоры губ твоих целуя,
Но до сих пор все не пойму:
Ты любишь или чувствами балуешь?
Твои глаза день ото дня
Меняют отсвет свой стократно.
Чем больше узнаю тебя,
Тем ты загадочней и непонятней.
Все неожиданней черты
В лице твоем я открываю.
И чем нежней со мною ты,
Тем я в тебе сильнее сомневаюсь.
Давно пишу ресниц кайму,
Узоры губ твоих целуя.
Но до сих пор все не пойму:
Ты любишь или чувствами балуешь?
БАЛДЕЖ
- Давай балдеть! - сказала ты.
Балдеж, я думал, что-то грустное.
Как слякоть в осень - мерзко-гнусное,
Где души - желтые листы.
Но ты скурила сигарету,
С веселой нежностью пьяня
Глазами детскими меня.
Затем глоток вина, конфета.
И поцелуи - как волна,
Что плещет и не знает дна.
Как тишина, душа воскресла
От песни губ и рук твоих.
Из песни той рождалась песня,
Лилися слезы в дивный стих.
А на заре глаза сказали,
Что ты впервые счастье пьешь.
Что никакой то не балдеж,
А сердце пленное восстало,
Срывая цепи поздней робости.
...И в этот час, как ты, всходило
Навстречу красное светило –
Из черной пропасти.
ВТРОЕМ НА СКАМЕЙКЕ
Его тогда не понимал я.
Сидел он рядом нем и глух.
А мы игрались, обнимались
И смехом отгоняли грусть.
Но ты со мной простилась вскоре.
Как он, остался я один.
Мне незнаком тот парень скромный,
Но часто здесь встречаюсь с ним.
В лучах его немой печали
Так много для меня тепла –
И я как будто ощущаю,
Что оба любим мы тебя.
ДРУГАЯ
Когда за праздничным столом другая
Чуть улыбнется, намекая на любовь,
Мне вспомнится далекая, родная,
И сердце сдавит грусть и боль.
Мне кажется,
Что в этот час ты так же
Другому грудью клонишься на грудь,
И плавно замирая в тихом танце,
Глазами не даешь передохнуть...
Я пью тогда по полному стакану:
Мне хочется к тебе,
К весне,
К мечте...
Но просыпаюсь -
В душной пустоте:
С другой, с ненужной, с пьяной.
...Когда за праздничным столом другая
Чуть улыбнется,
Намекая на любовь,
Мне вспомнится далекая, родная,
И сердце сдавит грусть и боль.
ИВА
Я сам, я сам виновен, что теряю
Неповторимые часы покоя.
Не ты ведь, это я все убегаю
И становлюсь безудержной рекою.
А ты? Ты ива, над водой стоишь
Полна очарованья и печали:
То не зеленые глаза твои –
То звезды губы неба повстречали.
Ты ждешь, когда течение спадет,
Чтобы в тиши ночей, луной обвитых,
Ветвями грустно прикоснуться вод –
И хоть на краткий миг остановить их.
Я сам, я сам виновен, что теряю
Неповторимые часы покоя.
Не ты ведь, это я все убегаю
И становлюсь безудержной рекою.
РОСИНКИ ГРУСТИ
Не верю, что душа твоя проста
И не сияет в ней таинство чувства:
Едва заулыбаются глаза -
Я вижу там мои росинки грусти.
Ты одеваешь платья, как на бал,
Когда ко мне выходишь в день унылый.
Но просишь, просишь все, чтоб забывал
Шаги твои и находил иные.
А помнишь ночь бессонного бессилья,
Когда совету твоему я внял?..
Мне рассказал о ней цветочек синий,
Что под глазами у тебя завял.
Не верю, что душа твоя проста
И не сияет в ней таинство чувства:
Едва заулыбаются глаза -
Я вижу в них мои росинки грусти.
ПОРТРЕТ
Любуясь солнечной косой,
Писал тебя я давним летом.
Но стало скучно мне с тобой –
Забросил холст с твоим портретом.
Сегодня, надо ж, вальс кружим.
Чуть выбившись в кольцо над оком,
Мне режет глаз, как усик ржи,
Твой непокорный милый локон.
И вновь, как восемь лет назад,
Смотрю на косу я тугую,
И так мне хочется сказать:
«Давай тебя я дорисую».
МГНОВЕНИЕ
Я днем читаю Кьеркегора*.
А вечером иду в твой дом на пытку:
Пью с глупым чай, неумно спорю,
Смотрю, как даришь ему пылкость.
Его лицо - коряга с углем.
Душа - захламленный гарем.
Я называю его другом,
Чтоб только быть с тобою рядом.
И, как безумный тот Серен,
Наивно верю, что мгновенье,
Одно мгновенье:
Когда с тобой встречаюсь взглядом -
Сильнее вечности.
Серен Кьеркегор - известный философ-идеалист.
ИГРА ГЛАЗАМИ
В лучах и брызгах волн высоких
Глаза, как незабудки, расцветали,
Их чистые лазурные потоки
Меня поили детскими мечтами.
Но ночи страсть вела тебя к другому.
Я видел ваши бешеные лица,
Тела сплетенные.
И в том погроме
Рыданья-стоны жуткие лилися.
А утром - снова ты светла, как небо.
От той прозрачности уходит мгла.
И кажется, что ночи черной не было,
Хоть точно знаю, что она была.
СТРАННЫЙ ДОМ
Мне больно быть твоим рабом.
Любить, любви не получая.
Стучаться в этот странный дом,
Где долго ждут, но не встречают.
Я думал, жесткость - лишь прием,
Которым пробуждают нежность.
Но вижу, что всегда при нем
Твоя жестокая безгрешность.
О, без меня - ты ни на шаг!
Со мной же - не моя, чужая.
Как будто мертвая душа
Живет в тебе, не оживая.
И ты совсем не хочешь знать,
Как мучусь я и как страдаю.
Лишь глаз немая глубина
День ото дня сильней пугает.
...Мне страшно быть твоим рабом.
Любить, любви не получая.
Стучаться в этот странный дом,
Где долго ждут, но не встречают.
ТАТЬЯНА
Где ты, моя любимая Татьяна?
Я о тебе, как о весне тоскую.
Признайся: в мире этом пошло-пьяном
Ты есть иль просто выдумал такую?
Вот от обид, что люди причинили,
Иду я в степь с колосьями обняться,
Они руками шерсткими твоими
Ласкают сердца боль и просят счастья.
Готов, готов отдать я изначально –
Чтоб изваять тебя горячим словом –
Простор и жизнь души своей печальной.
Но ты принять мои дары готова?
Тревожно, и в степи уже тревожно.
Ведь ночь ее от света отделила.
В густой холодной тьме бреду я рожью,
А молния кресты чертит, могилы...
Где ты, моя любимая Татьяна?
Как о рассвете, о тебе тоскую.
Признайся: в мире этом пошло-пьяном
Ты есть или просто выдумал такую?
В СКЛЕПЕ
В любви,
Что с нами была,
Страшно то,
Что ты уходишь, будто умираешь
В холодной призрачно-далекой тине.
Но во сто крат страшней,
Что я, страдая,
Уйти из склепа этого не в силе -
И умереть и жить мне не дано.
ОТРЕЧЕНИЕ
«Приезжай! Приезжай! Приезжай!» –
В телеграммах и письмах ты просишь.
Все истоки души твоей в прошлом
И ты встретишь меня, словно май.
Ты цветами устелишь кровать.
И смеясь и рыдая с цветами,
Будешь каяться и целовать –
И тоску изливать на рояле.
Оживет из мелодии остров.
Разольются от слез родники.
Зацветут возле них васильки,
И деревья подымутся в росте.
Как желаю, как жажду той встречи!
Чтобы с музыкой слиться навечно.
Чтоб она воскресила тот лес,
Что в твоей же измене исчез.
Но закрыта для встречи дорога.
Я не знаю и сам почему,
Прикоснуться к тебе не смогу –
К тебе, что касалась другого.
«Приезжай! Приезжай! Я - твоя».
Этот зов, будто крик среди ночи.
...Отчего же мне легче и проще
Все забыть, чем увидеть тебя?
В ВЕЧНОЙ РАЗЛУКЕ
Сказала: в восемь. Я пришел.
А зал под небом уж пустой.
- Концерт закончился давно, -
Мне объяснил старик седой. -
Тут песня в сердце, как вино,
Лилась, пьянея голосами.
Запомнился романс Оксаны,
Что будто плакала слезами...
Я понял: в этой песне - я.
Я понял: ты - печаль моя.
С тобою никогда не встречусь,
Хотя и жив в твоей судьбе...
Те розы, что принес тебе, –
Другой я отдал в этот вечер.
ЕДИНСТВЕННАЯ
Неправда!
Ты была моей!
Любимой женщиной моей!
Ты в жизни первый раз разделась –
От взгляда нежного разделась.
Во мне до капли растворилась –
Руки касаньем растворилась.
Дитя родишь.
Ведь тяжела:
Моей любовью тяжела.
...Прости,
Что ты была моей -
Единственной моей.
СВАДЬБА
В разгаре свадьба -
Хмельная полька.
Один я трезв,
Ничего не пью.
Боюсь, в агонии этой горькой
Начну кричать,
Что тебя люблю.
Кричать, кричать
И безумно плакать,
Что в жизни нам не судьба с тобой,
Что если был на земле кто распят -
Так это наша больная любовь.
Никак не выбраться ей на солнце,
Не вспыхнуть белым на свадьбе цветком.
А биться в сердца немых потемках,
Сжимая его в сумасшедший ком.
В разгаре свадьба -
Хмельная полька.
Один я трезв,
Ничего не пью.
Боюсь, в агонии этой горькой
Начну кричать,
Что тебя люблю.
ВБЛИЗИ
Была, как реальность мечтаний:
Вблизи, но совсем далеко.
А вечером - вместо свиданий –
Поила парным молоком.
Струилось в стеклянную банку.
Звезда загоралася в нем.
Я пил - и казалося странным
Любви растворенной вином.
Пьянея от счастья, бежал я
К луне, что брела над тропой.
А в полночь домой возвращался:
Один, но как будто с тобой.
...Была, как реальность мечтаний:
Вблизи, но совсем далеко.
А вечером - вместо свиданий -
Поила парным молоком.
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
Ты похожа на аленький цветочек,
Что вырос в вашем голубом саду.
И нежность душу сказочно щекочет,
Когда я мимо сада прохожу.
Безмолвная, стоишь ты под черешней,
А дождь шуршит на яркий твой платок.
И кажется, среди грозы вечерней –
Горит, горит любви живой цветок.
Его целую только лишь глазами.
Вдохнуть пыльцовый аромат боюсь.
Боюсь: дотронусь - лепестки завянут,
И на лице твоем увижу грусть.
Ты похожа на аленький цветочек,
Что вырос в вашем голубом саду.
И нежность душу трепетно щекочет,
Когда я мимо сада прохожу.
ПЕРЛИНА
Гойдалася чайка тендітна
На хвилях, мов лілія біла.
Перлину ту сокіл помітив –
І серце його затремтіло.
Гука її в гори високі –
Вона поринає до нього.
Ласка цілу ніч її сокіл,
Їй шию цілує і ноги.
Та звити гніздо на вершині
Плавуче дівча не посміло.
Ковтаючи сльози сині,
До моря свого полетіло.
А сокіл поринув до сонця,
Щоб в полум’ї білому вмерти.
Та птаха відринуло сонце.
Нема йому, бідному, смерті.
Ширяє над морем щосили –
І спалює серце в пожарі.
А в хвилях він бачить, як мила
Шука собі іншої пари.
Не сокіл, то я від кохання
Німію в нестямній скорботі.
Бо ж доля сумна наказала
Нам жити з тобою
На різних висотах.
ЗА СТОЛИКОМ
Я не хотел. Я видел, как Вы молоды.
Я выбрал Вашу старшую сестру...
Но близко так сидели Вы за столиком,
Что очи Ваши как-то по утру
Вошли в меня горячечным мерцанием.
Их глубину увидя изнутри,
Я понял, что живем одним страданием,
Один нас червь печали изнурил.
Но, зная это, каждый вечер каялся.
В неверии твердил: не может быть!
Все ожидал от Вас какой-то каверзы,
Но очи продолжали грустью жить.
И я открылся в чувствах тех беспомощных,
Что не имеют счастливых начал.
О них какие б ни сложились повести –
В конце еще печальнее печаль.
Я не хотел. Я видел, как Вы молоды.
Я выбрал Вашу старшую сестру...
Но близко так сидели Вы за столиком,
Что очи Ваши как-то по утру
Вошли в меня.
ПРИГОВОР
Боялся я,
Что ты уйдешь.
И в сердце -
Будто рвались корни,
Вонзая в тело свою дрожь...
Лицом старался ж быть спокойным.
Я знал,
Что от меня уйдешь,
Хотя с улыбкой очень милой
Ты мне в тени прибрежных рощ
Присесть у клумбы предложила.
Я ожидал:
Вот-вот уйдешь.
Хоть медлила ты с приговором.
Рвала цветы и свежесть роз
Вдыхала будто бы с укором.
Сам на себя был не похож -
Так мучила души усталость:
Боялся я -
Вот-вот уйдешь...
Но ты навек со мной осталась.
ЗА ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ
Ресниц я касаюсь ресницами.
- Не надо, - мне шепчешь. - Иди.
И руки пугливыми птицами
Трепещут на голой груди.
Лицо как слезою умытое,
А рядом белеет кровать...
- Не надо. Ведь дверь-то открытая,
Ее нам нельзя закрывать.
Целую губами, что ранами,
Все тело в жагучем огне...
- Не надо! - глаза, как у странницы,
Что Бога нашла вдруг во мне...
Не воле святой покоряюся,
Но все ж отступаю к двери.
А сердце, как жар, накаляется,
Вот сделаю шаг - и сгорит.
Ресниц я касаюсь ресницами.
- Не надо! - вновь шепчешь. - Иди!
Но груди горячими птицами
Взлетают к горячей груди.
ИТАЛЬЯНКА
Не бывал я на земле Петрарки,
Не слагал сонеты под оливой,
Но лицо прекрасной итальянки
Целовал и был счастливым.
Вдруг сошла она ко мне с картины,
Что висела над твоей кроватью,
И руками легкими твоими
Заключила в сладкие объятья.
И сквозь смех рыдая и тоскуя,
Как дитя свое, меня лелея,
Подарила искренность такую,
Что пленила б снова Рафаэля.
Отчего ж ты встречи оборвала –
Словно нож шальной воткнула в спину?
И зачем взамен любви прислала
Фото из себя и ту картину?
Вот сейчас гляжу на два портрета –
У обеих вас глаза бездонны,
Как она, ты из тепла и света.
Путаю опять тебя с «Мадонной»...
Не бывал я на земле Петрарки,
Не слагал сонеты под оливой,
Но лицо прекрасной итальянки
Целовал и был счастливым.
СТРАСТЬ
Один назвал тебя степной фиалкой.
Другой - нетающей снежинкой сладкой.
Для третьего взошла ты, как заря.
Четвертый выпивал, что сок крушины...
Не знали те влюбленные мужчины,
Что делят меж собой, как хлеб, тебя.
А мне известно все.
Ложась в постель в наряде бледно-синем,
Ты похожа на нежный лепесток.
Глаза ж с холодным блеском,
Словно иней.
Умеющий смотреть сквозь толщи стен,
Я вижу, как чаруешь буйной страстью,
Вся изнываешь и дрожишь в объятьях,
Тебя я ненавижу в этот миг.
Но вот приходишь, робкая, ко мне.
Касаешься губами -
И пьянея,
Как раб рабыни,
Я у ног твоих.
Целую пальчики и реки жилок,
Целую икры, бедра, груди, шею.
Как зверь,
Я плачу в радости порочной.
Все чудо-клеточки раскрылись,
Как цветики в саду под лаской солнца.
Ты, как мечты растроганной росточек,
Вся тянешься ко мне
И мне, как солнцу,
Отдаешься.
Потом становишься мятежной бурей:
И ноги, руки,
Будто вихорь-смерч,
Кружат меня,
Что парашют безлюдный.
Та высота блаженна и страшна.
Она - и дивный сон,
И острый меч. А снизу душат солнечные чащи,
Сжигают,
Охлаждая желтой трезвостью.
Я падаю,
Страшась достигнуть дна.
Я рву тебя, кусаю, бью и требую,
Чтоб ты, мой меч, секла меня на части,
Чтоб умереть и больше не воскреснуть.
---------------------------------------------
Бездонна, как могила, эта бездна!
И лишь на миг всплывая на поверхность,
Терзаюсь: кто ты? Как тебя назвать?
И слышу: страсть! Губительная страсть!
БЕЗУМИЕ
Стихи - капли крови моей –
Тебе ни на что не годятся.
Ты требуешь деньги скорей
За то, что решилась отдаться.
Встаю я с постели чумной,
Кладу на ладонь все червонцы.
Добро, что не видишь спиной,
Как слезы - мои медяки –
Рассыпались хохота звонче...
Плачу за безумство любви!
За счастье побыть миг счастливым!
А взгляд твой, лучась из глуби,
Туманится алчным отливом.
Но череп мне пусть рассекут:
Не шлюха - сестра милосердия.
Без этих блаженных секунд
Сейчас у двери бы повесился.
...Стихи - капли крови моей –
Тебе ни на что не годятся.
Ты требуешь деньги скорей
За то, что решилась отдаться.
В МОРЕ
Я первый раз купался в море.
Девичьи всплески вдаль влекли.
И радость опьянила вскоре,
Что мы невидимы с земли.
С улыбкой, как в счастливых снах,
Мы нежно за руки побрались,
И долго-долго колыхались,
Как в детской колыбели, на волнах.
Казалось, никакие силы
Не разольют нас и во мгле.
Когда же корчи вдруг схватили -
Спасались порознь:
К берегу, к земле.
ЦВЕЛ МАЙ
Цвел май. А мы с тобой прощались.
И слезы тихо полились
Весенними, как сон, ручьями –
На щеки и куда-то вниз.
Стоял я грустный и незрячий
На самом том земном низу.
Затем, припав к глазам горячим,
Испил последнюю слезу.
Была в ней соль твоя и горечь.
Но обо всем забыл потом.
Гнала вперед чужая скорость,
Стегая по судьбе кнутом.
...Как дроги, проскрипели весны:
Пора уж на погост слезать,
В душе погасли даже звезды.
И вдруг - зажглась твоя слеза...
БАЛЛАДА О ПОЭТЕ
Поэт решил издать свои стихи.
Но беден он, а денег надо много.
К богатым обратился - те ж глухи:
Как волка, прогоняют от порога.
Но вдруг нашлась банкир - святая дама:
Поэту улыбнулась несказанно,
Пообещала все как есть издать –
Но если будет ей стихи писать.
О нет! Она нежнее все сказала.
Лицо зарделось, взором так ласкала,
Что он в нее влюбился. Как впервой.
И каждый новый стих свой неземной,
Где чувство трепетало нитью тонкой, -
Стал посвящать желанной незнакомке.
Бродил ночами у волны могучей,
Ловил страстей нетленных ураган...
Он сердце рвал свое, как ветер тучи, -
И извлекал стихи из этих ран.
А днем писал те строфы на бумагу,
И ей вручал с надеждой - будто магу.
Она их в сейф, как бриллианты клала –
И все стихи издать вновь обещала.
Но истинный талант не знает меры.
Поэт в небесную любовь поверил...
Его душа так высоко взлетела –
Что без нее погибло его тело.
Лежит в земле, под ветлами ольхи...
Не изданы осталися стихи.
На это в банке денег не хватило.
ЖИВИ, ЖИВИ…
Живи, живи, цветочек мой случайный,
Бессмертник у дороги полевой.
Ты отдала мне голос свой печальный
И глаз тревожных поздний непокой.
Вело тебя, что Золушку, по чащам,
Из тьмы бросая в снежность пустоты.
Но от падений, ран - в глазах кричащих
Созрело солнце неземной мечты.
Оно простор лучами распахнуло
И в мир неведомый меня ввело,
Где стала ты звездой и синим лугом,
Что дарит лепестковое тепло.
Не говори, что скоро смерть обнимешь,
Что раны сердца слишком глубоки –
Ты навсегда с печалями моими
Останешься в крови живой строки.
Ну разве исчезает вдохновенье –
И не приходит новая весна?
А эта нежность - ветра дуновенье?
А грез горячих белая волна?..
Живи, живи, цветочек мой случайный,
Бессмертник у дороги полевой.
Ты отдала мне голос свой печальный
И звезд далеких близкий непокой.
ЗВЕЗДНАЯ ВЫСЬ
Ты, верю, меня не забудешь.
Я в небо тебя поднимал.
Ласкал в облаках твои груди.
Глаза среди звезд целовал.
В мечтах и во снах это было.
Там ярче, красивее жизнь.
И пусть на Земле не любила –
Ты есть моя Звездная Высь.
БЕЗСМЕРТЯ
Звернення Данте до Беатріче
Цією піснею кохання
Тобі дарую я безсмертя.
Вона - жага моя остання –
До зір далеких мрійно рветься
І там будує храм любові
Із пелюстків моєї крові.
В них - подих дивної лілеї,
Земні весняні кольори.
В них - сила ніжності моєї,
Вогонь космічної снаги.
Цей храм мій осяває всесвіт,
Стає його чуттям в цю мить.
Чуттям, яке не знає смерті,
Бо вічним полумя’м горить.
Цією піснею кохання
Тобі дарую я безсмертя.
Внучке Кате в день четырнадцатилетия
ПЛЯСУНЬЯ
Глаза раскосые монголки.
Славянско-римский взлет бровей.
Осанка галльской амазонки.
А кровь – всех на земле людей.
Таков портрет шальной девчонки,
Что пляшет и поет со мной.
Ей хочется в азартной гонке
Обтанцевать весь шар земной.
СИН ЩИРОСЕРДИХ СЛОВ’ЯН
Пошуками місця загибелі мого двоюрідного брата Івана Мака-ровича Дробота, котрий 18-річним юнаком пішов добровольцем на фронт, після закінчення Вітчизняної війни займалось багато родичів. Але результату це не дало. Тільки зараз, в переддень 60-річчя Перемоги, все прояснилось. Військовий комісар Краснодар-ського краю генерал-майор А. Безюкевич на запит рідної сестри загиблого Валентини Макарівни Тарасенко (дівоче прізвище Дро-бот) повідомив: „Ваш брат, Іван Макарович Дробот, 1924 року народження, загинув 17 березня 1943 року неподалік станиці При-азовська Приморсько-Ахтарського району... Похований в братській могилі. На плиті № 53 викарбувано його ім’я... Всього в цій мо-гилі покоїться 775 воїнів Радянської Армії”.
ІВАН
Танцюють снаряди на житнім полі,
Незібрані втоптують в грязь колоски.
Два воїни мчаться назустріч долі,
Один проти одного зводять курки.
Та раптом спинились обидва солдати.
Забули на мить, що вони вороги.
Забули, що в ворога треба стріляти.
Забули натиснуть на вбивчі курки.
Бо кожний в другому щось рідне побачив:
Те ж біле волосся, в очах – та ж блакить.
І кожний від схожості з ворогом плаче:
Не знає, що гірше – загинуть чи вбить?
Один – то мій брат, сонцевидий Іванко,
Він звечора Галю свою цілував.
А потім в казармі не спав аж до ранку.
Їй вірші про вічне кохання складав.
А другий – Рональд із далекого Кельна.
Він нині від Емми одержав листа.
Для неї нестерпна війна ця пекельна:
В розлуці марніє дівоча краса.
Іван дає знак, що стріляти не хоче.
І просить зробити зустрічний крок...
Та кров’ю налиті Рональда очі.
Здригнувшись, як звір, - він спуска курок...
Так згинув Іван, мій братан.
Закоханий син щиросердих слов’ян.
Алексей Рудницкий
МИГ – И ВСЯ ЖИЗНЬ!
135
О ИСКУССТВО!
В тебе столкнулись ложь и правда.
Пока что побеждает ложь.
Она везде в огнях парада.
Пьет кровь искусства, словно вошь.
136
Актера сосед приобщил
По найму вставлять евроокна:
Усилий чуток приложил,
А куш - как за новое око…
Растут, увлекают те цены -
И бросил артист свою сцену.
137
Газеты Никополя рассказали
о самоубийстве отличника СШ № 10 Аркадия Г.
Жуткий этот факт на совести сатанистов.
ПАМЯТИ АРКАДИЯ
Чего устал он жить в шестнадцать лет?
В печаль души внедрился сатана.
Внушил, что смерти тьма - то дивный свет.
А свет любви и жизни - это тьма.
Не разгадав отравы этих слов,
Испил он чашу горькую до дна.
Ушел из жизни в мир небесных снов.
Убита горем мать его сполна.
Ушел он, страсти не познав земной.
Не вырос до мужчины и отца.
Не спал на ложе с женщиной святой,
Где счастью в сладких грезах нет конца.
То дьявол парня обокрал всего,
Забрал живую силу и покой...
Скорбит у гроба девушка его –
Осталась нецелованной вдовой.
138
ЭДМОН И ЖУЛЬ ДЕ ГОНКУР (XIX век)
Французские братья Гонкур
Ввели «артистический» стиль.
Их слог, как алмазовый бур, -
Живет, не отброшен в утиль.
139
ВАСИЛИЙ ШУКШИН, ПИСАТЕЛЬ (1929–1974)
Душой охватил весь Алтай,
Рассказы писал, как живые,
А фильмы снимал надземные,
Творил свой сгореваный рай...
И умер от болей сердечных.
140
Роман «Любавины» Шукшин творил
Из впечатлений детства на Алтае.
Свои Сростки, Катунь боготворил,
С любовью описал родные лица...
Та ж дикость, что жила в таежном крае,
Пронзила книгу, как кинжал убийцы.
141
ПАЛЬМА
Я вырастил пальму в квартире.
Зеленые ветви - то птицы,
Что крылья любви распустили...
Душа ж в крепких корнях таится.
142
На даче вскопана земля.
Тут первая любовь моя:
Работа –
До седьмого пота.
143
СЕРДЦЕ
Бедное нежное сердце!
Столько ударов,
Смертельных ударов
От врагов получало.
Сколько получишь еще.
Но ты не сдавайся,
Стучи в мою грудь,
Наполняй мою мысль озарением.
144
НАЩАДКУ
Клич поетеси Олени Теліги перед розстрілом
Не вір, що чужинські багнети
Свободу тобі подарують.
Повірили ми - і вмираєм.
В свій край ми прийшли з окупантами.
В надії, що вільну країну
Поможуть штики збудувати.
Та ті мали підлість зміїну –
І кинули всіх нас за грати.
Нас гонять на розстріл до яру,
Овець недолугих отару.
Утіху одну лиш плекаю –
Що в рідній землі закопають.
Не вір, що чужинські багнети
Свободу тобі подарують.
Повірили ми – і вмираєм.
145
ПИРАТ:
Море клокочет, играет волной –
Радугой ночи зовет на разбой.
146
МОШЕННИК:
Предавали меня много раз.
Бесконечен предательств маразм.
147
УГРЮМЕЦ:
Печаль вернулася ко мне,
Засела в сердца глубине.
Ее оттуда не изгнать –
Она владычица опять.
148
БОЙСЯ СПИДА
Мой друг - король без головы.
Сердца всех женщин покоряет,
И гнет их, как пучок травы.
А после - корчится, страдает.
И... лишь пока не умирает.
149
Дьяконова Елена Дмитриевна в мире искусств
известна под именем Гала (1894-1982)
Знал Эжен лишь чахотку и боль.
Но вот русская девушка Гала
Подарила святую любовь -
И... вырос Эжен в Элюара,
Стал великим французским поэтом.
* * *
В зрелом возрасте дерзкая Гала
Полюбила бездару Дали.
И явилась художнику слава,
Гениальность вскипела в крови.
* * *
Но царица любви не без хищного стержня.
Гала - первая в мире миллиардерша.
Милой внучки не звала к себе голос детский –
Свой и мужа талант превращала в деньги.
150
Три восхищения для глаз и души
1. Корабль под всеми парусами
Парит над синими волнами.
2. В прыжках безумных, как огонь,
Летит степями белый конь.
3. В душе восторги воздвигая,
Танцует женщина нагая.
151
О дадаизме - литературном течении 20-х годов XX века
Абсурдная тайна вещей
К себе привлекла дадаистов.
В клоаке небес и очей,
В рождении трупов из листьев,
В слиянии чрева и теста -
Поэты нашли свое место.
152
Посвящаю Виктории Величко -
сотруднице Пенсионного фонда
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ДОБРОТЫ
Старик не знал, в какую дверь стучаться,
Везде его просили выйти вон.
Отказы эти приняв за несчастья,
Как маленький ребенок, плакал он.
Присел на лавочку - и тихо плакал.
Он орден получил в боях за Днепр.
Ему цветы дарила Злата Прага...
А вот теперь везде сказали - нет?
Беспомощен, в унынии глубоком
Скорбил еще бы долго ветеран.
Но девушка над ним склонила локон,
Сняла с души печаль душевных ран.
Проблемы деда все решила лично,
Вернула сердцу красоту мечты...
Ведь то была Виктория Величко –
Великая Победа Доброты.
153
Хуторной Владимир Анисимович,
учитель (1900-1985)
Он посадил на улице Тургенева
Впритык друг к другу два любимых дерева.
Береза покрутилась и усохла.
А дуб цветет, одетый в ризу солнца.
154
Ту тайну до сих пор не разгадаю:
Любила ты меня иль вовсе нет?..
А если нет, чего ж твоя святая
Улыбка светит мне так много лет?
155
Ты молнией в меня вошла –
И молнией вдали исчезла.
Остался сладкий твой огонь.
Горит во мне, горит огонь.
156
Планета Земля
Кровавый двадцатый мой век:
Лишь двадцать деньков без войны,
И снова - безумный разбег
В нейтроновый шок сатаны.
157
АРИСТОТЕЛЬ (384-322 до н.э.):
Кто блага жаждет - не сидит без дела:
Ворует, пляшет, жнет, торгует телом.
И, веря варварской чужой идее,
Бомбит друзей из всех своих орудий...
Но Высшим Счастьем лишь тогда владеет,
Когда творит добро себе и людям.
158
ЭПИКУР (371-270 до н. э.):
Почаще припадай к духовной пище:
Живи средь книг, искусства и мечты.
Духовно сильный - не бывает нищим.
Все блага тают в вихрях суеты.
159
СЕНЕКА (4 до н. э.-65 н. э.):
Куда ни глянь - везде одни рабы.
Тот - раб пустых несбыточных желаний.
Тот - мракобесия, а тот - познаний.
Тот - «ширки», алкоголя иль судьбы.
Есть плоти раб, а есть рабы страданий.
160
МАРК АВРЕЛИЙ (121-180):
Осмысливай жизнь философски,
Ищи себе праведный путь.
Кормися без маминой соски,
Простым, неиспорченным будь.
161
АВГУСТИН АВРЕЛИЙ (354-430):
Тебе на ум пришли большие мысли,
Не записал ты их - и потерял.
Выходит: мысль течет, течет наш ум.
Над ним и гений власти не имеет.
* * *
Твой дух сияет ярче солнца.
Смотри: оно ушло за горы
И только завтра на востоке
Всплывет, искрясь, над синим морем...
А мысль твоя уже прошла
Тот длинный путь,
Опередила солнце.
ЛИЦА РОДНОЙ КРОВИ
ШПАК
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
1
На одном из праздников в честь областной газеты «Днепров-ская правда», где я работаю собкором, ко мне подошел чем-то взволнованный мужчина в сером костюме и спросил:
- Вы Дробот Андрей Андреевич?
- Да.
- А родом Вы случайно не из села Хутор-Чаплине Васильков-ского района?
- Оттуда.
- Значит, я Ваш двоюродный брат...
Мужчина протянул мне визитку, на которой я прочитал: «Шпак Николай Владимирович. Начальник Государственного управления экологической безопасности в Днепропетровской области, главный государственный инспектор Министерства окружающей среды и ядерной безопасности Украины».
Мы стали вспоминать родное село, что протянулось на пятнад-цать километров вдоль немноговодной, местами похожей на ручеек речки Чаплинка. Тут мы вырастали, бегали в школу. Мелания Антоновна Нора, Татьяна Никифоровна Угринович, Иван Ивано-вич Крутько, Евдокия Трофимовна Мирошниченко, Семен Свири-дович Легеза, Марфа Ивановна Майстренко и другие педагоги вводили нас в мир знаний. В одном со мной классе учился стар-ший брат Николая - Виктор Шпак, с которым мы и дрались, и обнимались. В нашей школе до переезда в Васильковку вела млад-шие классы моя родная сестра Екатерина Андреевна Самойленко. В 1960 году я, студент Днепропетровского университета, проходил здесь преддипломную практику по методике преподавания русско-го языка и литературы. Одиннадцатилетний Николай Шпак в ту осень сидел за одной из парт шестого класса. Тогда ему впала в око моя шевелюра, похожая на «курай». Мое же зрение запечатлело его чрезмерно стеснительным и аккуратным учеником.
В том же году летом по рекомендации секретаря сельсовета Николая Афанасьевича Таращука, племянника моей мамы, я подра-батывал в районном страхагентстве. Получил гроши, но свое село пришлось пешком оббежать много раз: обмерил и «описал» все хаты и сараи. В подворье Шпаков меня встретили гостеприимно, накормили, напоили. Николай принес из сада груши, угостил меня.
От нынешнего нашего общения тоже повеяло чем-то кровным, близким. Хотя в последнюю четверть века мы вообще не виделись, а в те сельские годы встречались лишь эпизодически. По делам наши родители часто наведывались друг к другу, но семьями гос-тить было некогда: работа, работа... Да и расстояние между нашими подворьями превышало десять километров. Мы жили на террито-рии колхоза «Спільна праця», Шпаки - в колхозе «Жовтень» (ныне тут коллективные сельскохозяйственные предприятия «Прогресс» и имени Шевченко).
А вот отец Николая, Владимир Васильевич, и моя мать, Мария Васильевна, провели детство в одной семье. Они - брат и сестра, по отцу. После смерти родительницы моей мамы, мой дед, Василий Иванович Шпак, женился еще раз - на Анастасии Верховской. У них в 1917 году родился сын Владимир. Через семь лет Василий Иванович, наш общий с Николаем дед, умер. Но отец Николая и моя мать, которые вместе играли детьми и затем вместе познали горечь сиротства, очень любили друг друга. Между ними всю жизнь были очень теплые брато-сестринские отношения.
Да и вообще в Хутор-Чаплине род Шпаков и род Дроботов «переплелся многими корнями». Шпаки женились на «дроботив-нах», а Дроботы, как правило, брали в жены «шпакивен». Поэтому встреча с Николаем стала для меня как бы возвращением к своему роду. Я почувствовал сердцем, что нашел брата - и по крови, и по духу. И еще больше в этом убедился, когда прочитал его дневники. Вот из них несколько страниц:
«Батьку, я пришел к тебе не случайно. Сегодня день твоего рождения. Над твоей могилой ветер гуляет. Дождь бьет прямо в лицо. Но и сквозь ливень я вижу тебя - вижу живым, веселым. Помнишь, какое приподнятое настроение было у тебя 10 ноября 1958 года? Тогда мне исполнилось десять лет. Вы с мамой по этому случаю купили мне рубаху и брюки. Ты говорил, что это за то, что весной я впрягался в борону и вместе с тобой тянул лямку, волочил огород, за то, что обкопал деревья в саду, ухаживал за ними, за то, что благодаря моим стараниям семья собрала хо-роший урожай картошки, овощей и фруктов.
Ты, наверное, думал, что я очень податлив и угодлив. Но сей-час откроюсь: это бунт кипел во мне, заставлял хватать лопату, то-пор, вилы. Я вкалывал до седьмого пота от злости. Мы с братом Виктором видели, хотя ты и скрывал от нас, - как страдаешь. Фронтовые раны мучили тебя беспрерывно. Перетрудишься в колхозе или дома - и тебя как бы выворачивает наизнанку, кровью рвешь. В такие минуты я спрячусь куда-нибудь и плачу... Прокли-наю войну, оружие... На срочную армейскую тебя призвали в 1938, в сорок первом должен был возвратиться домой. А тут Гитлер полез через границу - до мая сорок пятого пришлось жить в око-пах. А после фронта бросили тебя на восстановление шахт Донбасса. В общей сложности носил армейскую гимнастерку, хлебал похлеб-ку из солдатского котелка девять лет. Пришел домой инвалидом второй группы, язвенником. А в селе - голодовка. Разве вылечишь желудок, если в колхозе такой же каторжный ручной труд, а еды еще меньше?.. Вот отчаянной работой я и мстил всем тем, кто отобрал у тебя здоровье. А еще больше мстил рвением в учебе. Я часто, батьку, в уединении молил Бога, чтобы он вернул тебе силу. Но Бог не слышал меня. И я, чтобы хоть как-то помогать тебе, хватался за домашнюю работу, а летом ишачил в колхозе.
Тебя радовали мои успехи в школе, и уже с моего пятого класса стал мечтать, чтобы я поступил в высшее учебное заведение. Я осуществлял эту твою, а заодно и мою мечту. Два года вы с мамой экономили каждую копейку, чтоб из скудных колхозных заработков наскрести сотню рублей на расходы, необходимые на период подготовки и сдачи экзаменов. Тогда, в 1966 году, я впер-вые из своего села Хутор-Чаплине приехал в областной центр. С вокзала пешком двинул изучать город. Побывал возле университе-та, металлургического, сельскохозяйственного, горного институтов. И вот смотрю, а может, это ты меня остановил, напомнив, что мои увлечения химия и техника, - но именно перед вывеской «Днепропетровский химико-технологический институт» я замедлил шаг и душой понял, что как раз сюда вели меня дороги все один-надцать школьных лет.
В то лето в Англии проходил чемпионат мира по моему люби-мому футболу, но я не видел ни одного матча. Я сидел за книгами, штудировал математику, физику, химию, иностранный. Все эти часы и дни, и в особенности на экзаменах, я как бы ощущал твой взгляд, твой вопрос: ну как, не подведешь, сынок? И я не подвел.
Став студентом, не просил у тебя денег, понимал, что в бедной семье их нет. Бегал с однокурсниками на товарную станцию, раз-гружал уголь, сахар, муку - добавлял подработку к стипендии и кое-как выживал. А после второго курса, на конкурсной основе, выборол место в студенческом строительном отряде. Работали в совхозе «Буйректаль» Кустанайской области от рассвета до темна, без выходных. Возводили животноводческие фермы. Представь, 16 часов подряд наполняю ведра цементным раствором и подаю на высоту два метра. Через неделю хватил радикулит, пластом пролежал три дня. А потом снова ведра в руки, и пошел, пошел... При моем росте в 183 сантиметра схуд до 60 килограммов. Утешал сам себя тем, что тебе в шахтах было еще тяжелее, тем более, что ты, как военнослужащий, работал бесплатно, а я - за деньги.
Я сам не поверил в свой заработок, когда в кассе института мне выдали три пачки пятерок - 1500 рублей, что равно 50 стипен-диям. Шел по городу, ехал домой в электричке - и все время ка-залось, что блатяги уже заметили мои оттопыренные карманы, «ведут» меня и прикончат за каким-нибудь поворотом. Спрыгнув с вагона на станции Чаплино, я побежал в село что есть силы. Десять километров, что в школьные годы преодолевал более чем за час, в эту ночь «покрыл» за двадцать минут.
Дома я выложил пятерки на стол. Пересчитав их, ты сказал:
- Таких больших денег в нашем доме никогда не было. Не транжирь. Распредели по годам, чтоб хватило на все время учебы.
В тот период вас с мамой обсела неимоверная нищета. Заработ-ки в колхозе, где тебя, видя кволое состояние, перевели из скотни-ков в сторожа, упали почти до нуля. Мать тоже заболела, стала пенсионеркой по инвалидности, получала 8 рублей в месяц.
А больше всего горечи выпало нам всем в 1970 году, когда тебя буквально «скручивали» боли в желудке и печени. В конце концов «скорая» отвезла тебя в Васильковку, там в срочном порядке сделали операцию. Затем перевезли в областную больницу имени Мечникова. Здесь повторно прооперировали. И тоже неудачно. Месяц вместе с врачами я боролся за твою жизнь. Когда мы оставались вдвоем в палате, ты просил об одном: «Как бы ни бы-ло трудно, не бросай учебу». А умирая у меня на руках, сказал:
- Ты остаешься главным в семье...
Я воспринял эти слова, как завещание, как твою надежду на то, что я упорно буду нести в миру свой крест.
Твоя последняя слеза, выкатившаяся в смертный час, еще больше отдалась в сердце, когда через два года снова пришлось стоять у могилы - на сей раз у могилы брата Виктора. Не уберег я его. Старшой был искренним и доверчивым человеком. Вырастая в порядочной семье, он не понимал, как это можно подличать, предавать. А когда столкнулся с этими мерзостями, душа не выдер-жала, бросился под поезд. Было ему всего 35 лет.
Природа не дала крепости нашему роду. Ты умер в пятьдесят три. Твой батько, а мой дед Василий, не дожил и до пятидесяти - задавила болячка. Твой старший брат Николай погиб на войне. Его сын Николай, который на фронте был непревзойденным раз-ведчиком, в мирное время не смог применять ту же дерзость, и для разрешения своих житейских проблем не нашел ничего другого, как наложить на себя руки. Мне довелось и его хоронить — по-следнего родственника-мужчину с моей фамилией Шпак.
Жизненный груз нашего рода, в том числе твой и мой, лежит у меня на плечах. Это он не позволяет расслабиться, заставляет быть начеку, не пить, не курить, не принимать лести и лжи. От-секать от себя порочность, духовную гниль и слабость. Жизнь - игра, но есть в ней и мудрость, и красота, и высокий смысл, если ты не бездарный «персонаж».
А ты, батьку, дал мне самый драгоценный талант: трудолюбие. После института я получил направление на Павлоградский завод химического машиностроения. Работал технологом, затем старшим технологом, заместителем главного инженера... В 35 лет стал дирек-тором этого предприятия. На эту должность претендовали специа-листы постарше и с большим, чем у меня, опытом. Поэтому с первого дня мне довелось доказывать, что достоин этого места. А кто-то еще и слух пустил, что чья-то «сановная рука» толкает ме-ня «наверх». В действительности у меня была и есть одна единст-венная «рука»: память о тебе, батьку, память о горе и нужде.
Я начинал и заканчивал свой директорский день обходом це-хов, участков и бригад. Выслушивал тех, кто потом зарабатывает себе копейку, кто этим потом «прилип» к предприятию. Все жало-бы и требования я записывал и в блокнот и одновременно в свою совесть. Ни один общественный или личный вопрос, поднятый рабочими, не оставлял без внимания. Считай, под их диктовку издавал приказы и вместе с ними добивался их выполнения. Уже через полгода «хромавший на обе ноги завод» вошел в нормальную колею, заработки у людей возросли.
Как-то, батьку, проведав родные могилы, обустроив их, я размышлял о нас с тобой - и мимо воли, будто в тумане, явилось видение разрушенной церкви. С чего бы? — думаю. Ведь я воспи-тан в духе атеизма. А вскоре в Павлограде наткнулся на здание храма, возведенного в прошлом веке. Зашел вовнутрь. Смотрю, он переоборудован под спортивную школу. Некоторые ребята на веревках под куполами «летают» - а оттуда из дырок в крыше дождик каплями сеет. Вспомнил верующих односельчан, тебя, батьку, - и решил во что бы то ни стало восстановить сей духовный памятник. В этот год меня избрали первым заместителем председа-теля горсовета, высказал эту идею на сессии, а со всех сторон вопрос: «Где деньги возьмешь, если бюджет по швам трещит?» Пришлось обратиться к горнякам шахт, предложил «в складчину» отремонтировать церковь. Нашел отклик в душах - и вскоре при-гласил бригаду реставраторов из Днепропетровска. Эти художники работали не покладая рук. Уже засияли золотом купола и бани, но тут возникла заковыка: выделенные шахтами средства исчерпа-лись, реставраторы сидят без зарплаты... Как быть? Обращаюсь за советом к священнику действующей в городе церкви. Он, к счастью, имел деньги и не раздумывая согласился помочь. В свою очередь, в счет выданной им суммы мы положили асфальт и благоустроили территорию там, где он указал... Так старинный храм был спасен от разрушения...
В 1988 году вместо шпилей на нем установили кресты, и он стал действующим - вторым в Павлограде.
Глядя на него, я будто чувствую прощение за грехи. Ведь все мы грешные, ох как грешные! Прошло две тысячи лет после рож-дения Иисуса Христа - и до сих пор не истреблены на земле боль и страдания, нищета и голод. А сколько вокруг нас зла, насилия, дикости, мракобесия. За все - и я, и все мы в ответе!
Рядом с твоей могилой, батьку, спят вечным сном сын твой Виктор, дочь Валя, умершая шести месяцев от роду. А недавно «пришла к тебе» и жена Христина Ивановна. Я выполнил ее по-желание и похоронил на том же, расположенном невдалеке от на-шей бывшей хаты, сельском кладбище. Мать 25 лет жила со мной, отошла на 84 году... Почему же, являясь во снах, ты, батьку, не произносишь ни единого слова? Молча смотришь на меня, а в глазах тоска. Почему? Я ведь часто думаю о тебе. Так же упорно работаю, как тогда, когда вместе плотничали, делая для дома ска-мейки и столы... Переживаешь за то, что месяц назад я сломал ногу? Так вот, смотри, уже хожу... Несчастливым меня считаешь?.. А скажи, что оно такое - счастье? Может это просто место под солнцем? Совершенно счастливым быть нельзя. Хотя порой мне кажется, что у меня все же были схожие с этим ощущением мгновения. Они вспыхнули в сознании, когда мои глаза встретились с глазами Людмилы Ивановны Николовой, которая вскоре стала моей женой. Они посетили меня 11 октября 1976 года и 11 марта 1981 года, когда она родила мне дочь Юлию и сына, которого я назвал твоим именем...
Не смотри на меня во снах, батьку, так печально. Если что-то делаю не так - прости. Прости, если умеешь прощать...»
К этим строкам, написанным братом Николаем, хочу добавить одно: он в меньшей, я в большей мере, но оба мы виноваты пе-ред родным селом.
Как оно образовалось?
Согласно семейному преданию, полтысячелетия назад казак Иосиф Шпак освободил из турецкой неволи красавицу Софию. В нее влюбились все запорожцы, что участвовали в походе. Но, как истинные жрецы воли, они дали возможность ей самой избрать суженого. Она назвала Иосифа. Влюбленные оставили Сечь и ушли в степь. На речке, где бродили длинноногие цапли, выбрали благодатное место. Смастерили хату из камыша, обкидали замешан-ной с соломой глиной - и обрели семейное гнездо. В речке ловили рыбу, в балках выпасали коз, на свободных от леса полянах сеяли злаковые культуры. София вскоре родила тройню, спустя два года - опять тройню, потом еще тройню, еще и еще... Девятеро было девок. Когда они подросли, из Сечи приехала в гости к Шпаку сотня казаков. Увидели девчат - и сердце каждого облилось желанием. Понимая, что тут возникло соперничество, Иосиф сказал:
- Для обустройства жилья для новых девяти семей нужны бревна. Я пометил в лесу сто деревьев со стволами одинаковой толщины. У вас у каждого в руках секира и сабля. Те девять, что первыми свалят деревья, - и станут мужьями моих дочерей.
Все сто деревьев были срублены. А победили самые сильные. Они ловчее других дробили стволы, поэтому Иосиф прозвал их Дробитами (позже у многих фамилия трансформировалась в - Дробот). Вместо оставшихся в «Шпакивне» девяти казаков Иосиф снарядил на Сечь девять своих сыновей.
Население вдоль речки Чаплинка постепенно росло. Хотя часто турки и ордынцы во время набегов опустошали его и сжига-ли. В эти трагические периоды Шпаки и Дроботы прятались в ближних лесах. Потом снова возвращались в свои облюбованные места. Нередко вместе с запорожцами оголяли сабли против супостатов, умирали за родную землю. Много горя принесли местным жителям и последние войны: первая мировая, гражданская и Великая Отечественная. Но все же на протяжении пяти веков теплилась и теплится жизнь в этом многострадальном селении.
Наша с Николаем вина перед Хутор-Чаплине в том, что не остались тут жить. Есть вина и других людей. Ныне село обнищало. Когда-то красивые пруды, в которых мыли косы плакучие ивы, обмелели, заросли камышами. Старые деревья сгнили, новых никто не посадил. Та часть «хутора», где жили Шпаки, сейчас почти пустая. Люди забросили свои хаты и перебрались в центр, поближе к асфальтированной трассе, или «повылетали из гнезд» и обоснова-лись в городах, как мы с Николаем.
2
Первого мая звоню брату в Днепропетровск. Домашний теле-фон не отвечает. Тогда набираю номер мобильного.
- Сейчас я нахожусь в Васильковском районе, - откликается Николай. - Привожу в порядок могилы отца и матери... Тишина вокруг, безмолвие. Раньше в Хутор-Чаплине проживала моя двоюродная сестра по матери. Я навещал ее, вместе приходили на кладбище, поминали всех умерших родственников. А теперь и она упокоилась. Горько на душе... Хочется упасть на землю - и плакать. Людмила вот сейчас, услышав наш разговор, сжимает мне руку, жена чувствует мою боль.
Тут уместно вернуться к дневниковым записям брата.
«10.10.1975. Павлоград. Вчера заглянул в одно из общежитий «прощупать» круг интересов молодежи. Но едва жильцы узнали, что я - первый секретарь горкома комсомола, как посыпались жалобы. И матрацы гнилые, и постельное белье не вовремя меняют, и душ не работает, и электроплиты перегорают. Все на взводе, кричат. Только большеглазая брюнетка, что стоит в сторонке, как-то загадочно и кротко молчит, при этом внимательно меня изучая.
- Вы тоже что-то важное хотите сообщить? - спрашиваю.
- Я сегодня закончила читать роман Джека Лондона «Мартин Иден».
- Ну и что?
- Мне жалко и героя и автора...
До полуночи довелось «разгребать» проблемы молодежного общежития.
Устал как никогда. Но уснуть не могу. Перед глазами «мельтешит» все та же «читательница». Почему-то ее лицо кажется знакомым. Вроде как встречались прежде.
Наконец вспомнил. Она точь-в-точь копия той, что видел в давнем отроческом сне. Днем мы с отцом косили в балке траву на сено. А ночью приснился мне сон. Будто я на пшеничном поле вместе с этой брюнеткой. Взмахну косой, а она за это время успевает дважды взмахнуть. Обогнала метров на десять. Да все оглядывается, ироничной улыбкой побуждая не отставать. Трудимся, как заведенные. К полудню больше гектара пшеницы скашиваем. После собираем ее в снопы и складываем в копны.
По моему лицу ручьями льется пот, ноги от напряжения подкашиваются. Еще больше устала напарница. Нo, окончив работу, вприпрыжку скачем к пруду. Я мигом разделся, чтоб плюхнуться в воду. Но девушка дергает меня за руку:
- Смотри! - указывает на подъехавшую к копнам арбу. - Пора снопы отвозить на ток!
Одеваюсь и бегу за партнершей. В быстром темпе загружаем арбу снопами. На току хватаем в руки деревянные цепы и обмолачиваем эту пшеницу при свете луны.
С восходом солнца снова шагаем в поле с косами...
В том давнем сновидении большеглазая брюнетка сама вкалывала как рабыня и мне не давала передохнуть. А вот сегодня, возникнув наяву, что собой демонстрирует?
Увлечение книгами, интерес к судьбам незаурядных мужчин... Изгоняя из сознания ее образ, под утро я все же заставил себя уснуть.
Но днем снова охватывает жгучее желание видеть ЕЕ. Поль-зуясь положением секретаря, приглашаю “комсомолку” в горком. И вот мы сидим друг напротив друга. Знакомимся. Звать ее Людмила Ивановна Николова, работает врачом.
И что узнаю в ходе беседы? Тот сон, что снился мне в пятнад-цать лет, она увидела - не чудо ли? - в минувшую ночь - как раз в те часы, когда я вспоминал это сновидение.
- А после, - говорит Людмила,- мне приснился еще один сон. В нем мы с тобой - крепостные. Бесправные, подневольные. Пан впрягает нас, как лошадей, в плуг - и мы вспахиваем усеянное камнями поле. Наш сын выбрасывает на обочину камни, а дочь засевает землю зерном. Когда ты спотыкаешься, пан стегает тебя по голой спине кнутом. Детей тоже время от времени “подбадрива-ет” все тем же способом.
- Почему же меня не бьешь?! - гневно кричу ему.
- Ты не спотыкаешься. Работаешь как надо...
Мы с Людмилой поначалу потешались над своими незатейли-выми сновидениями. Но постепенно осознали, что присутствие ее в моем давнем сне, а затем повторение моего сна в ее сновидении - это какое-то сверхъестественное явление. И оно не случайно. От этих совпадений сердца наполнились возвышающим нас чувством единения, желанием общаться.
11.01.1976. До последнего дня не верил, что Люда станет моей женой. И вот наступило 10 января - дата регистрации брака... Перед этим я познакомил ее со своей мамой - Христиной Иванов-ной, которая живет со мной в однокомнатной квартире. Побывали у родителей невесты в Васильковке. Гостили в Кривом Роге у ее подруги, где в течение двух дней я, по их свидетельству, молчал как герой “Муму”. Моя растерянность была вызвана волнением, боязнью произнести не те слова. Ведь обе подруги - образованные, умные, гордые. С другой стороны, говорить о чем-то будничном не позволяла душа, которая жила трепетным чувством любви.
Но комсомольская свадьба - раскованная, звонкая - убрала все противоречия. А первая брачная ночь - святая и возвышенная - навсегда связала нас божественной сладкой цепью. Кстати, до свадьбы у меня даже не возникали мысли об интиме. Мы ходили в кино, развлекались, целовались. Позволить большего не могли из-за чистоты и искренности наших отношений. И вот теперь постель на двоих подарила нам неповторимые ощущения, безумную страсть и высшую духовную силу. А все потому, что был я у Люды первым мужчиной, а она у меня - первой женщиной. Хотя ей исполнилось 25, а мне - 28 лет.
11.10.1976. Сегодня святость нашей первой ночи подтверждена документально - у нас ровно через девять месяцев, день в день, родилась дочь. Людмила дала ей имя Юлия. Прав Кант: “Любовная страсть часто остается загадкой для всех окружающих”. От себя добавлю: истоки страсти порой не понятны и самим влюбленным.
11.3.1981. В народе говорят: если жена рожает мальчика, то у нее самая высокая любовь к мужу. Именно таков жар чувств я ощу-тил сегодня, когда узнал, что Люда подарила мне сына. Ребенок полновесный, здоровый. Когда мне его показали, я вспомнил тебя, отец, - и ты подсказал мне назвать его твоим именем.
1985. Меня пригласили в Днепропетровск на должность куратора машиностроения, химической промышленности и энергетики области. Больно оставлять Павлоград. Тут все осмыслено, пропущено сквозь сердце. Но не подчиниться нельзя - будет буря, от которой всегда одни несчастья. Мою горечь Людмила не сняла, но поубавила, заявив: “Подрастают дети. В областном центре есть больший выбор вузов”.
* * *
Николай чаще меня, автора этих строк, бывает в Хутор-Чапли-не. Он негласно возглавляет ассоциацию бывших сельчан, которые ныне живут в Днепропетровске и других местах. Это, в частности, профессор-кибернетик Леонид Переяславский, журналист Влади-мир Жук, фермер Николай Кравченко, педагог Екатерина Самой-ленко, первая учительница Николая - Паша Петровна Ульяновская, которую он недавно навестил в Днепродзержинске .
Брат - хлебосольный хозяин. Помню день, когда мы, родст-венники, приехали к нему в гости. Его семья только что пере-бралась в свой, но еще не достроенный дом. Николай в качестве “гида” показывал комнаты.
- Проект усадьбы и строений, - объясняет, - создавал лично я. Идеи и их осуществление - мои. На вид все кажется прими-тивным, но на самом деле каждая деталь приспособлена создавать удобства для жильцов. В подвале - гараж и мастерская для хозяина. Комнаты светлые и все как бы обращены к солнцу. Есть помещение для хозяйки, где можно стирать, гладить. Кухня оборудована по-современному, просторная, уютная. А вот - зала для приема гостей.
Николай приглашает садиться за стол. Пьем шампанское. Поздравляем хозяев с новосельем. Но условно. Ведь еще многое надо достроить, наполнить помещение бытовыми предметами и приборами.
* * *
Вернемся к дневнику Николая:
“Сегодня у Люды юбилей. Трудно поверить, что ей пятьдесят. Свежая, задорная, как в первые дни нашего супружества. Чем объяснить эту “вечную” молодость? У нее нежная чуткая душа. Она влюблена в людей, в жизнь. Моя жена - самодостаточная личность. В Павлограде выросла от участкового врача до заведую-щей кардиологией. После переезда в Днепропетровск пошла в военный госпиталь рядовым врачом, проявила незаурядные спо-собности - и вот уже много лет заведует терапевтическим отделени-ем. Она - один из лучших практиков в городе.
Есть жены, которые вешают на плечи мужа все свои малые и большие невзгоды. А Людмила, наоборот, оберегает меня от сует-ных нелепостей и нервотрепных интриг. С первого дня замужества eй довелось жить со свекровью, и все эти годы, а их было двадцать один, она относилась к моей маме, как к своей родной”.
* * *
“На коллегии Министерства заслушали мой отчет, высоко оценили мою работу на посту главного экологического инспектора в Днепропетровской области. И на следующий день я написал заявление об увольнении. Хотели удержать, предложили должность заместителя Министра. Но я отказался. Почему? Как чиновник я буду и впредь способствовать созиданию, но мне хочется самому созидать. Поэтому решился на должность директора предприятия, которого еще нет, которое надо построить...”
И вот спустя два года Николай показывает мне построенный им аккумуляторный завод “Веста-Днепр”. Высокие корпуса, просторные пролеты. Отшлифованные полы. Чисто. Уютно. Производственные процессы автоматизированы.
Чушки свинца идут в котлы, из расплава штампуются цилиндрики, которые поступают на мельницы. Тут их превращают в мелкодисперсный порошок. На его основе с добавкой других компонентов изготавливают пасту.
Сложнейший и... самый прогрессивный в мире технологиче-ский комплекс. Пройдя все его линии и звенья, видим, как установленный на конечной операции робот упаковывает готовые изделия.
- За нынешний год, - говорит Николай, - он упакует три миллиона стартерных аккумуляторных батарей различных парамет-ров и модификаций. А вот когда мои ноги, обутые в сапоги, впервые ступали тут, они вязли в мазутной жиже и всякой нечисти. Сотни людей я привлек к работе. Расчистили площадки, вырезали и убрали всякий хлам, вывезли мусор. Потом строители и монтаж-ники подготовили фундаменты под автоматические линии. Ноу-хау обеспечил владелец комплекса - Международная научно-про-мышленная корпорация “Веста” во главе с доктором технических наук, академиком Виктором Александровичем Дзензерским. А я дневал и ночевал здесь, чтобы гайка подошла к болту, чтобы все собрать, настроить и запустить. Чтобы компьютеры и сложные автоматы не сбивались с ритма, четко управляли механическими и химическими процессами, контролировали их, и пo той же программе упреждали сбои, устраняли неисправности... Жене спасибо за то, что с пониманием относилась к моим перегрузкам, домашним уютом сглаживала мои производственные неурядицы и нервные срывы.
* * *
“Опять обращаюсь к тебе, отец!
Эти несколько дней, родной, для нас с Людой стали самым жестоким испытанием в жизни.
В три часа ночи раздался телефонный звонок - и голос прокричал в трубку: “Ваша дочь Юлия попала в автокатастрофу. Травмы с угрозой для жизни. Произошло это на трассе Москва-Симферополь в Запорожской области…”
Паника несколько минут держала нас в шоковых лапах. Первым осознал трагедию я. Но потом Людмила, как врач, взяла инициа-тиву в свои руки. Уже через пару часов она была возле дочери. Юлию доставили в местную районную больницу. Переломы кос-тей, внутренние кровоизлияния, разрывы мышц. Невыносимая боль. Требуется неотложная и очень сложная операция. Но на месте нет квалифицированного травматолога. Пострадавшую необ-ходимо доставить в областную больницу имени Мечникова. Обра-щаюсь туда. Там предлагают послать хирурга, чтобы он на месте провел операцию. Так, мол, лучше. Я, как несведущий, мог согла-ситься. Но Людмила, на профессиональном уровне четко соизмеряя все “за” и “против”, настояла на транспортировке дочери в Днепро-петровск. Мне довелось писать расписку, брать на себя всю полно-ту ответственности за возможные последствия. Две машины “ско-рой помощи” со спецоборудованием двинулись в путь. Благодаря богатому опыту Людмилы мы уберегли дочь от многих врачебных ошибок. Операция в клинике прошла успешно. А вот процесс дальнейшего лечения и реабилитации изнурил нашу девочку. От нее потребовалась недюжинная воля, терпение и выдержка. Но опять-таки неусыпная материнская чуткость позволила ей спра-виться с острыми болевыми симптомами, победить свою беспо-мощность, подняться на ноги...
Сейчас Юля считает себя здоровой, работает начальником отдела маркетинга и рекламы в фирме “Ньютон”.
Сознаюсь, отец: в период всех событий, связанных с автомо-бильной аварией, я находился в состоянии стресса. И если бы в те дни в мои глаза с кроткой нежностью не заглядывала жена, не разгоняла мозговые тучи — не ведаю, что могло быть... После этого мне стало совершенно очевидным: если бы рядом с Мар-тином Иденом и Джеком Лондоном в критические моменты их жизни была такая женщина, как Людмила, они бы не погибли, она бы вырвала их из пучины отчаяния”.
* * *
“Египет. Сегодня мы с Людмилой ступили на землю Тутанха-мона и Нефертити. Сердце замирает перед громадами пирамид. Они созданы руками сотен тысяч рабов. Почему же мы знаем только имена фараонов, их поработителей?
Украинский язык тут не встретишь. Обслуга в отеле и в рес-торане кое-что понимает по-русски и по-немецки. Поймал себя на том, что могу свободно изъясняться на немецком. Это спасибо Та-тьяне Никифоровне Угринович, моей сельской учительнице, кото-рая “пятерку” ставила только за отличные знания. Выручает меня не-мецкий и во время деловых встреч в Германии, Швеции, Австрии, Дании, Чехии, Франции, Словакии и других странах Европы”.
* * *
“25 мая моему внуку Даниилу исполнилось три года. Я пода-рил ему квадрацикл. Объяснил, как управлять. Он сел за руль и поехал. Его отец, мой сын Владимир (он работает ведущим специалистом в нашей фирме) побежал следом, чтобы уберечь от столкновения со стенкой дома. Но внук умело вырулил на дорожку и вернулся ко мне. Смышленый малыш. Понял, что коль четыре колеса - “машина” устойчивая. Держишь ногу на педали - едет, прекратил нажатие - остановилась. Питание мотора от аккумулято-ра. Нравится внуку техника. Уже отличает “тойоту” от “мерседеса”, “форд” от “лады”.
Наблюдая за внуком, снова вспомнил тебя, отец. Вспомнил твой первый подарок. Это был керамический свисток в виде пе-тушка. До этого я дудел на самодельных свистульках из стручков лука и луговой лозы. А теперь с этим петушком бегал по селу и де-монстрировал пацанам, как протяжно с переливами могу свистеть... Придет время и, возможно, отцы смогут дарить детям аппараты, на которых те свободно будут прогуливаться в космосе. Но беда в том, отец, что техническое вооружение человека растет, а сам он оста-ется мало развитым. Его моральные качества не прогрессируют. Даже гениальные личности, такие, как Джек Лондон, недостаточно любят жизнь, людей и самих себя. Все религии мира стремятся про-будить в человеке совесть, честность, доброту. Но это у них слабо по-лучается... Радуясь тому, как растет мой Данилка, я с тревогой всматри-ваюсь в тот океан жизни, который уготован нашим внукам и правнукам. Нет, я не хочу, чтобы Данилка был похож на меня. Пусть будет самим собой, неповторимой индивидуальностью. Хочу только одного: чтобы путь его жизни освещала Любовь”.
* * *
Во время последней встречи с братом он повел меня в огром-ных размеров корпус. Тут на площади 40 тысяч квадратных метров корпорация “Веста” приступила к строительству нового аккуму-ляторного завода. Двумя часами раньше здесь побывал ее прези-дент В. Дзензерский. Он остался недоволен ходом работ. В связи с чем поручил Николаю Шпаку к директорским функциям на действующем заводе присовокупить функции главного менеджера стройки, наделил его необходимыми полномочиями.
- У Виктора Александровича, - сказал Николай, - что называ-ется планетарные планы. Он создал мощный научно-исследовате-льский центр. Наладил контакты с германским концерном нашего профиля, Европейским Банком Реконструкции и Развития. Специ-алистами под его руководством разработаны автономные интегри-рованные системы энергообеспечения, основанные на исполь-зовании фотопреобразователей солнечной энергии и ветроустановок с аккумуляторами-накопителями и системами управления.
- Эти аккумуляторы будет выпускать новый завод?
- Не сомневаюсь. Первый завод мы построили за два года, второй - тоже за нами не заржавеет...
А я про себя подумал: “Мощный потенциал у моего брата. Ему и специалистам, что работают с ним рука об руку, таланта не занимать. Именно такие, как они, созидают для человечества бу-дущее. Эта работа важнее, чем была у рабов Египта, которые сооружали усыпальницы для фараонов. Мир надо не удивлять, а благоустраивать”.
* * *
“Этим летом мы с Людой поправляли здоровье в санатории “Куяльник”. На виду у всех ходили под руку в столовую и из столовой, на пляж и с пляжа. Порой даже целовались в воде и в тени аллей.
А на второй день после возвращения в Днепропетровск жена, не сдерживая улыбки, сообщает: “Отдельные мои знакомые уве-рены, что на курорт ты ездил с любовницей. Они из “достоверных источников” знают, а некоторые даже “видели”, как вы об-нимались”.
Сплетни, подлые интриги, которых за десятилетия супруже-ской жизни было предостаточно, не загрязнили нашей светлой преданности друг другу. Любовь не спотыкается о подножки завистников”.
* * *
“Сегодня с шести часов на ногах. Дала сбой плавильная печь, едва до аварии не дошло. Потом навалились другие проблемы. Бегал, взбадривал людей... А сам присел на участке пластин - и у меня наяву... видение. Будто вдвоем с Людмилой летим на космическом корабле. Смотрим телепередачу Земли: Басков поет о шарманке, которая плачет. И вдруг всего меня тревога охва-тывает. Люда куда-то исчезла. Ищу в бортовых отсеках, в зале приема пищи, в душевой, туалетной комнате, багажных тумбах.
Нигде! Пропала! Что делать? Включаю внутреннюю связь, запрашиваю точки автоматической информации и получаю ответ: “Людмила вышла из корабля, ремонтирует обшивку корпуса и солнечные батареи”.
Действительно вижу жену в открытом космосе. С риском для жизни она устраняет неисправность на внешних приборах корабля...
Вечером пересказал увиденное Люде. Она аппетитно смеялась, а после сказала:
- Если в семье неурядицы, то главный их лекарь кто? Я. Вот и твое видение это подтверждает. А помнишь тот давний наш общий сон (нам и сейчас продолжают сниться общие сны!), где мы до изнеможения работаем в поле? Он тоже “расшифровывается” просто: на ниве жизни лить пот нам до конца дней. Судьба еще не раз будет стегать нас колючей плетью”.
Посвящением второй и седьмой частей этой книги Николаю Владимировичу Шпаку я хочу подчеркнуть свою любовь к родному Хутор-Чаплине и ко всем его жителям, а также к тысячам Дроботов и Шпаков - родственникам и однофамильцам, которые живут в Украине и за ее пределами, и которые имеют общих с нами прародителей - запорожских казаков.
АВТОРЫ О СЕБЕ
ДРОБОТ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ:
«Родился я 10 апреля 1937 года в селе Хутор-Чаплине Василь-ковского района Днеропетровской области в семье колхозников. Отец - Андрей Григорьевич - работал ветфельдшером в артели «Спiльна праця», мать - Мария Васильевна - там же в животновод-ческой отрасли. Наша многодетная семья жила очень бедно. В период гитлеровской оккупации 1941-1943 годов и в 1946-1947 годах от недоедания у меня опухали ноги. Хлеба наелся досыта лишь в 1950 году. В нужде прошли как школьные, так и студенче-ские годы. Возможно, от этой самой нужды и затвердела в душе щемящая тревога, которая до сих пор не покидает меня ни на один день, побуждая к самовыражению в стихах и прозе.
Были и внешние побудители к сочинительству. Первым прило-жил к этому руку мой старший брат Николай. Обучаясь в художе-ственном училище в Днепропетровске, а затем в Киевском художе-ственном институте, он постоянно внушал мне, что творчество - это высший полет человека, это высшее страдание и высшее на-слаждение. Повезло мне и в том, что в 1956 году я поступил не в какой-нибудь, а именно Иркутский университет. Здесь все хлоп-цы-филологи писали стихи или прозу. Впоследствии эти парни стали известными русскими писателями. Это Александр Вампилов, Валентин Распутин, Ким Балков, Андрей Румянцев, Вячеслав Китайский, Владимир Гусенков. Общаясь с ними, я рос духовно, меня все больше увлекало творчество. Порой, читая стихи Шевчен-ко, Есенина, Гейне, Верхарна, Беранже, Байрона, ощущал, что мое сердце кипит такими же страстями. Переведясь в 1959 году в Днепропетровский унивеситет, я не потерял тяги к самовыражению благодаря товарищам по общежитию Владимиру Гришко, Анатолию Глушко, Евгению Олиферовичу, а также преподавателю кафедры литературы Инне Винник, под руководством которой написал дипломную работу о поэтике Есенина. В Никополе, где живу по-следние 37 лет, моим чувствам не дает закисать однокурсник по университету Борис Александрович Уваров. Он - мой оппонент, наставник и друг. Диалоги и дискуссии с ним укрепляют веру в добро и созидание. Мой перпетуум-мобиле - бунт против суеты, мещанства, бездуховности и мракобесия.
К труду я прилип с малолетства. Уже в пять лет пас нашу и соседскую коров. Подрос - помогал маме ухаживать за колхозными свиньями, телками, козами и овцами. После девятого класса вошел в бригаду, которая ремонтировала на станции Чаплино железнодо-рожные пути. Окончив университет, учительствовал в селе Испас Вижницкого района Черновицкой области. Потом два года трудил-ся в газете «Голос металлурга» Днепропетровского завода имени Коминтерна. В 1965 году принят литрабом в областную газету «Днепровская правда». Пропахал тут 35 лет: шесть - в аппарате редакции, затем - собкором по Никопольскому региону. В 2000-2001 годах работал заведующим отделом писем газеты «Південна зоря» Никопольского райсовета, с 2001 - собкором всеукраин-ской газеты «Днепр Вечерний».
Я, украинец, в 1963 году женился на татарке Румии Хакимовне Давыдовой. Я - христианин, она - мусульманка. Но живем в любви и согласии. Вырастили двоих дочерей, имеем троих внуков. Один из них, Алексей, - соавтор этой книги. Он тоже стал на путь творчества. Чему я очень рад.
В связи с «тематикой» книги обязан рассказать и о своей самой большой любви.
Она родилась в июле 1963 года. Редактор газеты «Голос метал-лурга» Николай Григорьевич Яценко вытащил меня на пляж. Ря-дом с нами купались две девушки. Одна из них мне приглянулась. Поэтому, когда они собрались домой, я присоединился к ним. По дороге познакомились. Вечером снова встретились, гуляли берегом Днепра. Назвалась любимая - Ритой, Румией. Спустя семь дней подали заявление в загс. 20 августа стали мужем и женой.
До женитьбы мое сердце прошло череду испытаний. Оно тянулось к ярко прекрасному, недостижимому. Я вдосталь нахлебался безответной любви, познал также и отношения без глубоких чувств. Поэтому взаимность во всем позволила испытать с женой высшее счастье. Я наконец-то обрел душевный покой, радость от самого своего существования. Тело и душа достигли гармонии. А рождение детей сделало наш союз нерасторжимым. Ибо я с молоком матери впитал Божий завет: превыше всего любите детей ваших!
Скоро исполнится 40 лет моей семейной жизни. Убежден: без любимой женщины, без детей и внуков - это при любых об-стоятельствах было бы прозябание. Всякий уважающий себя мужчина обязан не только построить дом и посадить дерево, но и пронести сквозь жизнь глубинную любовь, настоящую большую любовь. А практическое выражение такой любви - это семья, это продление своей сущности жизнью кровно родных душ.
Жена как бы освещает мой путь, зовет жить, работать».
РУДНИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ:
«Мне выпало счастье родиться в семье, где отец и мать предан-но любят друг друга и все делают для блага детей. Мой отец - Сергей Владимирович - окончил металлургический техникум, при-обрел также профессии шофера, плиточника, столяра. Он - на все руки мастер. Мать - Елена Андреевна - после окончания Киевского технологического института легкой промышленности работала тех-нологом на трикотажной фабрике в г. Орджоникидзе, сейчас - в трикотажном цехе Никопольского завода ферросплавов. Она искус-но шьет, вяжет, спец в кулинарии. Стала настоящей берегиней нашей семьи.
Я с детства пристрастился читать, рисовать. Приятным заняти-ем для меня было слушать разговоры взрослых, вникать в их ин-тересы и проблемы. Когда подрос, попробовал писать сказки, стихи. Потом переключился на рассказы из жизни школьников. Помню, прочитав книгу «Гарри Поттер», хотел сочинить что-то подобное. Но вовремя остановился. Книга полна фантазии, прик-лючений. Однако вся пронизана колдовством, чертовщиной. По-этому, на мой взгляд, соседствует с мракобесием.
Каким вижу мое будущее? С точностью до микрона определить его не могу. Глядя на деда Андрея, понимаю, какими терниями устелен путь сочинителя. Успешно идут по нему только очень сильные личности. Я себя к ним не отношу. Поэтому стремлюсь всего лишь стать актером. Ныне, обучаясь на втором курсе теат-рального отделения Запорожского национального университета, мечтаю о сцене, о съемках в кино.
Мою биографию фактически можно вместить в три фразы. Родился 1 августа 1989 года. Окончил СШ № 20 в городе Нико-поле. Учусь в вузе».
ЗАВЕЩАНИЕ
Я, Дробот Андрей Андреевич, член Союза журналистов Украи-ны, являюсь автором более трех тысяч документальных и литера-турных сочинений, опубликованных в разных изданиях, в том числе в областных газетах «Днепровская правда», «Днепр вечер-ний», в книге «Лица», состоящей из семи частей, общим объемом 1800 страниц,
Все свои опубликованные и неопубликованные сочинения, которые созданы моим трудом и которые являются моей интеллек-туальной соб¬ственностью, завещаю дочерям Елене Андреевне Руд-ницкой, Индире Андреевне Карпишинец, внукам Станиславу Анд-реевичу Межуеву, Алек¬сею Сергеевичу Рудницкому, Екатерине Сергеевне Рудницкой, их бу¬дущим детям, внукам, правнукам и т.д. - то есть всем родным по крови потомкам. Каждому в отдель-ности наследнику предоставляю исключительное право быть пол-ноправным владельцем моих сочинений. Каждый имеет право под своим (или моим) именем публиковать мои сочинения, полу-чать за них как живой автор гонорар или иное вознаграждение. Каждый имеет право под своим (или моим) именем издавать мои сочинения, экранизировать, инсценировать, использовать иным способом, получая за это в полном объеме как живой автор гонорар и все иные вознаграждения.
Без разрешения моих наследников (хотя бы одного из них) никто не вправе публиковать, издавать, экранизировать, инсцени¬ровать или иным способом использовать мои произведения.
3 января 1997 года
Андрей Дробот.
ЗЕМНОЙ ПОКЛОН!
А.Дробот выражает благодарность всем, кто помог ему в созда-нии и издании этой книги. Спасибо Вам, дорогие мои: Т.Таран, Н.Шпак, В.Глядченко, Г.Гончар, Е.Полянская, В.Величко, Т.Люльченко, А. Пархоменко, И.Кругляк, Ю.Касапская, В.Бобух, В.Лящевский, В.Демушкин, И.Азаров, Л.Пашук, В.Ищенко, В.Тимощук, В.Овдин, А.Косый, К.Шруб, Ю.Бабенко, В.Буга, В.Грабовский, А.Ляпало, А.Тулянцев, И.Кадченко, Л.Столярова, А.Разумный, Д.Кравченко, В.Кацман, Н.Дробот, В.Прийменко, Н.Картышкин, Э.Фатеев, Т.Чекмарева, Н.Разуваева, В.Хмаров, Е.Обухова, М.Кухарук, В.Щепак, М.Застеба, О.Мкрчян, В.Дол-женко, Ю.Донцов, А.Палец, А.Каспиров, В.Проценко, В.Мирош-ниченко, Е.Самойленко, Б.Уваров, А.Глушко, Т.Ванжа, И.Потемки-на, А.Вампилов, З.Богач, С.Ильченко, В.Кудинов, Н. Комиссарова, А.Давыдов, Е.Стадниченко, Р.Лазарева, О.Сурду, Е.Дробот, Т.Си-ницкая, К.Багдасарян, С. Куликова, В. Собурь, И. Карпишинец, А.Евдеева, С.Лившиц, Е.Рудницкая, Л.Миргородская, Л.Черняв-ская, В.Гришко, А.Пудринахт, А.Мусияк, К.Балков, А.Румянцев, С.Китайский, Л.Ханбеков, Г.Портная, Т.Костенко, О.Харитонов, Ю.Николайчук, В.Тарасенко, Л.Гурина, В.Дробот, Л.Фадеева, Т.Сытник, В.Самойленко, В.Цыбенко, А.Акимов, А.Белик, П.Сте-шенко, А.Чередник, А.Ересько, Е.Филиппов, В.Чумак, И.Тарасов, Н.Самойленко, В.Труфен, Е.Давыдова, Т.Портненко, В.Шишов, В.Скрыпкин, Ю.Коваль, Я.Маркуц, Л.Куприн, В.Чернявская, Н.Даценко, И.Костенко, П.Богуш, Э.Слабких, С.Рудницкий, О.Колесников, Е.Бессмертный, В.Калашников, С.Дробот, Н.Тара-ращук, Л.Коротя, В.Жук, Е.Пипко, В.Швец, Г.Хоменко, Г.Чупри-на, А.Высоченко, Н.Кузнецова, В.Вознюк, Н.Ересько, В.Верхов-ский, С.Межуев, А.Рудницкий, Е.Рудницкая, В.Рудницкий, Е.Прохоренко, В.Воробьев, А.Демьяненко, В.Кузьминецкий, В.Бедринец, В.Белич, Б.Шевченко, В.Асаев, Е.Курина, И.Шило, Л.Выблая, Ю.Полоз, Г.Синицына, А.Долгих, А.Качамкин, Л.Лив-шиц, А.Тарасенко, А.Черкащенко, О.Фельдман, С.Коновалюк, В.Корж, А.Чалая, Ю.Мороз, В.Голобородько, К.Кривцов, Б.Кислов, С. Тутуров, К. Рудой, Д. Захаров.
Земной поклон всем светлым душам, которые своей аурой, своей добротой и неповторимостью своего характера питали мой характер, мои мысли, мои чувства.
В заключение приведу написанный экспромтом стих. Он посвящен издателю этой книги директору Медиа Группы Реклам-ник Артему Анатольевичу Пархоменко.
СПАСЛА СОЛОМИНКА – ОТ ПАРХОМЕНКО
на веселой волне
Напечатать книгу нелегко.
Тут не выстелить дорогу скатертью.
Все поэты дышат глубоко –
Перед тем, как дверь открыть к издателю.
Тот сквозь прибыль смотрит вам в глаза:
«Нет долларов? Так ищите спонсоров!»
В черепке у вас гремит гроза:
Ваши нервы, жизнь и стих - испорчены.
Я ж мытарством этим не страдал.
Встретился в судьбе моей Пархоменко.
Высшим классом “Лица” он издал,
Плату ж мизер взял. Как за соломинку.
Напечатать книгу нелегко.
Тут не выстелить дорогу скатертью.
Все поэты дышат глубоко -
Перед тем, как в дом войти к издателю.
Свидетельство о публикации №212062601450