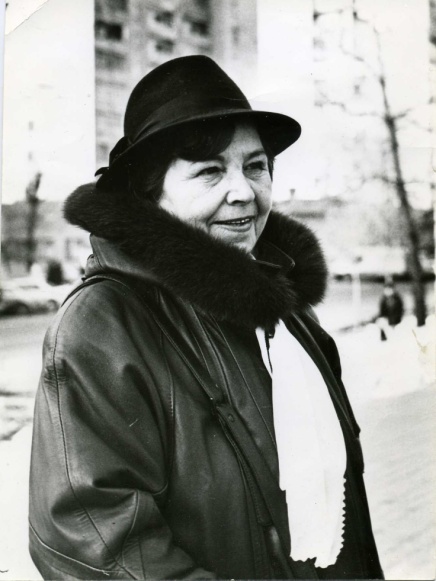На плахе газетных полос ч. 1
Часть первая
«ТОЗОВЦЫ» И «ТОЗОВКИ»
«Пока остаток дней в моем распоряженье…»
Предисловие
В этой книге о хабаровских журналистах и жизни моего поколения нет ни слова вымысла, как и в изданной «Магелланом» в 2002 году первой главе ее «Тозовцы и Тозовки».
Приступая к работе, задавалась тревожным вопросом: кому нужна исповедь пенсионерки, рядового журналиста, которого сейчас мало кто помнит. Другой коленкор - мемуары поп звезды, секс бомбы. Но не могла иначе. В моей жизни, среднего «формата», был светлый и значительный этап - редакция газеты «Тихоокеанская звезда» 70-х - 80-х годов, нелюбовь и молитвенное отношение к которой сохранила по сей день. Ведь «ТОЗ», где прошла моя молодость, - живой участник всех процессов, происходящих в Хабаровском крае. А что знают читатели о тех, кто делал газету? На каком нерве, на какой ноте страстей выходил в свет каждый номер, и чьи журналистские имена, судьбы расцветали или разбивались на плахе газетных полос, несправедливо уходя в тень, в забвение. Мне дороги эти имена.
Мистическое отношение к творчеству, свойственное людям, взирающим на благосклонность звезд, не чуждо и мне. Не странно ли, взявшись за перо, мне не пришлось «влезать» на чердак своей памяти и «разгребать» всякое старье – обрывки разговоров, лоскуты встреч: при моей безалаберности, неорганизованности чудесным образом оказалась не выброшенной забытая папка с дневниками и материалами, связанными с моей работой в «Тихоокеанской звезде».
Так появилась первая глава «Тозовцы» и «Тозовки», изданная отдельной книгой.
100 ее экземпляров – лишь на такой тираж хватило пенсионных копеек - практически не было в продаже - почти весь тираж закупила редакция «Тихоокеанской звезды», как пояснили - для подарков активным авторам.
Безусловно, у нынешних классиков от журналистики вызывало недоумение то, что за перо о старейшей газете взялся не редактор, на худой конец, не член редколлегии, а «литраб» - рядовой литературный сотрудник. Да и я, клянусь, была бездонно далека от мысли когда-нибудь написать о бывших коллегах-«тозовцах». И на мое признание, что работаю над книгой, последовал иронический вопрос: «О чем же еще?»
«О чем писать, на то не наша воля» - заметил Н.Рубцов. В том-то и дело, не знаю, Кто так положил, определив тему, приказал мне этим заниматься, только уж точно это не старческий каприз.
При этом не скрою, больше всего в жизни я мечтала увидеть свое имя на титуле книги. На двадцать лет волею нелепого случая и из-за личной трагедии отторгнутая от любимой профессии и желанной газеты, чтобы «не потерять форму», заставляла себя «писать в стол».
Зачем люди берутся за перо? Чтобы «мысль разрешить», изжить затаенную боль. Видимо, не созрела та мысль и та боль - несчетные мои попытки, на которые выкраивала свободное от повседневности время, оказались зряшными, наполнив шкафы неоконченными, устаревшими, рукописями, на которых давно поставлен крест.
И вот сейчас, готовясь к последнему одиночеству, когда так мало осталось сил и энергетики творческих воспарений, словно Кто-то запряг меня, привязал к печатной машинке. И во мне, пожилом человеке, потерявшем вкус к жизни, вспыхнуло забытое желание на восходе каждого дня садиться за старенькую «Оптиму», вновь страдать, неиствовать, умиляться, будто «вскрикнула жизнь» на спуске.
В подтверждении таинственного посыла странный факт – судьбе было угодно вернуть меня после огромного перерыва в любимую журналистику. Это произошло в самые разрушительные для незащищенного человека реформаторские годы, когда «тихим шифером шурша, крыша едет не спеша». Мое сердце не разучилось принимать сигналы о бедствии. Журналистское удостоверение позволило, несмотря на шаткость положения внештатника и мой грустный «третий возраст», проникнуть в чужие человеческие драмы, людские судьбы, постичь социальный тип времени, в котором сострадание архаизм. Почему среди хабаровских стариков нет счастливых? – спрашивала я себя, присматриваясь к ровесникам.
Мои устремления посредством газеты поддержать людей преклонного возраста, обреченных на нищету и духовное сиротство, заметить негативные явления общественной жизни оказались никчемной затеей, предметом фу-фу, как говаривал Чичиков, торгуясь с Собакевичем.
В сердце моем заклубилась и затаилась боль, которую нужно было изжить - «я брошусь в волны, но вернусь». И «пока остаток дней в моем распоряженье», бросилась как за улетающей птицей – уходящим днем, чтобы воскресить, запечатлев с наибольшей полнотой пережитое и переживаемое хабаровчанами на «сломе времени» в Книге Белой. Книга Белая означает, что в ней даны не мнения и оценки, а факты. Конкретные люди, хабаровчане, их беды, тупики и радости. Воспроизводя газетные материалы в одном «флаконе», рискую продемонстрировать привередливым коллегам, что Создатель, распределяя свои искры, не особо был щедр ко мне, зарядив лишь рефлексом цели - исповедальностью с последней прямотой, не дав виртуозности плетения словесного узора.
И, конечно же, в повествовательном поле всей книги главным героем остается город на Амуре. Хабаровск для меня как родовое понятие, особо охраняемая заветная территория, на которой живу с начала прошлого века и в землю которого уйду.
С надеждой, что снова наступит утро, продолжаю путь повествования, продиктованный «законами пепельной памяти» и не свершенными журналистскими замыслами.
«ОДНО ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ СТАРОСТИ – НРАВСТВЕННАЯ СВОБОДА»
Все возвращается на круги своя. Банальная фраза, но если обозреть последний кусок жизни, она искрит. Мы повторяем жизнь своих матерей. В этой комнате, узкой, как моя отработанная зажигалка, свой долгий век отживала мама. А сейчас эту противную процедуру - ожидание конца в той же комнате предстоит пережить мне. У мамы было великое преимущество – напоследок с ней рядом оставались родные души – «крошечка и выродок», так называла меня старушка в зависимости от температуры наших сиюминутных отношений, и двое моих детей.
По утрам ей было кому рассказать, как провела ночь, где ныло, кололо, какой сон приснился. И если я второпях, собирая детей в школу и опаздывая на работу, не выказывала живой заинтересованности к ее болячкам и снам, она демонстративно закрывалась в своей комнате. Тогда я была уже не «крошечка», а «выродок» ( родила меня последнюю, нежеланную). Вот такие крайности – характеры у нас с мамулей не ангельские, но взаимную обиду долго не держали. После очередного скандальчика вечером встречались на нейтральной полосе – кухне и просили друг у друга прощения. А в субботние вечера готовили вкусный ужин, мама, выпив рюмочку – другую, но не более, с вдохновением извлекала из кармана халата колоду карт и соглашалась поиграть в «дурачка».
А сейчас, если не считать вечно голодной собаки Сабрины, в моей квартире, хотя прописано трое, проживает лишь одиночество и тишина. Сын в возрасте Христа, спасая от окончательного банкротства свое частное предприятие, – почтальоны завалили повестками в суды и налоговые службы – работает по 20 часов в сутки. Приходит глубокой ночью и исчезает тихо, молча утром. Не постучит в дверь моей комнаты, не спросит: «Ты, мать, жива?». Аномалия? А может быть это расплата за мою невнимательность, нетерпимость к старенькой матери-покойнице? Во всяком случае, к подобного рода отношениям сын приучил меня за последние годы. Взамен он, абсолютный трезвенник, девок в дом не водил, обедов и ужинов не требовал. И раз в два месяца на трюмо в прихожей оставлял свою долю за квартплату.
Если бы не эти сыновние дотации, мне оставался один путь: обивать пороги соцзащиты или идти в поломойки. Одно дело мести и мыть в квартире, другое - на заплеванной лестничной площадке на всеобщем обозрении, уподобляясь бабке-ёшке.
А каково бабке-ёшке, если у нее за плечами Ленинградский университет, где в нее вдохнули духовность, возвышенность чувств. Конечно, вздор, что с этими ценностями метла несовместима. В наши-то дни бывшие научные сотрудники, инженеры, несшие в себе такую же духовность и освещавшие ею других, оказавшись никому ненужными стариками, исправно метут улицы, дежурят на вахтах - жизнь заставляет. Еще каких-то десять лет назад подобное существование не могло присниться даже в самом ужасном сне, но нынче пообвыкли. Более того, если очень постараться: затянуть поясок потуже, не тратясь на лекарства, сигареты - с нашим пенсионным пособием можно и не сдохнуть с голоду. Но тут возникает препятствие в облике гигантских соблазнов. Наше прежнее существование протекало в « вегетарианские годы» - пустые прилавки, очереди, карточки. А сейчас невиданные по изобилию деликатесы в витринах стали для остро нуждающихся экспонатами, а супермаркеты – музеями. Доступ возможен, но карман пуст, и понятно, что ничего, кроме легкого стресса и ощущения обездоленности, к картофельному меню не приобретешь. Но я упорно отказываюсь идти в поломойки. Это значит предать альма-матер. Во мне сидит завышенное чувство гордости за свой Университет, много лет назад принявший в здание двенадцати Коллегий девчонку с амурской завалинки.
Господи, было ли это – Дворцовый мост, Университетская набережная, «Симанка» на Васильевском острове, где «студентики живут, крепко водку пьют», Летний сад – как забытье в полусне. А может, привиделось? Реальным остался факт, что иной профессии, полученной на берегах Невы, кроме как журналист, литературный редактор, не имела.
Моя трудовая стезя разделилась как бы на две ясные половины. Первая – выразительная, энергичная с немыслимыми взлетами и падениями работа в «Тихоокеанской звезде», а вторая – завершающая, при потушенных фонарях в Академическом институте, который нынче возглавляет известный на Дальнем Востоке ученый Павел Александрович Минакир, где в обязанности ведущего редактора входила скукота: редактирование научных статей, препринтов, монографий и популяризация научных изысканий хабаровских экономистов.
Выйдя в 60 на заслуженный отдых, первые полгода буквально балдела от восторга жизни без будильника. Утром за зимним окном темнотища с морозным треском, а ты просыпаешься, в сердце – ёк! Радость: на работу не идти, на остановках не мерзнуть, в автобусах не давиться, объяснительные не писать, лихорадочно придумывая причины опоздания, – трубу ли в ванной прорвало или соседи сверху затопили.
Сейчас не требуется никаких объяснительных, время без остатка принадлежит тебе. Как сказал Сомерсет Моэм: «Одно из преимуществ старости – нравственная свобода». Ты волен хоть весь день сидеть в кресле, дочитывая толстый журнал, доделывая то, что из-за занятости откладывалось на потом, или разгадывать сканворды. Игнорировать надоевшие емкие на всю семью кастрюли для борща. Питаться по-студенчески, на скорую руку – бутерброды с большим количеством чая.
Однако, начитавшись и насладившись свободой, одиночеством, внутренний голос потребовал сформулировать самой себе объяснительную на предмет ничегонеделания – можно ли так проживать и дальше? Я еще не догадывалась, что ко мне пыталась вползать смертельная болезнь. Участился кашель по ночам – явление естественное для злостного курильщика, неожиданное головокружение – еще бы, в меню никаких яблок и особых калорий. Да и годы – седьмой десяток – никуда не денешься.
Осознание того, что я элементарно тунеядствую, весьма беспокоило и вносило дискомфорт в размеренную жизнь. А тут при всей экономии обнаружила, что до пенсии неделя, а холодильник пуст, в кармане ни рубля, и заварки купить не на что.
Однако реальная перспектива нищеты не привлекала. Оставалось одно – вспомнить любимую профессию. Выбрать актуальную для газеты тему. А их нынче прорва – реформа в клювике принесла разрушение всех нравственных координат, наглое попрание прав человека, расцвет мошенничества, жлобский социальный передел, ввергший достойных людей в нищету. Человек с пером оставаться безучастным не может. Мое сердце не разучилось принимать сигналы о бедствии. Вот только бы победить страх перед чистым листом бумаги, написать первую строчку и переступить порог любимой и ненавистной редакции, чего я не делала сто лет.
Ведь в «Тихоокеанской звезде» прошла трудную счастливую школу большой журналистики, а точнее, университет чувств, интеллекта, праведной или неправедной борьбы за «золотое» перо. Под незримой, но ощутимой опекой с хлыстом и душевным теплом незабвенного «отца Федора» - редактора Федора Георгиевича Куликова.
В ЖУРНАЛИСТИКУ НЕ С БУХТЫ-БАРАХТЫ
Мы пришли с Ф. Г. Куликовым в «Тихоокеанскую звезду» в один и тот же год, конечно, в разных ипостасях. Он, – будучи редактором из Биробиджана. А я, пройдя в районной газете «Горняк Севера» первый трудовой этап в качестве молодого специалиста, временно безработная. Насладившись романтикой колымских золотых полигонов с бывшими зэка, жгучих морозов, когда слышен шорох звезд, и почувствовав, что врастаю в эту экзотически суровую землю – еще годок к двум северным, отработанным после университета, – и никакая сила от колымской трассы меня не отлепит, а родители старые, настоятельно звали – усилием воли собрала вещички, взяла билет, на прощание побывав на озере «танцующих хариусов», вылетела в Хабаровск. В неведении, где зарабатывать на хлеб насущный, «Тихоокеанская звезда», по особым причинам, была сверхмечтой. На счастье встретила этого удивительного человека. Но поначалу Куликов мне таким не показался.
Если М.М.Фрадкин – ответственный секретарь, к кому не без робости и без всякой надежды пришла наниматься, узнав, что я располагаю дипломом, где значится специальность «журналист», будто жданного гостя, с энтузиазмом, повел, взяв под локоть, в кабинет редактора, то сидящий в кресле, как Будда, плотный, седоватый чиновник моментально остудил отстраненностью, невозмутимостью. Равнодушно выслушав мои краткие страницы жизни: «Хабаровчанка, не замужем, живу с родителями, любимые темы – человек и его судьба», язвительно спросил «на ты»: «Это что же – квартиру просить будешь?». Я мотнула отрицательно головой, мол, смею ли? Перелистав диплом, трудовую, где всего-то пара записей, лаконично бросил Фрадкину: «Испытательный срок – месяц. Найдите ей стол».
Упоительной радости не было предела. Свершилось! Болтливая, как бубенчик, никому во всем свете не признавалась, что об этой газете мечтала с младых ногтей. Ведь путь в журналистику избрала не с бухты-барахты. Пришла к нему, правда, зигзагами. А до того были иные намерения, например, стать директором детдома.
В центре военного Хабаровска, близ площади Свободы, сразу за нашим сарайчиком, сооруженным для козы Майки, возвышалось самое красивое на нашей улице Театральной двухэтажное здание с колоннами, скрытое от прохожих высоченным забором. Под его старинными окнами, похожими на купола, и розовым балконом шумел настоящий парк с высокими тополями. Детский дом (ныне здание Дворца бракосочетания), откуда доносился, вкусный запах кипяченого пригоревшего молока и нескончаемый детский плач. У нас с детдомом был общий забор, где мы, детвора, установили пункт наблюдения - через дырки видели на прогулке ребятишек, одинаково одетых, как близнецы. Если кто-то из них падал и, захлебываясь плачем, звал, никто из взрослых не подходил: ясно, что воспитательницы хлещут кипяченое молоко, которое на вес золота, трепятся на бабьи темы и забыли о маленьких. Хотелось перескочить через забор, кинуться на помощь плачущему, поднять, утешить. Но вступать на территорию запрещалось. Матери по-соседски разрешили для нашей кормилицы, старой козы Майки рвать траву на территории детдома и собирать опавшие листья. Майка давала пол-литровую банку молока, которое мы делили на пятерых, а жевала траву неустанно. Очищая от сорняков запущенные аллеи во время сонного часа и слыша близко, из спален детский плач, нестерпимо хотелось проникнуть в это холодное, помпезное здание с колоннами и увидеть воочию малышей, наверное, их там мучают и морят голодом. А иначе, почему же они плачут? Вот вырасту большая, стану директором детдома, у меня ребятишки будут счастливыми, как я сейчас.
А счастье, если бы не война и голод, было бы полным. Чего стоила игра, придуманная сестрой Надькой - заказывать и носить любую обувь, какую душа желает. После дождя наша улица, что рядом с площадью Свободы, превращалась в бездонное месиво грязи, где застревали не то что «эмки», но и «студебеккеры». А нам, босякам, хоть бы хны, самая благодать. Мы творили обувь, какую прикажет фантазия. Сначала тапочки, потом, по мере погружения в грязь, – туфли, ботики. «А у меня сапоги!» - кричала сестра, погрузившись по колено в грязь, и вылезая из нее. И мы, малышня, вслед за старшей, лезли за такими же «сапожками» в самую глубину. Цыпки уже не были особым предметом огорчения, с ними в «босоногом детстве» выросли. А у наших матерей только к осени, к холодам начинала болеть голова – в какую обувь одеть детвору.
День у шантрапы нашего двора был наполнен событиями до отказа. Отцы на войне, на хлеб зарабатывать приходилось самим, невзирая на возраст. Главное уметь считать до ста. Копеек. В жаркие дни торговали на базаре колодезной водой, вечером у цирка - букетами саранок, которые собирали на старом кладбище, близ железнодорожного вокзала, сдавали в аптеку для лечения раненых солдат ромашку, сухая, она весила всего килограмм в набитой до отказа наволочке. И почти каждую ночь выстаивали в длиннющей, притихшей очереди за желанным хлебушком. Мама поднимала меня чуть свет, стягивала одеяло, ласково уговаривая, - ой, как не хотелось рано вставать! – и наконец, рассердившись, тащила меня, полусонную к умывальнику. Мы шли по темной улице. В чернильной тьме прятались изгороди, палисадники, дома, а солнце безмятежно спало где-то там. «У солнца нет матери, и его некому будить пораньше, чтоб осветить нам путь», - рассуждала я, и мама смеялась над моими словами. У магазина чуть ли не на ощупь мы находили свою очередь, занятую с вечера, я пристраивалась к полу спящим, а мама уходила на Волочаевскую, в большой розовый дом НКВД, изнеженным женам энкавэдистов стирать белье. Как иждивенка, жена всего лишь красноармейца, она получала по карточкам меньше всех нас граммов хлеба. Возвращалась мама к полуночи. Опухшими от стирки руками развязывала узелок. Мы не спали и ждали этого счастливого момента, не сводя глаз с узелка – огрызки, корки сладостных белых булок делились, как в сказке о трех медведях, только наоборот – мне, самой маленькой, побольше, а маме доставалось меньше всех. Впервые в жизни я узнала о существовании на земле белого хлеба благодаря ленивым женам хабаровских энкавэдистов, не желавшим утруждать свои нежные ручки стиркой белья. А утром, также рано, мама шла на глажку высушенного белья.
Когда кончилась война и ко многим вернулись отцы, а наш папка все не возвращался с японской, вчерашние голоштанные Витьки, Сережки стали богачами – они торговали «Дукатом» поштучно. Где отцы доставали такое нездешнее курево – загадка. Но одна папиросина «Дуката» стоила столько, сколько ведро воды или букет цветов. А ходить с пачечкой папирос весело, это не то, что таскать на коромыслах воду – плечо горит, или собирать ромашку в приставучем, злом облаке мошкары.
При этом все девчонки с нашей улицы Театральной мечтали быть артистками, циркачками – городской цирк-шапито в пяти шагах, на площади Свободы. Огни, празднично одетые люди, музыка, доносящаяся из-под зеленого купола, неудержимо влекли. По «заборной книжке» проникали в святая святых. Едва дыша, пробирались через конюшню, ощущая запах свежих опилок, пота, видели гимнастов, жонглеров, в ярких, расшитых золотом и серебром костюмах. От всего этого захватывало дух. Насмотревшись и наудивлявшись, даже подумывала, не стать ли мне артисткой цирка. Выучила и распевала марш лилипутов: «Мы все те же на манеже сейчас, встречаем вас улыбкой глаз». Во всю училась делать реверансы, кланяясь невидимым аплодирующим зрителям. Но вскоре решительно разочаровалась. У соседки по двору тетки Насти снимал угол клоун Казаченко. Детвора ходила за ним стаями. Однажды он повесил на изгородь «многопудовые» гири, с которыми работал на манеже, а ветхая изгородь от такого тяжелого груза даже не покосилась. Когда подул сильный ветер, гири взвились в воздух, и шлепнулись в огороде. Мы кинулись ловить, обнаружив, что сделаны они из картона. Об обмане растрезвонили по всей улице Театральной. Обожание мое потускнело.
Из всех предметов в школе я признавала только уроки литературы. И в старших классах мои сочинения были лучшими. Учительница читала их вслух и ставила неизменные отметки: пять с плюсом дробь двойка (в числителе – содержание, в знаменателе – грамотность).
В нашей семье и книг-то никогда не было – все, что горело шло на растопку. Так было во время войны и после нее. Отец, вернувшись с японской, многократно перекладывал печку. То ли в дымоходе сидела какая-то заковыка, то ли у отца, купеческого сына, о чем мы вслух не смели говорить, руки росли не из того места, печка ни в какую растапливаться не хотела. Этажерка для книг пустовала. Существовало лишь одно табу - на газету «Тихоокеанская звезда», которую выписывал отец. В семье ее почитали, кратко называя «ТОЗ».
По вечерам, когда бочка была полна, воду носили ведрами с водокачки близ цирка, дрова на утреннюю растопку наколоты, мать после ужина старательно вытирала стол. Он был единственным в доме. На одном его конце отец, вооружившись очками и ножницами, чудом сохранившиеся в доме, - тогда иголку за просто так не купишь, читал «Тихоокеанскую звезду», а на другом я, притулившись с края, писала школьное сочинение. И наблюдала за действиями отца. Эмоций особых он не выказывал, но понравившиеся статьи, по его понятиям нетленки, бережно вырезал. А я с придыханием думала: «И мои статьи кто-то будет вырезать!»
Дело дошло до того, что, вздыхая о мальчишке с другой школы, наша была женская, Толе Забелине, дала ему кличку «ТОЗ». Моя влюбленность стала известна всему классу, и девчонки, подначивая, докладывали: «Твой «ТОЗ» во дворце пионеров вчера был», «А я с «ТОЗОМ» падеграс танцевала. И ничего хорошего в нем нет».
Тогда же, почти рядом с детдомом, ближе к площади Свободы, стали строить красивейший, по меркам хабаровчан, живущих в завалюхах, пятиэтажный дом, где нынче Дом книги. На года два леса заняли почти всю улицу Театральную, оставив для пешеходов узенькую деревянную дорожку с навесом из досок. А потом леса сняли, и мы стали очевидцами, как в новый дом въезжают счастливцы. Мы впервые видели такое количество новоселов. А среди них единственно знакомое лицо: «Надька, смотри, писатель Наволочкин!» - Он выступал в нашей школе со стихами, и так мне понравился, заворожил, что я, краснея и заикаясь, уже в школьном гардеробе тихонько, чтобы не смеялись надо мной, спросила: – как можно сделаться журналистом. Наволочкин удивился, причем здесь журналистика. И несмотря на банальность его ответа, что нужно много читать, думать и учиться, вспыхнувшая святая любовь к Николаю Дмитриевичу, впервые увиденному мной настоящему писателю, не трансформируясь, в чистоте, сохранилась по сей день. И вел он себя при заселении скромно, не суетясь, как другие. На грузовиках везли мебель, домашнюю утварь с неизменными фикусами. Стоя, разинув рты, среди собравшейся челяди любопытных, мы с Надюшкой слышали команды: «Давай, давай! Осторожно, куда прешь?!». Хозяев новых квартир можно было легко отличить от грузчиков – по одежде, сытости, командному тону. «Надька! - тихо вспыхнуло во мне, - Не веришь, я буду жить в этом доме!» Она посмеялась: «Фантазерка!» Это и впрямь казалось фантастичным. Новоселы этого красивого дома, видимо, какие-то особые люди, как Наволочкин. А кто я и где живу? Во время дождя в нашем домике, врытом в землю, начинался музыкальный концерт: на кроватях, полу стояли тазы, чашки, плошки, куда звонко капала вода – крыша текла и кровля как сито. О существовании в хабаровских квартирах кранов с горячей и холодной водой, теплых сортиров мы не догадывались. Спустя много лет сестра приехала из Волгограда погостить, и напомнила: « Ты что у нас, цыганка? Откуда ты знала, что будешь жить в этом доме?» Да ничего я тогда не знала, верила в счастливое будущее. Но « будущее прекрасно, потому что нас еще там нет».
В ГОЛУБОМ ПЛАЩЕ К БРОДЯГАМ
В школе нам вдалбливали Горького, а я усвоила свое – несказанно хотелось также как он, пройти с котомкой по белу свету, всматриваясь в людские судьбы. Почему человек, с его волей, мозгами, способностью созидать прекрасное, ломается, не выдерживает, падая на дно. «Пятна проклятого прошлого»? И однажды, прорываясь к человеку дна, вляпалась в историю, оказавшись в пикете милиции с бродягами. Взамен я, сопливая девчонка, узнала, что есть гнусные люди во фраках и другая жизнь – непонятная, беспощадная в своей жестокости, о которой умалчивали школьные учителя, программируя светлое будущее, где борьба присутствовала как невинный аккомпанемент. Об этом много позже написала документальный рассказ: «В голубом плаще к бродягам», невостребованный по простой причине - люди дна стали массовым явлением. Но в те годы, спустя десять лет после войны, хабаровская милиция поименно знала асоциальных типов и чего от каждого из них ждать.
В девятом классе учительница литературы, вальяжная самодостаточная Руфина Израйлевна, задала сочинение на дом: «Человек в пьесе Горького «На дне». Тема была по душе. С пафосом, вдохновенно писала о том, чему учила наша Руфина – человек был затравлен, унижен, и только при социалистическом строе он по праву стал «венцом природы». Так увлеклась, что забыла, ведь я должна идти к однокласснице Нинель Корышевой, помочь написать сочинение и сдуть у нее задачу по алгебре. Украдкой сняла с вешалки новый модный плащ сестры. Это была первая после войны сногсшибательная покупка старшей сестры Лизы. Она в пятнадцать лет пошла на работу и нас, пока два брата и отец сражались на фронте с врагом, спасла от голода – с завода приносила жмых, из которого мама варила совсем не кислый, хоть и без сахара, кисель, заменявший хлеб. А сейчас моя красавица Лизка – невеста. Вот и купила этот роскошный плащ из настоящего дудерона. Втайне от Лизы его надевает средняя сестра Надюшка. А я чем хуже?
Одноклассница жила в пятиэтажном доме геологов на Льва Толстого. На лестничной площадке третьего этажа услышала громкий, решительный голос мужчины:
- Иди, иди отсюда, бродяга. Ночлежку на чердаке устроила. Вот сейчас в милицию отведу. – Та, кого гнали, в старой прожженной телогрейке, в больших не по размеру галошах, одетых прямо на спущенные чулки, видно, пробиралась на чердак.
– Порядочный дом в притон превратили, - доругивался мужчина в чесучовом плаще.
На шум открылась дверь квартиры и вышла седая женщина в чистеньком фартуке.
– Что здесь происходит? – Бродяжка кинулась к ней, как к спасительнице:
– Отовсюду меня гонят. С чердаков, подвалов. Я трудолюбивая, маляр-штукатур. У меня муж офицер был. Куда я сейчас пойду? – И взаправдашние слезы струились из глаз.
– Эх ты, бедолага, чай, молодая. – Посочувствовала ей женщина в фартуке. – Устройся в домоуправление дворником, там тебе и крышу дадут, не будешь по чердакам мотаться. – «Бедолага» внимательно, преданно слушала, будто вот сейчас готова на все. – Значит так. Иди в 23-е домоуправление, это на Саперной. Там моя приятельница сейчас дежурит. Скажи, от Марии Ивановны. Она не оставит в беде. Знаешь, где улица Саперная? – Бродяжка отрицательно мотнула головой. – Как же быть? Я бы проводила, но ко мне сыновья в гости приехали, а ты откуда, девочка, - обратилась она ко мне.
– Да вот, к подруге пришла.
– К Неллечке Корышевой? У тебя есть время? Знаешь, где Саперная. Отведи ее. - Начисто забыв про математику, я обрадовалась такому предложению. Еще бы! Увидеть воочию, а не из книг, настоящую бродяжку, человека дна, и повести его в новый светлый путь.
Старушка дала мне указание, как найти ее приятельницу, и шепнула на прощание:
- Отведи непременно, ты ведь комсомолка. Надо помогать людям.
Мы вышли из нелькиного дома. Ледяной ветер швырял в лицо дождь со снегом. Подопечная покорно шла за мной, пока не появились огни улицы Карла Маркса. Ее чулки в галошах промокли до колен. Она пыталась прятать голову в узкий воротник телогрейки. Почему эта женщина так опустилась? Ведь при Советской власти родилась. И, видно, жила безбедно, даже зуб золотой. Кто же виноват, что она стала такой? Как можно деликатней я спросила ее об этом.
- Лапушка, я тебе всю жизнь свою расскажу. Зови просто Тосей. Мне ведь всего 27 лет. Вот сейчас зайдем в одно место на минутку, мне согреться нужно, и все по порядку расскажу. А потом ты поведешь туда, куда говорила эта добрая женщина. Мне моральная помощь нужна. Начну жизнь сначала. Еще не все пропало. – Эта последняя фраза доконала меня. Тося выражалась точно так же, как Сатин из пьесы Горького. Интерес к ее судьбе захватил меня.
Ободранная как кошка, в хлюпающих галошах, полных растаявшего снега, Тоська, завидев огни гастронома, зашагала быстро, широко, грудь нараспашку, уже не закрываясь от пронизывающего ветра. А я рядом, в модном плаще, ежилась под удивленными взглядами прохожих. «Ну и что же, - успокаивала я себя, - смотрите, я как писатель Горький, изучаю людей дна». Перед гастрономом она беззастенчиво задрала юбку и из потайного кармана в штанах вытащила красную тридцатку. Решительно направилась в отдел, который облепили мужчины, живо нырнула в толпу. С шутками-прибаутками растолкала очередь, строя глазки и кокетничая, пробралась к прилавку. Только тут я поняла, что моей подопечной нужна водка.
- Чекушек не осталось, пришлось пол литру купить, - запихивая бутылку в юбочный карман, весело произнесла она. – Где пить будем? Я все места знаю. Пойдем, тут недалеко.
- А как же домоуправление? – пыталась заикнуться я.
- Вот сейчас согреюсь, расскажу свою жизнь, и пойдем. – Она юркнула в подъезд соседнего маленького гастронома и, ориентируясь, как кошка в темноте, спустилась в подвал, держа меня за руку. Другой рукой достала бутылку и прямо на ходу зубами сорвала сургуч с пробкой. Мы присели на какие-то ящики, и я услышала, как забулькала водка. Тоська долго пила. Потом передала бутылку мне, приказав: – Теперь ты. Не бойся, а то ничего рассказывать не буду. - Я никогда еще не пила, и чтобы не злить, не стала отнекиваться, зажав языком горлышко, перевернула бутылку, булька не получилось, но Тоська не заметила и начала рассказывать:
- Мне, если честно, тридцать лет. Пять из них работала буфетчицей. Потом – недостача. Вот и все.
- Как все?! – вырвалось у меня. Я надеялась услышать необыкновенный потрясающий рассказ о причинах, сокрушивших, растоптавших ее молодость, и, возможно, когда-нибудь написать. А тут – «всё».
- Что, не понимаешь? За недостачу по головке не гладят.
Она и не собиралась начинать новую жизнь, быстро хмелела, язык ее заплетался, путала, повторялась. И я со всей очевидностью поняла, что реального врага, по чьей причине молодая женщина опустилась – не было.
- А на какие средства вы сейчас живете?
- Продаю известку, мне знакомые строители достают. Ночую, где попало. Весь гардероб на мне. Одним словом, отбросы общества.
Глубоко разочарованная, я решительно поднялась с ящика, когда на лестничной площадке раздались шаги, чиркнула спичка, в руках элегантно одетого красивого мужчины с модным галстуком на белоснежной рубашке.
- Антонина, кто с тобой? - он еще раз чиркнул, поднес спичку к моему лицу. – Э, да какая молоденькая. В нашем полку прибыло! – Спичка погасла. Он протянул руку к бутылке и опрокинул ее в рот. Я ошарашенно озиралась.
- Это моя знакомая, - горделиво произнесла Тоська.
- Пойдем, - потребовал он, вытирая рот платком, белизной мелькнувшим в темноте. - Моя жена уехала, квартира свободна. Хватит по подвалам мытариться.
- Оюшки, - обрадовалась Тоська и чмокнула его куда-то в рукав.
- Не ты, - оттолкнув Тоську, красивый мужчина больно схватил меня за руку. – Откуда же ты, детка, взялась такая?
- Не троньте, не смейте! - взвизгнула я и почувствовав, что там, куда он меня тащит, может случиться ужасное, заорала: - Негодяй! – и что было сил неистово отпихнула, кинулась из подвала. Услышав за собой шаги, заметалась на лестничной площадке. В темноте нащупала дверь. Она вывела во двор. Проскочила мимо сараев и оказалась на центральной улице. Здесь за мной он не погонится, а я все равно бежала. Сердце стучало как оглашенное. Мысли путались. Как же так? Почему это? Красивый интеллигентный человек и такой грязный мерзавец. Мир, люди, какие вы?
Потрясенная, я абсолютно равнодушно и даже с ненавистью восприняла «пятерку» за сочинение – не хватило мужества порвать его.
Но неприятности, связанные с Тоськой, на этом не закончились.
На первомайские праздники наш десятый класс впервые решил собраться вместе. Мне с Нинель поручили закупить для торжества лимонад и вино. С нагруженными сумками, из которых торчали горлышки бутылок, мы шествовали по Карла Маркса, блистающей гирляндами ярких цветных лампочек, флагами, мимо Дворца пионеров. И вдруг кто-то громко окликнул:
- Лапушка, погоди! – я оглянулась и ахнула: у открытого павильона, где торговали газировкой, а может, чем покрепче, в кругу подвыпивших, небритых мужчин стояла Тоська, картинно простирая руки. Вместо прожженной телогрейки на ней болталась помятая шинель до пят. Бросившись мне навстречу, дыша жутким перегаром, стала прилюдно обнимать, подчеркнуто громко обращаясь:
- С праздником! С Первомаем, с днем весны и труда! – и потянула к своим дружкам. – Знакомьтесь, это моя подруга. Учится в высшей школе, - почему-то наврала она. Пропойцы улыбались. Протягивали руки для знакомства. Окруженная персонажами горьковского «Дна», я не знала, как себя вести. Остолбеневшая Нинель испарилась. И тут появился милиционер. Взяв под козырек, строго произнес, почему-то обращаясь ко мне:
- Ваши документы?
- Нет у меня документов. Школьница я. - Честную компанию при появлении милиционера как ветром сдуло. Он повел меня, словно преступницу, среди праздничных людей через дорогу в пикет милиции. На нас оглядывались.
Лавочки тесной комнаты пикета были забиты такими же бродягами, как Тоська. Одна с одутловатым лицом, без резинок на спущенных чулках, не замечая небрежности в туалете, бойко, с вызовом напирала:
- Так что, начальник? На сколько посадишь? Только не в одиночку, компанию сердце жаждет.
- Сидите и не паясничайте, - устало произнес милиционер с тремя звездочками на погонах, сидящий за столом. Седые виски, благородное лицо, подтянутый, он и вправду наверное был начальником. И на все двести похож на киноактера Столярова.
- Вот и скамья уголовников, - невесело подумала я и осторожно присела с краю на освободившееся место.
- Уведите Ляпунову. А вы? В какой школе учитесь, гражданка? Почему оказались среди бродяг? - спросил главный милиционер.
- Я ничего плохого не сделала. Неужели нельзя разговаривать с тем, с кем хочу? – мужественно храбрилась я.
- О чем могут быть беседы у школьницы с бывшими рецидивистами, занимающимися спекуляцией и воровством? – я, насупившись, молчала. И уже жестко зачастил вопросами:
- При каких обстоятельствах познакомились? Что вас связывает? Будете молчать, сообщим директору школы. - При мысли, что о бродягах и моей дружбе с ними узнает наш класс, взмолилась:
- Не надо фамилии, не надо имени, я все расскажу. Только, только не смейтесь.
И я выложила все начистоту и про домоуправление, и о задании доброй бабушки. Когда стала рассказывать, как мы сидели в подвале, и туда пришел на вид красивый, интеллигентный мужчина, оказавшийся хуже Тоськи, в глазах капитана появились веселые огоньки:
- Так-так. Красиво одетый, по вашим понятиям должен быть хорошим человеком. – Вздохнул, молча разглядывая меня, и подвел итог: - Значит, заинтересовались людьми дна? Эпоха не та, дорогая девочка. – Он долго и много говорил умные толковые слова о кузнеце, кующем собственное несчастье: - Вот вы видели сидящую здесь женщину. Лет пять назад это была весьма эффектная, солидная дама, что называется «и в кольцах узкая рука». Мужа посадили за махинации, имущество конфисковали. А привычка широко жить осталась и привела ее в компанию мошенников. С Антониной Кривцовой, вашей знакомой, ближайшие подружки. Кстати, эта ваша Кривцова отбывала срок за попытку убийства квартирной соседки в нетрезвом состоянии.
Потом взял начатый протокол со стола, порвал его:
- Идите и обходите таких людей стороной. Не торопите жизнь. Все узнаете. – И уже провожая, признался, улыбаясь: - А вообще-то в своей практике я впервые встречаю подобное. Повзрослеете, интерес к людям дна не исчезнет, приходите, расскажу. Моя фамилия – Гринберг.
Я вышла из пикета и попала в объятия Нинель.
- Выпустили? Что сказали? А я стою с сумками как дура. Откуда ты этих бродяг знаешь? За что тебя в милицию? – тараторила она. Просила, требовала, клялась, что тайна умрет с ней. Нет, Нэлька не отстанет…
- Помнишь, я к тебе шла за задачкой и не пришла.
- Еще бы, весь вечер прождала. Понадеялась, и из-за тебя схлопотала двойку за сочинение.
- А эту женщину в шинели сейчас видела? Ну, ту, что меня позвала. – Нинель кивнула. –Так вот, я думала, что она героиня Горьковского «На дне». Ошиблась. Милиционер говорит –эпоха не та.
В чем же суть нынешней эпохи? Что и кто ее созидает? Журналистика поможет мне открыть таинственный мир человека, проверить глубину мрака и света, в которой мы живем, поднимет над завалинкой. И шла к этой цели, вонзив рожки в землю, с необычайной страстью и волей. Не догадываясь, что между детством и садом радостей земных лежит сильно и грубо пересеченная местность.
СКРИП КИРЗОВЫХ САПОГ
Мне казалось, что в «ТОЗе» работают необыкновенные люди, из иного, неведомого мне мира. В этом я убедилась, проторив со своими заметками тропку к зданию на улице Калинина, где когда-то работал Гайдар. Но первый свой опус сама и похоронила. Побывав с классом на школьной экскурсии на Хехцире, так была очарована сопками, красотой природы, что вместо краткой заметки исписала всю ученическую тетрадь. В «Счастье на сопках» было все: и пение птиц, и описание солнышка и дуновение ветерка. Чувствуя, что я что-то не так сделала, прежде чем отнести в редакцию, а планка «Тихоокеанской звезды» была для меня в поднебесье, поперлась проконсультироваться, по соседству, в Крайлит. Мимо этого кирпичного здания на Ким-Ю-Чена с красивым балконом я пробегала сотни раз. «Крайлит – краевая литература», сделала перевод я, значит там должны быть хабаровские писатели. Прочитают, подскажут.
Но писателями здесь и не пахло, а сидевшие в первом кабинете за столами две женщины на мою просьбу замахали руками: «Девочка, ты не сюда пришла. Мы цензоры. Даем разрешение на публикацию». – Но я пристала, как банный лист: «Если вы даете разрешение, то прочитайте» - И совала тетрадку той, что внешне была подобрее. От моего натиска она сдалась: «Маша, посмотри!» Ее соседка по столу нехотя перелистала странички, почти не читая: «По нашей части ничего запрещенного нет».- Я не могла понять, о каком запрете они говорят. Важно было узнать подойдет ли это для «Тихоокеанской звезды». «Ты девочка, не к нам, а в эту редакцию обращайся. Там тебе все объяснят. Знаешь адрес?» «Назубок!» И я бесхитростно объяснила, почему не могу пойти, на что цензорша, снизойдя, пояснила: «Просто как читатель могу сказать, не о качестве, а о размерах. Такой большой материал ни одна газета не напечатает. Надо ужать в раз десять». С тем я и покинула Хабаровскую «краевую литературу». Лишь много позже поняла, что за безобидным названием «крайлит» скрываются узаконенное стукачество, душители свежей, небанальной газетной мысли, острого факта, злободневных статей. Мне просто посчастливилось попасть к добросердечным бабенкам, не вышвырнувшим меня за порог крайлита.
А тогда ужимать «Счастье на сопках» никак не получалось, да еще в десять раз. Эта тетрадка долго валялась среди учебников и ушла в печку, на растопку. Господи, как я нуждалась в умном, образованном человеке, кто бы понятно объяснил, как не нужно писать. И я несла в «Тихоокеанскую звезду», подчас, детский лепет. Переминаясь с ноги на ногу, робея, терпела насмешки журналистов.
Респектабельные, красивые как боги, при галстуках и в белоснежных рубашках Сергей Рослый и черноглазый, как цыган, Петр Баранов покатывались со смеху при чтении моих листочков, выдранных из ученической тетради: «Послушай, Сергей, потрясающий заголовок нашего юнкора: «Дом культуры есть, а культуры нет».
Елена Дроздова не смеялась. Пикантная, недосягаемая, с копной роскошных рыжих волос, она величаво шла по редакционному коридору, как по подиуму. Переписывала набело мои опусы, вздыхала: «Учиться тебе надо. Видишь, тавтология. Запомни, словосочетание «усталые, но довольные» - штамп. Его следует избегать. А здесь синонимы поискать надо. Попробуй, найти синоним к часто повторяемому тобой слову «радость». «Светлость!» – живо откликалась я. Елена Васильевна добродушно смеялась. От нее пахло вкусными духами и веяло материнским теплом.
Когда я заканчивала школу, это Елена Дроздова ходила к редактору с тонкой пачкой моих публикаций и добилась своего – мне дали рекомендацию для поступления в Университет. Во дворцы у Невы, куда я ринулась из хижин у Амура, и где конкурс был космическим. Как пели студенты: «В золотые двери факультета ты вошла в кирзовых сапогах». Под «сапогами» непрозрачно намекалось на провинциализм иногородних студентов - низкий уровень культуры, прямолинейность, невежество, скудость знаний. Как сейчас говорят, с дуба упала и шишкой расчесывается. Все это, увы, было свойственно мне и компенсировалось моей безоглядной искренностью, с руками вразлет, бесхитростностью и неистребимой жаждой знать. Профессор стилистики, «папа Хавин», заметив сию черту, взялся курировать провинциалку. В свободную от своих лекций пару брал под руку и, как истый петербуржец, вел через Дворцовый мост в «Эрмитаж». В залах останавливался перед каждым шедевром, рассказывая об его истории создания. Задавал вопросы, что я чувствую, глядя на ту или иную картину. Я робела перед седовласым профессором и очередным творением мастеров кисти, отчаянно терялась и будто на экзаменах лепетала какую-то чепуху.
Иное дело театр, куда любила ходить одна. Как братец Кролик прилип к смоляному чучелку, так и я к БДТ, Большому драматическому, Товстоноговскому. На галерку билет стоил 50 копеек. Суточное пропитание студента с четвертинкой хлеба легко жертвовались во имя потрясения чувств и духовных основ. На сцене страдали и царили, пленяя, блистательные Смоктуновский, Фрейндлих, Юрский, Лавров, Копелян, Лебедев. Возвращаясь, не замечала вечности, сокрытой в красоте зданий на улице Зодчего России, праздничного шума Невского, прелести отраженных в Неве огней. В душе теснилась невыразимая тоска, лихорадочно наплывали мысли: почему, в любую эпоху, так много муки, боли несет человек в своем сердце. Судьба безжалостна. Неужто прав Шопенгауэр, говоря: «То, что людьми принято называть судьбою, является лишь совокупностью учиненных ими глупостей». А какую же глупость учинили Чацкий, князь Мышкин? Их порывы не поняты, любовь осквернена, и сами они обречены на одиночество. Открыть ключиком дверь, ведущую к природе человеческих деяний, помогали великие умы. И я сидела в публичке до последнего звонка, испытывая торжествующую радость от знакомства с малоизвестной газетой «На литературном посту». Так называлась в 20-х годах «Литературная газета», где лаборатория творчества Блока, Асеева, Куприна, Достоевского, Бальмонта раскрывалась так обнаженно, прозрачно, что ничего подобного не прочитаешь ни в одном учебнике русской литературы.
Освободившись частично от «кирзовых сапог», я не освободилась от других пороков, усложнивших всю мою дальнейшую жизнь. Как так? - спрашивала я себя в минуты, когда в споре следовало постоять за себя, а я этого не умела делать. Почему при моей дерзости, отваге, чему было бесчисленно примеров: могла бесстрашно жить одна в таежном, засыпанном снегом домике, посиневшая, с соплями переплывала Амур - во мне поселился и жил дух раба. Он сидел молчком, не рыпался, а потом вдруг возникал. Беседуя в университетском коридоре с вальяжным профессором-пушкинистом Макагоненко, вернувшимся из Америки и щедро угощавшим заграничными сигаретами, у меня тряслись коленки. То же самое происходило, когда ко мне в Охотский радиоузел приходил сам секретарь райкома партии Борода. От внутреннего волнения вела себя неестественно, фальшиво. Откуда взялся этот недруг?
Не тогда ли в расстрельном 37-м году, когда отца, сына купца, посадили в тюрьму на Знаменщикова? Вся огромная семья хлебопашцев Гриценко, человек 37 с детьми и снохами, во главе с дедом Федосием, первопоселенцем на землях Амурской области, была давно раскулачена и выслана на рудники в Соловьевск. Этой участи отец избежал, скрывшись ночью и захватив маму, детей. Долго жили в лесах. А окончательно отец бросил якорь не в глубинке, а в большом городе Хабаровске: здесь легче затеряться, а главное – подросших ребятишек надо было учить. Уже лет 15 на месте дедовских мельницы и маслобойни в Завитой действовал городской мелькомбинат, и все эти годы отец трясся, ожидая ночного стука в дверь. Воронок прибыл. Отца арестовали. И тут недюжинную волю проявила мать. Собрав ораву детей, мал мала меньше, а я еще сидела в ее огромном пузе, она сутками дежурила на Знаменщикова, мозолила глаза тюремному начальству. А сама, кто-то научил, вела переписку с Завитой.
Моя мама была писаной красавицей. Так говорили приезжающие с амурской заимки односельчанки. Когда она в девушках в колодце брала воду, девчата бежали и кричали: «Пойдем, на Дуньку наглядимся». Первый муж ее – лихой красный командир был изрублен саблями беляков, и она сама, 18-летняя вдова, партизанила, чему нашлись свидетели. Из Завитой ей удалось получить соответствующие бумаги. По этой ли причине или из-за детского табора у стен тюрьмы отца выпустили. Однако хребет ему крепко перебили. При его уникальных способностях экономиста, помогавшего деду в коммерческой деятельности, он, умный, сильный мужик, жил тускло, заземленно, по принципу: ниже травы, тише воды, лишь на родной кухне - герой. Да и мамаша при людях не отличалась бойкостью. Человек высокой внутренней культуры, от нее никто худого слова не слышал. При этом она была невосполнимо малограмотной, внушая нам, что отец работает «еспедитором», и до старости читала по складам.
Но ведь я – результат их генов, их пережитого, намерений. А намерения были просты, и мама от меня, взрослой, не скрывала, что тринадцатого ребенка, хотя половина от болезней, недоедания померла, в нищету рожать ни в какую не хотела. И когда подошло время от меня законно избавиться, вышел сталинский указ о запрете абортов. Для увеличения народонаселения страны указ мажорный, а для моих родителей – минорный, а точнее, удар. Что только не предпринимала мама, по наущению бабок, дабы избавиться от меня, не помогло. Возможно, отсюда проистекло мое богатое «лестничное остроумие» - только когда дискуссия завершена, уже покинув собеседников, начинаю соображать, как надо было ответить, что сказать, и тогда приходили убедительные, блистательные аргументы, что хоть немедленно возвращайся и договаривай, но поезд-то ушел.
Вот с таким багажом, не догадываясь о его содержании и корнях, а по сути путанно-нервным человеком, склонным к самобичеванию, готовым запылать восторгом, лишенным «хладного рассудка» вступала в жизнь. Вышла из дверей факультета в полумодных сапожках, до «супер-пупер» всегда чего-то не хватало, то денег, то вкуса. Но генетический скрип кирзы сопровождал меня всю жизнь.
С МЕЧТОЙ ПРИДЕШЬ, ОТ МЕЧТЫ - ПОГИБНЕШЬ
И вот новенькая в «Тихоокеанской звезде». Но ни кабинета, ни стола, как велено было редактором, мне не нашли, чем чертовски обидели, хотя, как позже узнала, так поступали со всеми, кто проходил испытательный срок. Посадили в библиотеку к Лидии.Косенко изучать подшивки – рубрики, тематику, неизвестные имена коллег. В тот день к Лидии Николаевне то и дело забегали журналисты с вопросами: «Не вернулась? Куда она могла запропаститься? А вдруг волки съели?» И вообще в атмосфере царила некая тревога. Оказывается, вся редакция ездила на Корфовскую за грибами. И в лесу потерялась 18-летняя Вика Маловинская, учетчица из отдела писем. Кричали, звали, вернулись без нее. Редакция стояла на ушах. Говорили о ней добрые слова, будто прощались. И я, никем не замечаемая, завидовала этой незнакомой девчонке, которую все так любят. Появилась она, высокая, с осиной талией только на следующий день, и девушку все обнимали. Пройдет много лет, и мы станем с ней друзьями.
И второе событие, скорбное, постигло редакцию в первый год моего прихода в «ТОЗ» – безвременно, на 45_м году жизни, после долгой, мучительной болезни умер журналист Лев Малышев. Я его помнила еще по прежней редакции, на Калинина. Да и не вспомнить его было невозможно. Как-то покидая кабинет Лены Дроздовой, я вздрогнула: в редакционном коридоре твердой поступью на меня шел живой … Маяковский. Точь-в-точь как на фотографиях, высоченный, пиджак висит вешалкой, молодой и совсем лысый. Видя мое замешательство, двойник поэта голосом не горлана-главаря, а земным спросил: «Девочка, ты кого-то ищешь?» Взирая снизу вверх, пролепетала: «Уже нашла, спасибо». И еще долго ошалело, зная, что это неприлично, смотрела ему вслед.
А сейчас он лежал в гробу. В красном уголке редакции, в глубочайшей тишине народу набилось до отказа. Вика Маловинская рыдала навзрыд, поправляя и без того аккуратно уложенную гирлянду, рыдали женщины, мужчины украдкой прикладывая платки. А люди шли, шли. Представляете, траурные лица, в абсолютном безмолвии грудные всхлипы, едва сдерживаемые. Такой искренней скорби мне еще не приходилось видеть. Ни любимой жены, ни детей возле гроба усопшего не было. Семьей, домашним очагом для него оставалась редакция, которой Лев Петрович отдавал себя люто, не жалеючи, с радостью. А отдавать ему было что - всеми журналистами признанный писательский талант и доброе, сострадательное сердце. «Универсальные знания», «глыба», «мощный интеллект» - все эти эпитеты, характеристики не только из прощальных, дежурных речей на панихиде. Сколько лет работала в «ТОЗе» и позже, первым в плеяде самых ярких журналистов в истории газеты называлось имя, с прежними характеристиками, Льва Малышева. Но называлось не с трибун на День печати или юбилейных торжеств, а под водочку, в узком кругу старожилов-«тозовцев», кто с ним работал. Время неумолимо и этот круг сузился до малюсенького кружочка.
«Сохраните только память о нас, и мы ничего не потеряем, уйдя из жизни» - гласит мудрость. Такой журналист, как Лев Малышев, хабаровский двойник Маяковского, не только по облику, но и творческому, неукротимому темпераменту не заслуживает столь глухого забвения. И, возможно, о нем еще напишут. Я лишь малый свидетель его последних дней. Даже то, как он уходил из жизни, говорит о недюжинной воли. Уже обреченный, смертельно больной продолжал работать, возглавлял секретариат. Не потому, что газета без него бы не вышла, и дома его никто не ждал. «Мне здесь легче дышать, и, кажется, не так грызет боль» – говорил он, перечитывая и правя ворох рукописей. А когда боль была уже нестерпима, корежила большое тело и таблетки не помогали, звал Маловинскую, просил: «Вика, пойди возьми красненькую». При этом напоминал: «Будете хоронить, не печальтесь у гроба. Смертию смерть поправ. Чтоб негрустная музыка звучала». Но звучала траурная музыка. И редакция не припомнит, чтобы проститься с журналистом пожелал весь цвет интеллигенции Хабаровска. Заслуженные артисты, ученые, в полном составе краевое управление культуры, поэты, писатели,. Среди них редактор журнала «Дальний Восток» Николай Рогаль, композитор Юрий Владимиров, главный режиссер театра драмы Цициновский.
Никого из них я тогда не знала. И каждого, поименно, потихоньку на ухо, когда мы уже стояли близ могилы, на кладбище, называла мой гид Л. Н. Косенко. Она же, позже, давала исчерпанную характеристику «тозовцам», «ху есть ху». Вездесущая и бесхитростная Лидия Николаевна не без гордости говорила о традициях, о том, что когда-то в «Тихоокеанской звезде» были собственные корреспонденты в Америке, Японии, Китае. Одним ухом слушала, одним глазом читала, а сама с тревогой думала: время испытательного срока уходит. Неужели «с мечтой придешь, от мечты погибнешь»? В этом плакате, встречавшем новичков в ленинградской молодежной газете «Смена», где проходила практику, я уже не видела цинизма, а отмечала горькую истину. Но долго засиживаться в библиотеке Куликов не дал и бросил меня в командировку в Чегдомын.
Память – штука ненадежная. Вернуть фрагменты прожитого помогают дневники. Часть их, готовясь к последней черте уничтожила, но, удивительно, все, что связано с «ТОЗом», сохранилось.
«…Осенний вечер чудный. Огни Хабаровска вместе с запахом пожухлых еще теплых листьев уплывают. Вторая полка. Снова в поход. На мне прежняя куртка с капюшоном, фотоаппарат, тот же рюкзак, что и на Колыме. Только здесь, в Чегдомыне кругом асфальт, в палисадниках цветут георгины. Бегают маршрутные такси. Во! Цивилизация! В шахтоуправлении расследовала письмо коммуниста, водителя, критикующего всех и вся. А сам с хитрецой, шахтерский КРАЗ паркует возле дома, бабкам за бутылки возит крадучись уголь, запчастей к машине нет - стоит в ремонте, ждет когда подвезут. Сие – частность, и не интересно для читателя. А вот если противопоставить. Найти хорошего человека, поразмышлять, что движет. Нашла! Рубаха-парень, последнее ближнему и любимой шахте отдаст, творец. Столкнуть их и заголовок пришел: «Им и звезды светят по-разному»
«…Спускалась в шахту. На Кадыкчане, что на Колыме, куда глубже залегание углей. Однако пока доползла до солнышка - тяжелая каска с лампочкой давит на голову, да каждая штанина по 20 кило, чуть дуба не дала. Но я-то налегке, с блокнотиком, а ведь под землей и бабы работают. Адский труд. Непостижимо, но шахтеры любят свое ремесло, не представляют жизни без этих вагонеток, поблескивающих черным лаком кусков угля. Как об этом без дешевого пафоса, не сфальшивив, поведать читателям? Может людей подбадривает звездочка возле каждого шахтерского домика, означающая – ударник, передовик. Удивительно и то, что молодые ребята посещают вечернюю школу, все как один читатели шахтерской библиотеки, патрулируют по вечерам поселок, гоняют пьяниц, обживших как дом родной сквер на центральной площади. Однако по выходным и сами водку пьют как на Колыме – изрядно, зарплата позволяет».
«…Вот уже неделя как в Хабаровске. В газете ни строчки, хотя тружусь как пчела, наверное, бездарная. Испытательный срок на исходе. Неужели отворот-поворот? Какой позор, стыд! Чтобы поддержать себя, вбиваю в мозги постулат Сомэрсэта Моэма, что талант – вопрос количества, прочь малодушие. Зав. отделом промышленности Панченко, к которому временно прикреплена, с недоумением поглядывает на меня. Сделала два варианта «звезд», не решаюсь отдать, недовольна ни тем, ни другим. И я лихорадочно пишу третий. Если я тупая, так мне и надо. Почему Он, Создатель, так несправедливо распределил свои искры? А по радио звучит печальная песня: «Напиши мне, мама, в Египет»
«… За что мне это? Отец устроил скандал: «Спать не даешь. Машинка всю ночь стучит. Свет на кухне до утра горит. Это долго будет продолжаться? У тебя сознания нет, мать больная, не щадишь. Ищи себе квартиру» Куда мне податься. За окном уже первый снег. И я себя спрашиваю – во имя чего, сцепив зубы, ты пытаешься сотворить конфетку. А тут еще и угол для жилья искать надо. И падающий первый снег, жданный, любимый не радует».
« …Ура! Ура! Мир прекрасен! «Звезды» пошли! Отмечен! Даже сухарь Панченко, вернувшись с планерки, нехотя сказал: «Свежо. Найден оригинальный журналистский ход. Поторопитесь с другими материалами. Что у вас на очереди?»
«… «Пятеро под землей» ложились в строки, боюсь сглазить, полегче, без надрыва. И все равно в коротких снах, прямо за столом – штреки, шахты, мгла и перфоратор, с силой вонзившись в угольную скалу, дрожит так, что подземелье сотрясается и нет хода. «Так ведь я могу летать!» Делаю сильный толчок, и легко оказываюсь под чистым голубым небом, где-то внизу слышится гуд перфоратора, но уже не страшно. Я лечу с такой веселой скоростью, что не могу сманеврировать – передо мной почему-то провода от трамвайной линии, где у базара к редакции поворачивает «пятерка» - сейчас попаду в электроток и просыпаюсь. Неудержимо кричит будильник».
«…Снова пофартило, очерк о шахтерах отмечен, но на доску лучших не повесили, - не много ли для новенькой. Панченко подобрел. Временно? Стена отчуждения с редактором рушилась. А в город входит зима пургами, злым ветром».
А тут новое задание на оперативность, умение достоверно расследовать причины срыва плана на Хабаровском заводе керамзитного гравия. В те годы бурно шло строительство панельных «хрущевок». Переход от трехслойных к более экономичным однослойным панелям, которые изготовляются из керамзита, замедлился по причине нехватки этого легкого заполнителя. Единственный в крае завод, ходивший в передовиках, нынче с планом не справлялся. Из крайкома партии позвонили и потребовали незамедлительно разобраться, сообщили, что в цехах уже работает крайкомовская комиссия. Впервые ехала на редакционной машине, как принцесса. Но эта «принцесса» не имела представления, что такое керамзит и с чем его едят. Не доезжая до проходной, попросила остановиться и возвращаться, не ждать. На заводском дворе уже припарковано несколько новых «Волг». Значит, комиссия здесь. Но я не собиралась пополнять ее ряды, а намеревалась незаметно, как бы ненароком побеседовать с рядовыми рабочими. Это удалось. В цехе тарельчатого питания только что побывала большая процессия, возглавляемая директором, он вешал лапшу на уши гостям. Рабочие помалкивали, еще не разошлись, но в них «накипело» невысказанное. А тут нарисовалась я, рупор общественности и мне без заминок показали книгу мастеров, которую от комиссии припрятали подальше. В этой книге все как на ладони – часы, дни, недели и причины простоев. Мастера дружно объясняли технологию изготовления керамзита, расшифровывали непонятные термины – «тарель», «сульфит-спиртовая барда», «футеровка печи», водили по цехам. Я успевала только записывать. Картина прояснилась, – с новым директором здесь поселилась элементарная бесхозяйственность, работа в авральном режиме надоела всем. Чтобы отметиться, знаю, что ничего толкового не скажет, пошла к директору. В его кабинете секретарша убирала недопитые чашки, вазы с фруктами. Хозяин кабинета попытался мне то же мучное изделие на уши вешать - изъяны в проектировке заводских помещений, плохое качество глины. Но ведь даже при таких условиях план выполнялся с лихвой.
Композиционно материал легко лег в свои берега: вступление - что есть керамзит для строителей края; далее - неубедительный рассказ директора о том, что виноват чужой дядя, а в заключении - дневник простоев в популярном изложении (рабочие просили своих имен не называть), опровергающий беспомощные доводы директора.
Через два дня материал был опубликован, и с утра раздался телефонный звонок из крайкома. Трубку взял Панченко. Кто-то на том конце орал, я покрылась пятнами – по мою душу. Где сделала ошибку? Написанный текст, чтобы подстраховаться, предварительно прочитала по телефону мастеру. Панченко положил трубку и воззрившись на меня, стал пытать: «Почему вы игнорировали товарищей из крайкома партии? Не поставили их в известность о результатах своего расследования? –Помолчав, ворчливо продолжил: - Но копнули глубоко. Это вас спасло, иначе пришлось объясняться там!» – И он указал большим пальцем в окно, в сторону Амура, заговорщицки тихо спросив: – Но мне-то вы скажете, как вам удалось узнать больше, чем проверяющим». Я смутилась. С самого начала постыдилась у рабочих спросить, какой он, керамзит. И только покидая завод, в проходной с этим вопросом обратилась к сторожу. «А вон, касатка, смотри, брак валяется». Тьфу ты! Я по керамзиту в цехах ходила. Знал бы о моем невежестве Панченко и эти крайкомовские дяди.
Все годы студенчества в университетских аудиториях шла незатихающая дискуссия, какие знания предпочтительней для журналиста - вширь или вглубь. Изучить досконально какую-то одну сферу человеческой деятельности или по верхам знать все? Сейчас понимаю, что эти споры надуманы. Журналиста забрасывает судьба в отдаленный район, а там и шахты, и сельское хозяйство, и судостроение, и транспорт, и школы. Знания неукротимо набираешь, общаясь с людьми, и чем больше доверительных контактов, тем ближе истина и достоверней твой будущий материал. Способность рассеять потемки первичного незнания, расшифровать сложную ситуацию, сделав ее прозрачной для себя, и есть первый этап работы над темой.
И еще одна деталь. Журналист как личность со всеми его духовными высотами, добродетелями, столичными университетами ничего не значит, являя собой ноль без палочки в новом коллективе, пока не опубликовал свои материалы – этот несгораемый, ценный или уцененный товар и есть твоя визитная карточка в газете. Речь идет не о седовласых членах редколлегии, которые годами могли не выдавать ни строки, почивая на лаврах руководящих должностей, а о нас, литрабах.
Куликов не лепил новенькую, тыкая носом в торопливые, неумелые строчки. Ненавязчиво присматривался, быстро ли поднимается новая штатная единица с уровня районной газеты. Не случайно районку читатели называют «наша сплетница». В маленькой газете, несмотря на то, что «ТАСС выручает нас», вечный голод на строчки, материалы идут в набор не выношенные, написанные на бегу, и журналист профессионально не растет, а как бы замирает на средней стадии творческого развития. Все это я испытала на собственной шкуре и сейчас яростно боролась с казенными фразами, по привычке выскакивающими в оперативных материалах. Федор Георгиевич, если я верно схватывала характер героя, почерк трудового коллектива, был снисходителен, когда меня заносило в психологию поступков, прощал орфографические ошибки (на это есть корректор), мяконько поправлял и не чинил препятствий для публикаций.
Заметное «потепление» редактора к новому литрабу пробудилось, возможно, благодаря «Известиям». В этой центральной газете, редактируемой незадолго до того Аджубеем, появился мой большой материал «Удельный вес золота». Свои впечатления об уникальной Колымской трассе, о витиеватых судьбах золотодобытчиков писала по свежим следам. В «Тихоокеанскую звезду» материал не годился, до журнала «Дальний Восток» еще не доросла и не знала, что с ним делать. Рукопись лежала у меня на столе, когда в отдел зашел собкорр «Известий» по Дальнему Востоку Арнольд Пушкарь. Полистав ее, заметил: «Не возражаешь, попробую пробить в своей газете. Все не доберусь до планеты Колыма. А здесь я ее вижу». Об отданной рукописи уже и забыла. И вдруг на День печати, 5 мая под рубрикой «Из блокнота журналиста» почти на всю полосу, строк пятьсот, мой материал. Читали все. Куликов тоже. Может, и проникся к своему литрабу, давая возможность самовыразиться. Тогда я не догадывалась, что Куликов – мой добрый талисман.
За первые два года, благодаря заботе редактора – только он решал эти вопросы, я сменила три квартиры.
ОТ «ПОДАРКА» ОТКАЗАЛИСЬ
Сначала поселили на Пушкина, в бывший дом священника, где подростком жила и возрастала Вера Мурзина – Побойная (псевдонимы – Павлова, Гудкова, Сизых, Фирсова) с маманей Полиной. Здесь 17-летняя Вера родила сына Сережу Мурзина, и вскоре, после развода с отцом Сережи, привела сюда жениха и хорошего человека Бориса Побойного.
В огромной комнате с печкой и высоченным потолком, вмещавшей в себя все хозуслуги, было где развернуться. Только вот мебели не оказалось. С Ларской под снегом обнаружили дерматиновую спинку от дивана сталинских времен, заменившую тахту. Интерьер комнаты дополнили пять больших и маленьких столов, планируемых на списание в редакции, и шкура отощавшего секача на щелястом полу, привезенная из командировки. Ковер два на три из ватмана над «тахтой» разрисовала Эля Кириченко, художница, изобразив буйную дальневосточную фантазию, продолжавшуюся и на бумажном абажуре, размером с пляжный зонтик.
Летом жизнь здесь была как на курорте. В стекла высоких окон бились упругие ветки ивы, а за ними лежала притихшая, почти как деревенская улица Пушкина. На огонек забегали друзья, журналисты, литераторы Виктор Соломатов, Арнольд Пушкарь, Валя Бавин, с гонорара – Лариса Ларская с сопровождающими ее лицами, реже неизменная парочка - Гриша Ходжер с Мишей Беловым. Пили чай, вино, читали стихи, главы из неопубликованного. Вопреки скукоте одиноких вечеров здесь бился радостный, молодежный фейерверк идей, миражей, фантазий.
Включается проектор памяти и на невидимом полотне возникает маленькая смешная история. Как-то в воскресный день собралась элита во главе с Виктором Соломатовым. Все вино выпили, насмеялись, а расходиться не хотелось, было весело. Вдруг Витя Соломатов вспоминает, что у Нади Кореневой, преподавателя философии политеха день рождения, и он приглашен. «Подарка у меня нет, – объявил Виктор. - Подарком будете вы!». И мы, человек семь, с хохмами поперлись на Карла Маркса. На лестничной площадке мы попрятались кто куда. Дверь открыла нарядная улыбающаяся хозяйка. При словах Виктора: «Надюша, поздравляю! А вот мой подарок!» - мы, как братья-черноморы, один за другим стали вступать в прихожую и в зал, где за празднично накрытым столом с обилием заморских бутылок и закусок уже сидели Эдик Корчмарев с Раей, какие-то гости. У изумленной именинницы челюсть отвисла, когда она увидела «подарок» в полном составе. В недоумении замерли сидящие за праздничным столом гости, где нам, явно, места не будут предложены. Тикали в тишине минуты, мы переминались, смущенные, с ноги на ногу, хозяйка стояла как вкопанная. Хмель с Виктора слетел. Наконец, он подал голос: «Что ж, от подарка моего отказываются, а без подарка гостем быть не могу». Спускаясь по лестнице, трезвая, как стекло, Ларская ругала нас: «Шуты гороховые. Хозяйку в глупое положение поставили». А Виктор был всерьез огорчен, не беря греха на душу, оправдывался: «Культура – тонкий пласт, ее может первый дождичек смыть. У людей не хватило юмора». Но мы долго печалиться не стали, собрав последние рубли, заглянули в гастроном за «сухарем», чтобы вместе почитать «Облака в океане» Хемингуэя, добытые Виктором.
Но пришла зима и беспрепятственно проникла в эту комнату, сдув начисто друзей и меня саму. Три тонны угля, завезенные редакцией, печка сожрала за два месяца. Последнюю порцию приберегла к Новому году. А потом хоть с утра до вечера вой: «Ой, мороз, мороз». К утру вода в умывальнике замерзала, сбор по выходным на ближайших стройках щепок, досок стужу не изгонял. Начались сбои со сдачей срочных материалов в номер - писать и печатать на машинке в перчатках не научилась. И тогда мне дали однокомнатную квартиру на Кубяка, в новом доме. Здесь уж ко мне на огонек кроме Веры Побойной и Лидочки Косенко никто не заглядывал. Хабаровская богема тусовалась в центральных кварталах города, да и не до тусовок тогда было, многое изменилось в личной жизни. И взор с лоджии на Амур привольный радовал бы по сей день. Но вызвал в кабинет Куликов и, подавая готовый ордер, в приказном тоне заявил: «Будешь жить в квартире Карпычева, собирай вещички». На мое неактивное сопротивление добавил: «Потом спасибо скажешь».
Оказывается, подчитчику Анне Долговой, проработавшей четверть века в редакции, и столько же лет стоявшей в очереди на жилплощадь, крайком партии отказал в ордере на квартиру, где жил наш сотрудник Толя Карпычев. Такие дурацкие законы процветали: нетворческим работникам в крайкомовских домах проживать не позволялось. И нас с Анной поменяли.
Впрочем, и про три квартиры мне припомнили, когда я вылетала (по доброй воле) из редакции. Однако, пока газету редактировал Куликов, беды не знала. Он гонял меня в командировки, где Макар телят не пас, как сидорову козу, в поисках интересных людей. Белоглинка, Кольчём, Хаканджа, Софийск. Да и нет, пожалуй, места на карте Хабаровского края, где бы я не побывала с журналистским блокнотом.
КОЛЫМСКИЕ УРОКИ - СТРАШИЛКИ
По сравнению с Колымой работать в командировках журналисту здесь, в Приамурье во много крат безопасней. Там как? От прииска до прииска километров сто, через сопки, перевалы, тундру с неизменными мишками. Общественного транспорта - с гулькин нос. Например, на недоступный участок Джелгала, где последний до меня журналист был по заданию Берии, добиралась на лошадях, через стремительные речки. На одной из них, Джелгалинке, за неделю до моего перехода, утонул старатель с мешочком на килограммов пять золота - в уши лошади попала вода и взбесившееся животное сбросило седока, золотишко и потянуло на дно. Моя лошадь Малютка пересекла бурную Джелгалинку с величавостью новенького катера. А основной вид транспорта – попутки. Водители, за редчайшим исключением - бывшие зэки. Кто знает, политический или махровый уголовник? После реабилитации или отсидки им возвращаться некуда и для многих малой родиной остается Колыма. Поднимаемся на перевал, одно колесо над пропастью и на сто верст – ни души. И я придумала тактический ход. Прежде чем сесть в кабинку, фотографировала водителя «на память», чтоб вез без глупостей – не убил, не вышвырнул на перевале. Ход, конечно, беспомощный. Рецидивист свое грязное дело сделает и фотоаппарат уничтожит. Но психологически чувствовала себя бодрей в кабинке, поглядывая на пропитое, обросшее лицо шофера. К счастью, мне встречались хорошие люди.
Самобытность колымской жизни неповторима. И я ни на минуту не пожалела, что избрала эту удивительную землю для работы после учебы в Ленинграде, хотя желающих добровольно ехать сюда, кроме нас, двух дурочек, не было. На предварительном распределении мы с подругой Элькой Богдан, безответно влюбленной в негра, так и написали: как можно дальше, глуше, - чертовы романтики. На нас приходили с других факультетов смотреть как на придурков. Можно понять эстета и питерского пижона Валерия Николаева, вдохновленного девчоночьей отвагой – за ним оставалась в силе ленинградская прописка и сохранялась квартира на Мойке.
Защитив диплом, в ожидании окончательного распределения, я уехала на недельку к сестре в Волгоград. Возвращаюсь, и что же? В общаге, на вахте встречает Валерка, потерянный, чуть ли не со слезами, и выпаливает: «Слушай, есть две новости. Одна хорошая. Другая – мрак. С какой начать? С хорошей? Твоя Элька выскочила замуж за негра. Едет в Африку. А мне пришел вызов из редакции «За честный труд». Что за идиотская газета?» Никакая не идиотская. А газета бывшего Гулага, редакция в Магадане, а моя межрайонка – на Колымской трассе. Так меня одурачила ближайшая подруга. И когда я получала от нее письма: «Лежу под пальмами, южное бескрайнее солнце, рядом плещется Великий океан», не завидовала. Может, совсем чуточку. Всем хороша была журналистская работа на загадочной планете Колыма, вот только категорически запрещалось упоминать в печати о «путевках Берии», приведших моих героев – бульдозеристов, маркшейдеров, скреперистов, драгеров на эту суровую землю.
В конце 60-х на Колыме вся власть принадлежала ни обкому, ни райкомам партии, а Главдальстрою и директорам приисков, дающих золотой план. Они были полновластными хозяевами валютного цеха страны. Редактор «Горняка севера», подчистую реабилитированный политический заключенный Кравцов, получил редакторскую должность не только по профессиональным качествам (работал в московской газете, где ему и вручили страшную «путевку»), а весьма своеобразным способом. И этого не скрывал. В Сусуманский район из Главдальстроя прибыла по своим делам комиссия. Претенденту на редакторское место было предложено изыскать для гостей ящик пива. В условиях Колымы это как пучок звезд с неба достать. А здесь иной подтекст – насколько коммуникабелен редактор, знает ли подноготную своего района. Мой редактор был осведомлен, кинулся в ноги к предприимчивому человечку, прятавшему «пучок звезд» в подсобном помещении столовки.
Да и с ночевкой в колымских, командировочных условиях – сплошной анекдот, а подчас и ужастик. Гостиниц, понятно, нет. Как-то на прииске «Пятилетка», известном на весь район своим клубом, построенным в сталинские годы по типу Большого Академического театра в миниатюре, поселили у одинокой, бедовой дамочки. Весь вечер к ней ныряли хахали и я как в студенчестве должна была на это время «погулять». Когда терпение мое иссякло, хозяйка сжалилась, прием закончила и расстелила свою пышную постель, приказав: «Ложись к стенке». А сама стала переодеваться в ночную рубашку. Я оторопела – все ее тощее тело, от плеч до пяток исколото игривыми и трагическими надписями, рисунками. Что зэкашницы ходят с татуировками, не было новостью, насмотрелась в райцентровской бане. Но спать в одной постели… Физически это было выше моих сил. Ночь я провела в клубной библиотеке, на подшивках газет, под аккомпанемент жующих книги и основы этого здания-монстра крыс.
Надолго запомнилась ночевка на прииске Бурхала, куда мы приехали с журналисткой Эммой Савиных готовить материал для целевого номера. Директор поселил нас в управлении, в своем помпезном кабинете. Дежурная принесла постельное белье, заварила чай. Но что-то мне было неуютно и неприятно. Захватив белье, пошли в пустующий детский сад. Хотя пришлось спать, согнувшись на маленьких кроватках, зато проверенное место ночевки. А по утру, подходя к управлению, увидели массу машин. В чем дело, юбилей нескоро. Оказывается, ночью в управление ворвался давний, тихий житель, отбывавший здесь срок по Нюрнбергскому процессу. Напился, озверел, вспомнив молодость, убил сторожа и ту самую дежурную, приносившую нам постельное белье. Залег в директорском кабинете, там его, спящего, и взяли. В ту ночь он прикончил заранее отточенной финкой пятерых, в том числе собутыльника и сожительницу. Потрясение было столь сильным, что вернувшись в Ягодное, не заходя в гостиницу, где мы временно обитали, Эмка, в общем-то, умеренно пьющая, ринулась в гастроном, купила бутылку коньяка. В который раз бурно обсуждая пережитое, что было бы с нами, останься на ночлег в кабинете директора, мы в своем номере хладнокровно распили коньяк, будто воду, не почувствовав ни единого градуса. Это меня напугало.
Иное дело командировки в Хабаровском крае. Здесь ты не иголка в стоге сена. Райком партии в курсе твоего маршрута. Поселят у достойных людей, не откажут в моторной лодке, если глубинное село заинтересовало. Сопровождающего дадут в случае дальнего пешего пути. Вот это и есть авторитет газеты. И я столько раз отправлялась в путь с Хабаровского речного вокзала, что берега Амура, маячившие за бортом теплоходов, изучила надежнее навигатора, хоть звание присваивай – почетный речник. А с дебаркадеров в глубинку, опять же на попутках, мотовозах, «Аннушках», санях, пешкодралом. Вот только Шантары остались в задумках. Обошел и объехал их Валентин Бавин, написав серию очерков «Голубая планета». Такую роскошь мог позволить себе пишущий член редколлегии, как Бавин, человек без суеты, интриг, взыскательный к другим и особенно к себе.
ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА БАВИНА
Большой, нескладный, с эйнштейновской гривой светлых волос, он отвоевал себе право печататься хоть и редко, но широко и ярко. Редко, быть может, потому, что приняв от М. М. Фрадкина секретариат, держал на плечах много лет выпуск газеты. К нему из девяти отделов поступал весь шквал газетных рукописей – передовые, информации, очерки, фельетоны. Всю эту, пока рукописную, продукцию он вычитывал, давал жизнь или возвращал авторам, дабы оградить редактора и газету от макулатуры. В оценках был осторожен, немногословен. По работоспособности не уступал своему учителю Фрадкину, и даже пошел дальше. Печатался, был молод, честолюбив и полон творческих сил. До сих пор помню его по 80-100 строк прелестные эссе: «Чайка», «Озеро счастья». Вроде бы ни о чем. Летящая беспокойная птица близ Утеса, то вдруг неподвижно замирала обессиленная, то, взмывая в голубизну неба, уподоблялась силой авторского слова метерлинковской синей птице. Или резко очерченное бликами поздней осени кривоватое дерево над Утесом с последним трепещущим теплым листом. Подобные зарисовки вроде бы ни о чем были полны несказанной поэзии, авторской инстинктивной догадки о непостижимости и гармоничности мира.
Нечто подобное, безотносительно к Бавину, играючи, пробовали писать и мы. Когда рабочий день заканчивался, собравшись в кабинете у Веры Побойной в ожидании очередного собрания или торжества, соревновались в импровизации. Задание: на подоконнике расцвел красный цветок пеларгонии, в окно бьет снег, форточка полуоткрыта, за ней – мрак, пурга. Коля Рябов, я и Вера брали чистые листы и ручки. Включив фантазию, витая в небесах и отключенные от окружающего, писали. Потом каждый из нас читал. По стилистике, второму «дну», подтексту получались маленькие шедевры, но кто бы вздумал отдать в печать словесные натюрморты.
В партийной газете подобные фортели не допускались. Однако Куликов сам в душе поэт, многое позволял Бавину. Есть основания предполагать, что Валентин как журналист расцвел при Федоре Георгиевиче. Ведь была маленькая драма в его творческой жизни.
Выпускник МГУ, он возжелал ощутить романтику, запах леса и тайги, как и мы, начитавшись Аксенова «Апельсины из Марокко». Распределился в незнакомую, но с необычным названием газету «Тихоокеанская звезда». Ведь в городах и весях СССР были гольные «…правды» - пермская, магаданская, калужская. Приехав в Хабаровск при параде чувств, он, однако не пришелся ко двору. Его материалы сокращали, возвращали. Валентин не любил на эту тему распространяться в наших разговорах. Отработав добросовестно три года, – представляю чувства молодого человека с наполеоновскими замыслами, ощущающего свою невостребованность, – Валя решительно написал заявление об уходе. Свою комнатку на Карла Маркса, где набивался творческий люд, ставшую, по словам его студенческих друзей, филиалом общежития МГУ, он передал Вике Маловинской. И поезд увез его в Казань. Видимо, у Валентина было достаточно времени, чтобы сделать переоценку ценностей. Хабаровск зацепил его за живое, и новый редактор Куликов пригласил гордого журналиста в редакцию. Вот тогда начался взлет Бавина, ставшего в газете вторым человеком после редактора.
Меня поражала его многостаночность. Наряду с очерками, насыщенными поэтичностью, лиризмом, он мог, как орешки щелкать (или так казалось) – писать передовые с обилием штампов: «советский период – это самое дорогое в нашей истории», «обязанность каждого коммуниста – овладевать великой теорией марксизма-ленинизма, вырабатывать в себе большевистскую закалку и идейность». Как в нем могло это совмещаться? Подобных вопросов я ему не задавала, понимая, что только у универсала, умело поющего гимны развитому социализму и пристально всматривающегося в росинку на молодом цветке, может быть журналистское будущее.
Валентин знал нечто такое, о чем мы, журналисты из младшего эшелона, небитые, взращенные на оттепели, не догадывались. И что его, очевидно, мучило. Он не был человеком решенных вопросов, а душевные силы его уравновешивал другой дар – обостренное чувство долга, не позволяющее углубляться в собственные сомнения. К новому ответственному секретарю относились с почтением, и не только потому, что от него зависело, попадет наш «шедевр», могущий оказаться мутью голубой, в корзину или пред очи «отца Федора». В Бавина были немного влюблены все одинокие «тозовки», втайне проча его себе в мужья. А почему бы нет? Единственный в редакции достойный холостяк. Конечно, не Ален Делон, но уж Пьер Безухов – точно. Самостоятельный, не пустозвон, за бабьими юбками не бегает, в совместной жизни непременно будет надежным, верным другом. Этой участи – тихих, бесплодных мечтаний, не избежала и я. Привлекал его спокойный нрав, трезвость, (ненавидела пьющих до соплей мужиков), а главное то, что рядом был бы творческий человек. Представляла, что у каждого из нас будет рабочий стол, мы будем читать друг другу написанное, спорить, помогать, поддерживать друг друга. Но Валентин Васильевич относился ко всем «тозовским» дамам благожелательно и ровно, никого не отмечая. За исключением Л. Н. Косенко, с ней он отводил душу. Хотя у Лидии Николаевны сыновья – в возрасте Валентина, они понимали друг друга с полуслова. И тем не менее, не согретый женской заботой, ласковыми, теплыми руками, погруженный в ворох рукописей, он годами оставался один на один с самим собой, без намеков на возможный марш Мендельсона. Пока не встретил ту единственную, любимую, которую так долго ждал – Светлану Березовскую. Но это свершилось много позже. А пока, возглавляя штаб редакции, вершил судьбу журналистов второго эшелона. И если материал подписан Бавиным к печати, ты готов любить весь мир.
«МЕРТВЫЕ» ТОЧКИ – ОТ КАТКОВА
Но подобные удачи были не часты. Причин тому немало. Упреки Панченко, что я не вся выкладываюсь на газету, считала не справедливыми. Очерковые материалы писала медленно, и только дома, ибо рабочий день был закручен до предела оперативками. На первых же порах мне «подложил свинью» мой любимый, бывший тренер Алеша Катков. Организовав при газете спортивный клуб, он попросил меня быть чем-то вроде секретаря. Алексей Пантелеймонович – личность в спортивном Хабаровске легендарная, энтузиаст, новатор. Сам классный гимнаст, он тренировал хабаровских гребцов. От желающих отбою не было. Еще бы! Узенькая шлюпка, одиночка или двухпарка, фигурные весла и вперед по амурским волнам – мечта любого пацана. Нас со школы в секцию народной гребли пришли три девчонки, в том числе Эмма Иванова, отличница по математике, скромная, тихая – будущая жена Каткова. Но тогда ни о чем подобном и мыслей не было. Строжайшая дисциплина, тренировки на износ, с рук не сходили мозоли от весел, и такие бицепсы на девичьих руках, что кавалеры шарахались. Во всяком случае, мы могли постоять за себя. Алеша Катков был нашим кумиром. Трековый спорт, которым я тоже занималась, оказался вторичным, хотя требовал немалых силенок. Да к тому же на летних каникулах я еще и работала, нужно было купить новую школьную форму и «румынки» на осень. И как на все хватало жизнерадостной энергии, сил, смеха. С утра - на стройку, где у ГУПРА возводилось здание нынешнего фармацевтического факультета мединститута. Олифила железную кровлю, от палящего солнца кисть шипела. «Рабочий класс» во главе с бабой Галей, отсидевшей восемь лет на зоне, взял надо мной шефство, чтоб не рухнула с карниза. Потом нас перебросили на жилое здание по Фрунзе, будущий крайисполкомовский дом. Цементировали ванны. 15 ведер цемента, шлака, извести, в соответствующих пропорциях, энергично размешивались водой в огромном баке, и по два ведра этой тяжеленной массы приходилось таскать на пятый этаж, кран почему-то не работал. Баба Галя, видя, как я упираюсь, взбираясь с непосильной ношей по лестнице без перил, заваленной комьями штукатурки, причитала: «Не родишь ты, девка, не родишь», - и мастерски материлась. Когда начальство отсутствовало, баба Галя, ничуть не заботясь о качестве, вместо цемента внаглую насыпала шлак, да еще заставляла стоять «на васаре». А я, комсомолка, не могла ослушаться бригадирши. Сейчас в этом доме живет моя подруга Тамара Дошкаева, сестра Валерия Шульжика. Она 77 раз делала ремонт в ванной комнате, бесполезно, там все сыпется и крошится. Такие «бабы Гали» строили пол-Хабаровска, можно представить масштабы разрушительной силы, заложенной в сооружения. Но тогда об этом остро не думалось. Навкалывавшись до упада, я, как малолетка, работала до обеда, не возлегала дома в тенечке, а садилась на трековый велик - с командой велосипедистов брали курс на Корфовскую. Нешуточные подъемы, стремительные спуски, туда и обратно в город, прямой наводкой - на берег. Как с корабля на бал, с велосипеда на банку шлюпки - и до моста, что через Амур, в энергичном темпе - 33 гребка в минуту. Катков стоит с секундомером на берегу, засекает время. Мы не стали звездами спорта, хотя работали по классу мастеров. И когда в Ленинграде встречала друзей-хабаровчан, те были почему-то уверены, что учусь в Лесгафта, спортивном институте.
По дерзкой инициативе Каткова в Хабаровске впервые появились байдарки и каноэ. Алеша дал фору скептикам, утверждавшим, что эти хрупкие, нежные суденышки не приживутся на волнах беспокойного Амура. Много лет они бороздили воды нашей реки.
Я благодарна судьбе, давшей в юности спорт. Он научил преодолевать осязаемую мертвую точку: это когда уже абсолютно сил нет, находить их. А еще в секции гребли я познала близкое, жуткое дыхание небытия. Это случилось перед краевыми соревнованиями. Катков гонял нас на тренировках до полуобморочного состояния. Отрабатывали короткие дистанции: от городского пляжа до дамбы горводоканала и обратно, с каждым заходом убыстряя темп, сокращая секунды.
На одной из тренировок, на нашу двухпарку с Розой, студенткой физвоса пединститута, перспективной спортсменкой, опытного рулевого не нашлось. Желающих же прокатиться на халяву, когда девчонки упираются на веслах, было предостаточно. А среди них – длинный, тщедушный пацан, буратинисто-любознательный Эдик Корчмарев. Удостоившись радостной чести быть рулевым, напевая легкомысленно «Нет, не люблю я вас. Но и любить не стану», он проявил о нас единственную заботу, – спрятал под майку наши наручные часы, мешавшие при гребле. И по отмашке Каткова мы взяли бурный старт. Против течения «рисуя берег» - это должен уметь рулевой, ринулись к городской дамбе, а обратно, - почти по середине Амура, где течение мощнее – к финишу. Это на одиночке гребец на банке весь извертится – что там, за спиной. А здесь рулевой. Но наш Эдик с неотвязным романсом «Нет, не люблю я вас», чуть ли не привстав, будто он не в семейных сатиновых трусах по колено, а в белом капитанском кителе, победно озирал приближающийся многолюдный пляж. Скорость у нас была приличная. Чувствуя близость финиша, призвала: «Роза, поддай!». И тут я оглянулась и обмерла – на нас быстро, с напором шел пароход, бросилось в глаза близкое – руку протяни - огромное колесо, грозно шлепающее лопастями. Ни притабанить, ни проскочить его мы, онемевшие, парализованные, уже не успевали - столкновение неизбежно, и тогда раздавит. Не размышляя, прыгнули в воду, кто куда. Но вынырнуть не удавалось, надо мной - вся махина судна. Глотая воду, задыхаясь, спиной ощущала холодные, скользкие выступы, очевидно, машинного отделения. Двигаясь, как по лабиринту, пыталась вырваться к свободной воде, и каменела при мысли, что попаду под колесо. Воздуха не хватало, глаза вылезали из орбит, сознание затуманилось, чувствуя приближение конца, – Господи, как бездарно умираю, почему-то в голову пришла мамина молитва «Отче наш». Не помнила, как оказалась на поверхности, головой ударилась о железный борт судна. Слабо отметила, с другой его стороны появились две головы Розы и Эдика. С палубы бросали круги, на шлюпках к нам с берега мчались гребцы, – весь флот Каткова был поднят на ноги, а впереди - сам тренер. Толпа загорающих наблюдала за происходящим. Ухватившись за чью-то шлюпку, я истерически рыдала. То же самое происходило на берегу, уже в солярии с Розой – послешоковая реакция. То, что Эдик утопил часы, было мелочью. На тренировках Роза больше не появлялась. Эдика Катков разжаловал.
Хабаровск тогда был городом не великим. Через два дня, когда я собиралась на тренировку, одну, с испуга, я все-таки пропустила, мама кипятила на печке белье и, смахивая со лба пот, говорила: «Ты слышала, бабы судачили, на Амуре пароход раздавил лодку с девчонками. Будь поаккуратней». Я промолчала.
И вот спустя много лет мы с Алешей встретились в редакции, и он предложил поучаствовать в работе клуба. Я должна была присутствовать на его заседаниях. А главное - редактировать заметки и быстро продвигать их в печать. Спортивные босы, кроме Каткова, писали так, что все приходилось переписывать заново, в терминологии незнакомых видов спорта была дурак дураком. И первая подборка оказалась как первый блин, комом. Да еще в присыпочку. В поисках синонимов бесконечных в текстах «нокаут», «ринг» внесла «боксировались», «подиум», «лежал недвижимый». В секретариате, положившемся на эрудитов, членов клуба, без правки пропустили в печать. А потом вся подборка пошла на редакционную доску в «Тяп-ляп», позорящую журналиста. Сверкнула сразу на двух досках: «Лучшие» и «Тяп-ляп». После случившегося, с Катковым мы лишь раскланивались, он долго не мог простить мне «ляпа». Но и без спорта оперативки поглощали весь день.
«ЖЕЛЕЗОБЕТОН» – ВНЕ КОНКУРСА
В то время основная задача газетчиков – подготовка к печати материалов рабкорров. Под сенью ленинского термина истинных рабочих и крестьянских корреспондентов было раз, два и обчелся. В основном партийные функционеры. Их железобетонные отчеты о результатах очистительной бури Великого Октября (нынче переворота), партслужении без сна и отдыха на генеральном направлении, указанном очередным пленумом, съездом, были безлики, скучны. Высказывания, цитаты, казенный набор марксистско-ленинских фраз, призывы перетекали, не разнообразясь, от съезда к съезду. Как и передовые статьи, их, вряд ли, кроме крайкомовских работников и нештатных пропагандистов, кто-то читал. Однако без передовой статьи выпуск газеты был недопустим. Тематику планировали на месяц. Для многих передовая - самый легкий журналистский хлеб, этот жанр оплачивался по повышенной таксе. Как правило, для передовицы брались по телефону два-три факта, положительных или отрицательных, из жизни, например, системы профтехобразования, и насыщались идейно выраженной галиматьей. Менялась тематика передовицы, а словесная броня из лозунгов оставалась той же. Передовицы писать я не умела. Можно, конечно, общие фразы «позаимствовать», а точнее украсть из партброшюр, что напропалую и делали коллеги. В этом не было ничего зазорного – от перемены мест в изданиях впечатление остается неизменным. И потому сочувствовала молодому журналисту и коммунисту со стажем Саше Сутурину, получившему выговор за плагиат – списал часть передовой статьи «Член партийного комитета» из журнала «Партийная жизнь». Когда мы в нашем кругу обсуждали случившееся, стали известны детали. На редколлегии Саша мужественно признался: «Факт налицо. Готов нести наказание». Редактор, которому донесли из крайкома партии о плагиате, кипятился: «Ладно бы пару фраз списал, так он размахнулся, из свежего номера столичного журнала полстатьи содрал слово в слово». После этой разборки авторы передовиц поутихли с заимствованием, но не надолго.
Вне конкурса шел «железобетон» из ТАССа, уполномоченного указывать всем большим и малым газетам страны, где, на каких страницах надлежит поместить один и тот же проверенный, утвержденный текст, скажем, выступление генсека. Ему вторили местные, хабаровские партийные боссы. Об эксклюзиве и речи быть не могло.
Если над очерковым заголовком мы ломали голову и перья, более того, удачные заголовки стимулировались особо, путем выдачи премии в сумме пяти рублей, что утверждалось редколлегией, и здесь уж в передовиках ходил Гена Личко, не раз одаривавший авторов статей оригинальными находками, типа «Комфорт…наоборот», - то пропагандистским материалам придавались столь же тяжеловесные заголовки. «Борьба КПСС за единство своих рядов», «Прислужники антикоммунизма», «Вымыслы буржуазных пропагандистов и расцвет коммунистических идей» - они отвращали взор взыскательного читателя, зато были усладой для крайкомовских работников. Править, сокращать «простыни» агитпроизведений не рекомендовалось. Попыткам соблюсти элементарные законы литературного языка препятствовали капризы авторов – партбоссов, отказывающихся подписывать свою статью. А чаще тому же Саше Сутурину давалось задание: «Поезжай в крайком партии, к Николаеву. Он поможет тебе написать статью». То есть даст указание написать так, как написал бы сам, если бы умел. Изложить на бумаге «указания» партчиновника такого ранга, это как бы сесть в его кресло, войти в образ, для этого внутри нужно иметь настоящее искусство. А потом, когда статья написана, журналисты подобострастно высиживали в «предбанниках» крайкомовских кабинетов в ожидании желанной закорючки, подписи «автора», между тем, выпуск газеты задерживался.
А чего стоила организация откликов, дабы выразить в газете всенародные чувства на какое-то событие в стране. Единодушно одобряем (протестуем, осуждаем, клеймим. гордимся). Взлетел новый космический корабль, и народ на страницах газеты рукоплещет. Читатели и впрямь искренне радовались. Но читательские письма придут позже, а отклики нужны срочно, в номер. И откликаются журналисты под чужими именами, предварительно созвонившись с псевдоавторами. Пишется «за того парня» легко, искренне, мы тоже рады новому космическому подвигу. Иное дело, предсъездовская трудовая вахта. Набившие руку на откликах многостаночники-журналисты особо не утомляли себя поисками истинных героев, а монтировали «отголоски» по принципу «Два абзаца из свинарки, два абзаца из доярки – вот вам к празднику подарки». А еще сложнее, когда готовится полоса откликов на резолюцию Директив по очередной пятилетке и, в частности, на доклад Генсека под общей «шапкой» «Идеям великого Ленина побеждать в веках». Обзваниваешь парткомы трудовых коллективов: «Одобряете? Давайте фамилию фрезеровщика. Предупредите, что от его имени будет заметка. Сообщите адрес для гонорара. Спасибо». Особенно доставалось герою соцтруда Петру Панасенко, он был безотказен. В каждой бочке, пардон, затычка. По существу отличный мужик, многократно выручал нашего брата, а из него плакат сделали. Но в целом, недостатка в именах передовиков для откликов не было.
Но не столько рабочему человеку, сколько чиновникам хотелось маленько славы, победных реляций на весь край о своей неутомимой деятельности. Графоманы от журналистики, потрясая званиями, грозя пожаловаться в парторганы, стаями и по одиночке прорывались в редакторский кабинет, и давили на «шефа». Их невнятные труды приходилось переписывать заново, внося свежее слово, мысль, логику и приглашать авторов для согласования. Такие, как правило, капризов не выказывали, покидали кабинет гордые «своим» литературным творением и возможностью увидеть свое имя в газете.
ВНЕШТАТНИКИ
Хорошо пишущих внештатников было негусто. А такие, как Л.В.Мамаева, Д.Э.Бауман – находка для журналиста. Расставь запятые, убери острые углы (внутри нас неистребимо жил цензор), придумай привлекательный заголовок, и материал готов на полосу. Даже то, что Лидия Васильевна, находившая острые темы из школьной жизни, писала мелкими буковками, не ручкой, а карандашом, не умаляло достоинств. Сначала Мамаева была автором, принадлежащим только Вере Побойной. А позже, когда Вера пошла на повышение и возглавила отдел пропаганды, учительница приносила карандашные наброски мне. Ее приход в отдел школ, как солнце, ибо и человеком она была замечательным, с печально одинокой, но неунывающей старостью.
На дистанции с журналистами держался Д.Э.Бауман, стремительно входил, оставлял материал, исчезал. Меня, свою ученицу, решительно не хотел узнавать. Учитель зоологии Дмитрий Эдуардович нас, шестиклассников называл не иначе, как «парнокопытные», чем приводил класс в радостное возбуждение. Будучи автором газеты,в моих воспоминаниях не нуждался, полгорода школьников – бывшие ученики Баумана. Другое дело, Гринберг, в то время самый высокий начальник охраны общественного порядка в крае. Он как-то принес Вере Побойной материал и как только полковник милиции с благородной сединой, уже не похожий на Столярова, переступил порог кабинета, я сразу узнала в нем бывшего начальника пикета милиции, «застукавшего» меня, школьницу, исследующую доморощенными методами причины падения Тоськи. О чем не преминула ему напомнить. Всмотревшись в меня, полковнику изменила солидность: «Это вы? Люди дна! Вот это здорово! Вера Павловна, вы представляете, эта девчонка была задержана с бродягами». Но Вера уже углубилась в правку принесенной статьи. А я пошла провожать Гринберга, вспоминая детали той далекой весны безоблачной юности, когда во всем ищешь удивительное.
Однако напомнить Бауману о «парнокопытных» и о том, как мы его обожали, не решалась. Дмитрий Эдуардович был автором бесценным. Человек энциклопедических знаний, он, имеющий лишь среднее образование, поражал эрудицией, остротой, емкостью мысли, глубиной познания предмета, о котором писал, о генетике ли, о школьном симфоническом оркестре, или о природе жестокости в маленьком человеке.
По сей день считаю, что отдел школ, науки и культуры – один из интереснейших в редакции. Бездонны темы учительства, артистической, писательской жизни, научных открытий. У работающего в этом отделе создавалось впечатление, что каждый, чуть ли не пятый житель края пробует себя в поэзии. И свои перлы шлет в газету. Судя по редакционной почте, то была эпоха письма. Их приносили учетчики из отдела писем целые кипы. Моя задача – не проморгать по яркой строчке, интересному образу истинный талант, толково, нестандартно ответить автору. В основном же поступали стихи типа: «Только состав бегит за составом, шалые ветры гудут».
Огромная поэтическая почта обрушилась на редакцию в год столетия Ленина. Чего только не было в ней! «Ульянов Владимер Ильич! Непомеркнет его клыч. Партия Ленина народов ядро. В растяжку знамена, в ведро». «Солнечная погода» -поясняет автор. Или сравнивает вождя с лесом: «Стоит стеной народу гений. Твердыней сплава! Но пушист». Неведомый автор оказался провидцем, предугадав, что в конце века в молодежном сленге типа, «стремно», «уматно», вспыхнувшем подобно пожару в прериях, появится слово «пушистый». Что оно означает? Одним словом не объяснишь. Поясняет анекдот: «Спрашивают: «Лягушка, почему ты такая зеленая, скользкая, страшная?» На что та отвечает с вызовом: «Да я сейчас болею. А вообще-то я белая и пушистая». Так что «народный гений», по словам автора, был «пушистый».
Особенно «достал» меня стихоплет - маньяк, направлявший в редакцию на мое имя одну за другой целые тетрадки. Поэмы сленга, степа и абсурда, годящиеся для популярной тогда в «Крокодиле» рубрики «Нарочно не придумаешь». К примеру:
«В.И.Ленину сто»
Горит звезда полночная.
Луна как тыква мощная
Ветер листьми шелестя
Словесность в рифму не хотя
Ложится грубо по началу
Как лодка тянет до причала
Ох ! нет! Лишь с виду это так
На дели, Сукин не простак
На всех узлах уксус и соду
Всем телом я болтаю воду
Даю мозгам большую взбучку,
Чтоб, получить для вас шипучку.
В сноске автор поясняет, что сукин сын не кто иной, как Есенин. Но причем здесь Ленин? Возможно, увеличивается шанс для публикации?
С утра до вечера в кабинете теснились авторы, признанные, а в основном непризнанные поэты и прозаики. А среди них один был особенно неутомим, назовем его Лев Краевский. Он приносил пачки бездарных повестей, каждая объемом на пять номеров «ТОЗа». Когда успевал их пластать, непостижимо. Но цепко утвердившееся за ним как в издательстве, так и у нас кличка графоман Льва отнюдь не обижала. Знал вода камень точит. И что же, прошло четверть века, и по радио слышу: «Член российского союза писателей Лев Краевский». До 70 лет он неуклонно шел к этой цели и таки добился.
С колес на полосу «Литература и искусство» шли стихи Сергея Тельканова, Миши Асламова, Коли Кабушкина. Потихоньку переписывая в свой блокнот блистательные стихи Виктора Еращенко, на ум невольно приходила чья-то крылатая фраза о том, что и вправду огурцы и гении растут в провинции. Еращенко не печатали. Виктор был умница, и объяснять, стыдя себя, почему это происходит, ему не нужно было. Негласно, где-то в верхах существовал список хабаровских поэтов, кого «пущать» на страницы партгазеты не рекомендовалось. Могу биться об заклад, если бы его книга «Избранное», появившаяся в печати в 90-х годах благодаря его другу и хорошему человеку Валерию Симакову, была напечатана при жизни Виктора, она бы такие силы вдохнула в него, что преждевременная смерть отступила бы. Но сколько же муки вместилось в поэтическом сердце, если оно пело своим неповторимым, чистым голосом и было услышано лишь на хабаровских кухнях под водочку. Делая вид, что ни о каком списке не догадываюсь, методично сдавала его подборки в секретариат, которые с той же методичностью возвращались. Лишь однажды короткое стихотворение из двух строф все-таки проскочило на полосу, на недолго подбодрив поэта.
Из Амурска со стихами приезжала красивая девушка с потрясающей судьбой – Лада Магистрова, рекомендуясь «журналистка-комендант». Это же надо! Написала в районную газету критический материал о безобразиях в рабочем общежитии. А в ответ ей – мол, легко писать, а ты попробуй навести порядок, и предложили быть комендантом. И она, хрупкая, эстетка, вместо занятий «божьим промыслом», бдений над поэтическими строчками, со всем своим моральным бесстрашием разнимала кровавые драки, не однажды шла на нож. Устраивала в общежитии вечера поэзии, пытаясь пробудить в бывших уголовниках ростки светлого мироощущения. Мы говорили с Ладой до позднего вечера в притихшей редакции. И тогда она еще не ведала, не знала, какие тяжкие ухабы лягут на ее пути. Она станет жертвой состояния своей души, утонченной, доверчивой. А в результате, член союза российских писателей Лада Магистрова, хозяйка трехкомнатной квартиры, на старости лет окажется поэтом-бомжом. Возьмет в руки метлу, повяжет платочек на голову и за койку в общаге будет мести улицы авиагородка. Тот же Миша Асламов, ослабевший «отец» обнищавших хабаровских писателей, добудет ей комнатушку в обвальном фонде, но без прописки, откуда ее, больную, в преклонном возрасте, могут в любой момент вышвырнуть. И по-прежнему неустанно, со святым крестом в душе, она будет любить людей, своей неповторимой поэтической интонацией петь о них.
Светлой звездочкой на творческом небосклоне Хабаровска промелькнула и закатилась незаурядная судьба нашего автора, члена союза художников Эли Кириченко. Кареглазая, с прямым, хорошо очерченным носом, высокими скулами, с крылатостью в движениях, Эля, выпускница художественно-графического факультета, была художником от Бога. Ее иллюстрации к сказкам Пушкина «У лукоморья», изданные Хабаровским книжным издательством, не знают аналогов, и за последние 80 лет были проиллюстрированы в Хабаровске впервые. В отчетах о достижениях хабаровских художников ее имя неизменно называлось в одном ряду с Г. Павлишиным, в дуэте с В. Романовым она подвергалась упрекам в «явном увлечении внешними приемами и стилизацией». По душевному настрою и обстоятельствам жизни Эля была мне близка. Ей непременно хотелось написать о художниках. И мы сидели локоть к локтю, пытаясь из ее рассказа выткать ткань будущей корреспонденции.
Вечно безденежная, полунищая, будучи на свободных хлебах, она решительно отказывалась от халтур, которые подкармливали таких же бессребреников-художников. За жизнерадостный плакат с флагами, с солнышком, с цветочками, на которые Эля была непревзойденным мастером, с серпом и молотом, платили столько, что можно было безбедно жить полгода с маленьким сыном Женькой. Но она решительно отказывалась, работая сутками над очередной книгой, перебиваясь с хлеба на воду в ожидании гонорара из издательства. И когда получала искомое, швыряла деньги как ничего не значащие бумажки. Прежде всего, рассчитывалась с долгами, у нее был длиннющий список – кому и сколько. Могла купить сразу два пальто – голубое и белое из джерси, кучу детских ботиночек, костюмчиков на вырост, впрок краски, кисти, холсты. Как-то, подогнав такси к редакции, пригласила нас с Верой к себе, к черту на кулички, на Заводскую. Чего только не было на столе – сыры, колбасы, фрукты, ликеры. Закупила в ресторане, ибо на прилавках не найти. Но не это поразило нас, а пейзаж на стене – синие сугробы снега с густыми тенями под рассеянным светом бледно-золотых звезд, ясно освещавших снежные хлопья - холодно. А за окном летняя жара 30 градусов. Заметив наше недоумение, поясняла: «А к декабрьским морозам я рисую весну».
Вскоре гонорар улетучивался. И снова она бедовала. Пирожки с лотков становились самым изысканным блюдом в ее меню. Именно их Эля принесла мне в качестве передачи в 3-ю горбольницу, куда я загремела с обострением язвенной болезни. Эля заявилась в палату вечером, и мы, забравшись подальше от больных в закуток, рассматривали листы с новыми этюдами. Так увлеклись разговором, что потеряли счет времени. Когда пошла провожать гостью, оказалось, что больничный гардероб с ее пальто давно закрыт, на улице зима. Ничего не оставалось, как дождаться, когда свет в палате выключат, лечь спать валетом на узкой больничной койке.
Иллюстрации к «Сказкам дремучей тайги» у нее уже были готовы. А вот над текстами она билась с удвоенной силой, просиживая в публичке допоздна, изучала материалы о поведении кабарожек, лис, секачей. И если бы не помощь Н.Д.Наволочкина, вряд ли ее замысел мог реализоваться. Писатель, очевидно, так проникся к неповторимой самобытности рисунков Кириченко, что взялся за редактирование текстов, отдав им душевные силы и писательский талант. Первая книжка Э.Кириченко вышла на славу, тиражом 300 тысяч экземпляров и имела прекрасную прессу.
Наконец усвоив, что Андерсена из нее не получится, она стала иллюстрировать народные сказки. Привозила из Москвы со всесоюзных конкурсов дипломы, призовые места, продолжая жить от гонорара до гонорара. Потом от пенсии до пенсии, обретая облик городской нищенки. Что стало с Элей – непостижимо. Душевная гармония разрушалась. Она перестала быть в ладу сама с собой. Некогда золотые руки, созидавшие чудо, уже давно тянулись не к мольберту, а в буквальном смысле – за милостыней.
А я еще не теряла надежды встряхнуться, найти в себе силы заявиться в редакцию к молодым и незнакомым коллегам. Впрочем, куда прешь? «Несчастный друг! Средь новых поколений докучный гость и лишний и чужой». Ну что ж, пусть лишний и чужой, но без маленькой прибавки к пенсии в виде гонорара мне – хана.
ЗА ЯЙЦА – НЕ ПРОДАЕМСЯ
В наше время среди внештатников не было таких, кто бы писал четко «для рубля», авторы меркантильных помыслов не преследовали. Да и видеть в газетном творчестве источник обогащения, тогда было не в чести. Среди журналистов, даже членов редколлегии, мы не знали таких, кто бы испытывал «сытость в острой форме». Стимулировался труд весьма скромно. Мне, младшему литсотруднику, положили зарплату 80 рэ. Почти столько же получал мой отец, подрабатывавший в свои 70 лет вахтером в управлении ДВЖД. У журналиста, понятно, предполагался гонорар, но это такой капризный доход – он мог быть велик, в размере зарплаты, а если шла черная полоса, без публикаций, то светила дырка от бублика. Но, даже имея в совокупности эти два источника дохода, покупать было нечего - полки магазинов пусты. Воспользоваться служебным положением - такое в голову журналиста и прийти не могло.
Возвращаемся, бывало, с Верой, мы с ней жили по соседству, с коммунистического субботника, в сетках - по буханке хлеба, и рассуждаем, чем сегодня кормить семью. А в этот апрельский субботний день весь город за бесплатно трудился на рабочих местах, чистил и мел улицы Хабаровска, а мы, журналисты, в первых рядах с утра чуть свет бегали по предприятиям и в темпе «очень срочно» делали праздничные репортажи в номер о вдохновенном труде горожан.
Любой материал, даже такой, проходной, а «для вечности» тем более, - пишешь, пропуская через сердце. Побывала на субботнике, например, в «Электропроекте». Сижу в тихом редакционном кабинете, но вижу другое: звучит праздничная музыка, оживленные лица инженеров, как один явившихся на субботник не мыть и убирать, а экспериментировать новую технологию электропередачи. Что-то не клеится, идет мозговая атака, раздаются реплики, возникают идеи, и через них ты, чужой человек, открываешь характеры, секреты инженерной смекалки.
Наш вклад как участников комсубботника заключался не только в срочности, а в безгонорарности публикаций – за этот номер журналистам не платили. По дороге с работы обходили полупустые магазины, с пачковыми супами на полках и килькой в томатном соусе, кляня всех и вся, даже скверного вина в продаже не было. Да и внешний антураж одежды газетчиков оставлял желать лучшего. Вера Павловна, уже тогда популярный газетчик, а на ногах – какие-то калоши из кожзаменителя, как она называла «говнодавы», по случаю купила. Впрочем, Веру спасали почитательницы, вязали ей жилеты, кофточки. А в основном экипировались мы, как и все хабаровчане, в отпусках, по месту отдыха. Москва кормила не только рязанщину и нижегородцев, но и дальневосточников. Из Москвы везли конфеты, колбасу, сыр и даже мясо. А однажды был случай, когда из первопрестольной привезли кур… хабаровской птицефабрики. Но поднять подобную проблему на страницах газеты никто бы не позволил.
Досконально было известно, что чиновники крайкома, райкомов партии пользуются спецобслуживанием. Даже знали, где располагаются спецпункты, куда, понятно, газетчикам, хотя «Тихоокеанская звезда» являлась органом крайкома, доступа не было. Замахнуться на льготное обслуживание, когда хабаровчане проживают в режиме «пуритане», не смели. Впрочем, пардон, был такой случай. Как-то перед Первомаем Володя Шулятьев, бывший собкорр газеты «Лесная промышленность», на чье место прибыл из Москвы молоденький журналист Боря Резник, забежал ко мне в отдел и шепнул:
-Тебе нужны яйца?
- Не поняла…
- В маленький гастроном завезли. Едем. Договорился с директором и с машиной тоже.
Я ехала и мечтала о предстоящих блюдах – яйцо в мешочек, омлет, по-барски, из семи штук яичница.
В тесном предбаннике нынешнего «Грига», где я когда-то познавала природу людей дна, собралась толпа жаждущих блатных. Пока осматривалась, из директорского кабинета выглянула красная, жирная морда, и на весь предбанник объявила:
- Тихоокеанская звезда. Кто из газеты? – я автоматически сделала шаг вперед, но Володя схватил меня за руку. - Второй раз спрашиваю, кто из ТОЗа за яйцами? Нет журналистов, тогда универмаг!
- Вот гад, - кипел Шулятьев, когда мы отъехали несолоно хлебавши. – Я ведь просил конфиденциально, а он, жулик, опозорить хотел. И, вытаскивая солидную пачку денег, – оказывается, желающих яичницы было полредакции, вопрошал: – Что я людям скажу?
Поесть прилично можно было в ресторане. Наши любимые с Верой «Центральный» и «Дальний Восток». Позволяли мы себе такую роскошь не часто, и каждый визит воспринимали как маленький праздник. Чтобы он не носил сомнительный характер по поимке завсегдатаев – мужиков, мы с Верой, девки чертовски молодые, видные, приглашали с собой или Андрея Ивенского, или Николая Рябова. Посещение, подчас завершавшееся большим застольем, непременно приурочивали к щедрому гонорару, чтобы не слишком страдал семейный бюджет. Нередко встречали наших авторов, хабаровскую богему и живую легенду Всеволода Иванова в окружении почитателей. Сдвигали столы, забывали, где мы, в бесшабашном порыве соревновались в остроумии или слушали колоритные эпизоды из еще не написанного.
Как-то перед очередной красной датой в редакции был объявлен конкурс на лучший материал. Победитель получает аж 50 рэ. Я давно мечтала написать о своей главной учительнице – библиотекаре Т.И.Кузьминой, распахнувшей передо мной поразительный мир книг, светлом, чистом человеке. Очевидец Ленина, участница Волочаевских боев, в послевоенные годы она занималась хабаровской шантрапой, превратив по вечерам библиотеку им. Гайдара в театр, где мы ставили спектакли. После прочтения книг «Медок», «Урожай», везла нас к пчеловодам, на хлебозавод. А сама Татьяна Ивановна одевалась бедненько. Ходила в ботинках или валенках, которые всегда «хотели есть». Что двигало ею? Писала трепетно, с любовью.
На летучке утром были объявлены победители конкурса. Мы с Верой разделили первую премию! И еще один сюрприз: в обеденный перерыв побежали в промтоварный магазин «Восток», что близ рынка – из надежных источников поступил сигнал, что в продаже должны быть супермодные кофточки.
Ну, как не отпраздновать два таких события. И после работы Андрюня Ивенский повел нас в «Центральный». Сидим, это мы, две привлекательные дамы, в белоснежных, с обильными воланами блузках, от удовольствия не дышим. Еще таких в Хабаровске ни у кого нет. Вдруг взгляд Веры надменно застывает на стайке появившихся в зале официанток … точно в таких же блузках, явно из одной коробки. Да это же униформа обслуживающего персонала! Настроение было испорчено, но не надолго. Нам не привыкать, как убедил Андрюня, мы, журналисты, тоже обслуга…
«Деньги – это всегда приятно» – говорил Шопенгауэр. Но из них мы культа не делали. Когда при разметке гонорара одному из постоянных авторов, ныне доктору наук, и по сей день успешно сотрудничающему в «ТОЗе», вместо домашнего адреса я увидела расчетный счет Сберкассы, это вызвало удивление и антипатию. Хмырь, куркуль. Так мы его стали звать. В гонорарах, премиях за лучший материал мы видели не столько денежную сумму, которая, конечно, радовала, сколько эквивалент творческого признания. Более того, весьма ревниво относились к коллегам –передовикам в гонорарной ведомости. Подобных чувств не испытывали к Вере Побойной. У нее были неизменно самые высокие гонорары.
И тем не менее с краской стыда за свою надменность, бестактность вспоминаю внештатницу Елену Новаковскую, деликатную, интеллигентную женщину преклонных лет. В неизменной кокетливой шляпке она приезжала с поселка Горького с театральными рецензиями. Вдова, муж нелепо погиб, осталось двое поздних детей-студентов столичного института. Их надо было доучить. Все наличные она высылала детям и билась как рыба об лед. Маленькую заметку о гастролях, за которую заплатят 5 рублей, и над которой работала, наверное, ночью, она привозила чуть свет, чтобы успела пойти в номер. И я бесчувственно сокращала филигранно переписанные строчки, «выжимала воду». Почему во мне ее судьба не нашла отклика, понимания? Приезжала она по утру, тихо сидела в ожидании на вахте. А я, как всегда, опаздывала на работу, вся из себя психованная. Как-то, пытаясь незамеченной проскочить мимо вахты, увидела Новаковскую, и не выдержала: «Ранняя вы птаха! Что, не спится?» – публично, при курьерах. Она низко опустила голову, и предупредительно пропустив вперед, робко последовала за мной. Как я могла обидеть незащищенную старость, дерзким словом ударить, не задав себе шекспировского вопроса: «Кем ты станешь, когда тебя засеет седина?» Об этом не думалось, как и о том, что пройдут годы, и я окажусь бродячей собакой в поисках газеты, где бы моим строчкам дали приют, а мне - существование, похожее на жизнь.
Понимала, возвращение в «ТОЗ» на правах внештатника в пенсионной кондиции – проблематично. Во все времена тихая мечта редактора – избавиться от журналистского балласта, что и регулярно делалось. А надоедливые внештатники, как правило, без данных Юрия Щекочихина или Бориса Резника, словно бревно в глазу. Не иначе неудачники, оказавшиеся на обочине победного газетного пути. Их суетливые, старческие попытки выползти со своими журналистскими опусами на страницы газет, подвергались молодыми коллегами остракизму. Возможно, в этом есть своя логика, ведь такими же не сочувствующими старшему поколению были и мы когда-то.
ЩЕЛЧКИ КАК СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА
Каждый из нас в те годы, как штучная личность, знал свою цену. Людмила Малиновская, Ольга Тарасова, Андрей Ивенский, Ирина Романова, Александр Климников пришли в редакцию почти сразу после войны. Каждый из них – целая эпоха в хабаровской журналистике. И каждый без исключения пережил малую или сокрушительную трагедию расставания, то ли по старости, то ли по неугодности, с «Тихоокеанской звездой», осветившей судьбу и выкачавшей лучшие душевные силы.
Не в счет бывший литсотрудник «ТОЗа», ныне российский поэт Римма Казакова, уволенная из газеты за профнепригодность. Первый раз мы встретились с ней в Охотском аэропорту. Римма готовила для суперпопулярной тогда «Литературной газеты» статью об Охотском побережье. Вернувшись после облета ледяной обстановки, мы сидели с ней на берегу весеннего Кухтуя. Затягиваясь тоненькой сигаретой «Березка», она похохатывала, вспоминая эпизод развода с «ТОЗом». Щелчок, полученный в газете, упрочил ее стартовую площадку для взлета в свободное творчество. Свою убежденность, что в провинции талантливый человек не добьется высот, подтверждала неоспоримыми фактами: «Хабаровские поэты пишут ничуть не хуже столичных, тот же Сергей Тельканов. Но кто в стране знает о его существовании? А если ты к тому же работаешь в газете, чья ненасытная утроба поглощает все силенки, иссушая и глуша живые ростки индивидуальности, тебе как большому творцу – каюк».
Я смотрела на Римму с любовным почтением и думала: - Легко ей говорить, она ленинградка, выпускница нашего университета, уже тогда была в Хабаровске знаменитостью. И будущее ее, безусловно, лежало не на амурских берегах, есть родительский причал в городе на Неве. Тем более у нее начинался нешуточный роман с Г.Г.Радовым, писателем, членом редколлегии «Литературной газеты», находящимся на тот момент в командировке во Владивостоке.
Чтобы не вспугнуть судьбу, Римма говорила о возможных изменениях в личной жизни иносказаниями, подтекстами. Когда я однажды условным стуком постучала ей в дверь (занимала она комнату на втором этаже нынешней «Руси»), где мы читали Киплинга, пили сторублевый (какие деньги!) коньяк «Двин», обжигаясь картошкой в мундире – ее коронным блюдом, прославленным в стихах, почтальонша просунула под дверь срочную телеграмму из Владивостока с пронзительными словами: «Родная, я буду любить тебя тысячу лет», - здесь Римма не выдержала и без иносказаний поведала, что в душе растерянность, неведение как поступить. На одной чаше весов судьбы, как я поняла, - надежность, столица, пылкость чувств. На другой – возраст любимого человека, нечто еще. Ну что я, соплячка, могла посоветовать? Да и в советах она не нуждалась. Все решала сама и ее рисунок жизни, запечатленный на ладошке. Мне же оставалось молить, чтобы он был светел и счастлив.
Потом, уже в Москве, где я проходила преддипломную практику в журнале «Крокодил», гостила в Мичуринске у Радова и Казаковой. Московской квартиры они не имели, и будни были связаны с расписанием электричек. Мы с Георгием Георгиевичем, подобным по складу ума, самобытности роденовскому «Мыслителю», ходили на перрон в ожидании возвращения Риммы из Москвы. И он учил меня, в какие словесные ткани можно завернуть острый критический материал, чтобы он попал не в корзину, а на газетную полосу. Скептически относился к Ленинградскому университету, не родившему за последние годы ни одного, кроме Риммы и Майи Борисовой, яркого поэтического имени. А вот Женя Евтушенко без всяких вузов владеет умами современников, если, конечно, рот не заткнут. Тогда у поэта начались неприятности из-за изданной за рубежом «Автобиографии». Подписывая мне свою вторую книжку, Римма говорила: «Моя стоит, видишь на обороте – 15 копеек, пусть твоя будет стоить вдвое дороже». Увы, не сбылось. Вышедшая в Хабаровском книжном издательстве моя повесть тоже стоила 15 коп..
По мотивам профнепригодности не подошел к тозовскому двору Григорий Ходжер. Но он не любил об этом говорить. У ставшего безусловным и мощным мэтром дальневосточной литературы писателя, когда он по пути из издательства заходил в редакцию, мы выпрашивали новые главы его романов, и под грифом «срочно» секретариат отправлял их в набор. Как-то заглянув к нам в отдел, и отпросив меня у заведующего, предложил пойти на речной вокзал, где на волнах покачивался речной ресторанчик. Гриша потащил меня сначала в соседний с редакцией книжный магазин, куда поступил тираж его книги «Конец большого дома». Здесь же, на прилавке подписав: «Дорогому человеку, Катюше Гриценко – моей любви. Гриша. Автор». Любовью его я никогда не была, просто у писателя было отличное настроение, а вот другом, с кем можно говорить обо всем на свете – этой чести удостаивалась. И в уютном ресторанном зале на дебаркадере, о борт которого билась волна, а в окнах блистала красотища Амура, мы, заказав бутылочку «Агдама», говорили за жизнь, в частности, коснулись лаборатории творчества.
- Я его люблю. - Не отрывая взора от окна, признавался Гриша. – Он мой вдохновитель и главный герой. Когда пишу о нем и о людях, живущих на его берегах, процесс работы над книгой захватывает, возбуждает так же, как любимая женщина в близости – утрачиваешь бег времени, окружающую реальность. Впрочем, процесс творчества более интимен, тонок, драматичен и непостижим, чем любовь. В такие дни, если жена не подаст еду, забываешь, ел ли, пил ли. Ты на другой планете, сердце которой - Амур первой половины этого века. Даже когда сламывает сон – образы, сюжетные линии не покидают. И так днями, месяцами, годами, пока не поставлена последняя точка. Ты когда последний раз меня видела? – наступал собеседник. – Правильно. Год назад. Пока «Большой дом» печатался в типографии, я сидел как проклятый над новым романом. Вот отнес рукопись в издательство. И три дня отключаюсь. Незабвенная супруга ищет меня по друзьям. Она не упрекает, понимая, что от плена воображаемых героев нужно освободиться.
В ресторанчике, прослышав, что среди посетителей Григорий Ходжер, подходили почитатели и просили автограф. Мой собеседник, демонстрируя усталость от славы, командовал: «Катя, подписывай», что вызывало неудовольствие жаждущего автограф. Но эту заминку мы быстро устраняли, и счастливый почитатель, передав за наш стол традиционный презент, возвращался на свое место. Если совпадали «окна» в творчестве Михаила Белова, они освобождались вместе и долго. Недавно я перечитала «Улыбку Мицара» Белова и «Конец большого дома» Ходжера. Не прочла – проглотила. Блистательная литература, ярче и пронзительнее детективов, которыми зачитываются нынче современники.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОЧЕНЬ ПРИГОДНЫЕ
Видимо, чтобы не попасть пальцем в небо, то есть в очередной нераскрытый талант, в редакции, при формулировке мотивов увольнения, с термином «профнепригодность» стали обходиться более аккуратно. За годы работы в «ТОЗе» я не знаю никого, кто бы по собственной воле жизнерадостно, как освобождение, покинул стены редакции в никуда. При полном параде нерастраченного таланта, как только ударил возрастной гонг – 55 лет, «ушли» Малиновскую (Шахматову). После чего Людмила Николаевна еще лет пятнадцать ярко писала в «Суворовском натиске». Ее золотое перо высокой пробы в силу необъяснимых причин оказалось в «ТОЗе» слабо востребованным. А пришла она в эту газету девчонкой, и что удивительно, как рассказывают сторожилы, первая ее заметка была опубликована без малейшей правки, что редчайшее явление для новичков. Уже позже Малиновская нашла свою тропу в журналистике. Как ее, например, находит спортивный обозреватель. Будучи уже маститым театральным критиком, довольно в зрелом возрасте стала студенткой, а затем аспиранткой московского института театра и искусства, посмеиваясь над собой: «Я вечный студент». Ее рецензии, пронизанные знанием движения души человеческой, психологии людских поступков, пробуждали в коллегах добрую зависть, а у читателей - восхищение. Почему же «ушли»? Полагаю, что дело отнюдь не в «трудном характере», о чем судачили коллеги. Что касается характера, да, был инцидент, повергший всех в шок. Людмилу Николаевну, блистательного театрального критика, из отдела культуры вдруг переводят в партийный к Жене Бугаенко. Что между ними произошло – неизвестно. Приходим утром в редакцию и ахаем – свой рабочий стол Женя демонстративно вытащил из кабинета в коридор и как ни в чем не бывало сидит на всеобщем обозрении и при тусклом коридорном свете лампочек строчит очередную статью. Нонсенс. Приходят авторы, видят эту странную сцену, недоумевают. Их обоих вызвали, конечно, к редактору на ковер для объяснений.
Как мог внешне невозмутимый Евгений Иванович поддаться на провокацию женских эмоций, неизвестно. Знали другое, Людмила Николаевна, неуступчивый человек, может смело пойти против течения, на летучке высказать свою позицию, противоположную общепринятой, защитить, поддержать перспективного, но оплошавшего младшего коллегу.
С переходом в отдел партийной жизни ее тяга к искусству всячески пресекалась, и если Малиновская внедрялась в театральные темы, вынуждена была подписываться: «аспирантка ГИТИСа». Но и в партжизни она выдавала такие газетные пласты о человеке земли, что я диву давалась.
Кому она, живущая отстраненно от редакционных кляуз и склок, могла перейти дорогу? Досконально известно – этот человек жив. Назовем его Пиковый Туз. На протяжении многих лет, исподволь, он творил недобрую погоду в «Тихоокеанской звезде» – журналистским авторитетом, острой репликой на редколлегии, когда решалась чья-то судьба, влиял на кадровую политику, зиждившуюся на его личных симпатиях и антипатиях к коллегам, в частном случае с Малиновской, более талантливой, чем он сам. Впрочем, это мое заявление несправедливо. Как истинно творческие люди, оба понимали - талант превыше житейских недоразумений, пробежавших «черных кошек». Малиновская и Туз по крепкому, яркому перу стоили друг друга и знали это. А случилось вот что. Человек незапятнанный, чистых помыслов, Малиновская после очередной редколлегии, где Туз повел себя непорядочно, было это давно, посмела, наклонившись к нему, сказать: « Ну и дрянь же ты!». Сидящие рядом члены редколлегии слышали. После чего лет двадцать, встречаясь изо дня в день, Туз не замечал Малиновскую. Она платила тем же. И только на 80-летии «Тихоокеанской звезды», в 2000-м году, оба уже в преклонном возрасте встретились не как недруги. Акт примирения безысходно запоздал.
Не верилось, что Людмила Николаевна, такая бодрая, легкая, в свои за 70 лет потрясающе моложавая, перенесла инфаркт. У нее на торжестве, как назло, случился маленький казус, сломался каблук китайских модельных туфель. Без тени смущения переодевшись в удобные, рабочие, и оказавшись за одним праздничным столом в «Интуристе», она, смеясь, показывала Тузу коварный каблук, оба сетовали на качество китайского ширпотреба и поднимали тосты за здоровье друг друга. Никто тогда не смел поверить, что Людмиле Николаевне оставалось жить два месяца…
В любом коллективе от нежелательного сотрудника достаточно легко можно было избавиться не только по причине возрастного ценза, но и по внеурочно выпитой лишней рюмке. Чего таить, пили журналисты отменно. Как говорил Чехов: «Водка белая, но красит нос и чернит репутацию». Журналистов с красными носами отроду в редакции не было. Но доброжелателям «заловить» коллегу на «змие зеленом», если очень захотеть, не составляло труда. Невольный грех лежит и на моей душе.
Работали у нас Коля Завьялов, после окончания Хабаровской ВПШ, и Борис Иванов, выпускник МГУ – умные ребята, интересные собеседники и блестящие журналисты. Борис, по специальности философ, обладал удивительным даром так преподнести сухой пропагандистский материал, что читался он как рассказ.
Особенно творчески полно зарекомендовал себя Николай Завьялов, когда возглавил отдел по патриотическому воспитанию. На конкурсе по данной тематике, проводимом на союзном уровне, неоднократно занимал призовые места по всем возможным номинациям. Человек бесхитростный, он немало натерпелся от Пикового туза, не выдержал, имел неосторожность сказать ему, в отличие от Малиновской, принародно, на планерке нелицеприятные слова по поводу того, что есть человеческая порядочность. Тем самым обрел себе «доброжелателя». У Николая вообще была трагическая судьба: четверо детей, жена попала под поезд. Удивляюсь, как он так долго держался, уж ему-то было ведомо, что самый доступный способ уйти от горя - бутылка, к чему он был склонен. Но дети и любовь к газете не позволяли пустить жизнь на распыл. Однажды он не вышел на работу, и меня отрядили от профкома узнать причину и доложить, Завьялов почему-то был под особым контролем То, что я увидела, поразило: осиротевшие комнаты – казармы, отсутствие необходимой мебели, на кухонном столе краюха хлеба. Как мог Николай являться в редакцию в свежих рубашках, при галстуке – непостижимо. Никакой пьяной братии я не обнаружила, сын сообщил, что отец с утра ушел на репортаж и, видимо, забыл предупредить секретариат.
Борис и Николай были моими друзьями, и однажды обоих я пригласила на день рождения. Не бескорыстно, для «колера» – собиралась женская компания, без мужиков. а они оба полусвободные, с выдумкой, остроумные. Когда «слиняв» из редакции на часок раньше, прибежала к дому, Коля с Борисом уже стояли с букетиком цветов у моего подъезда, из карманов торчали бутылки с вином, а сами умеренно веселые. Мы втроем быстро почистили картофель, сочинили салат, и к приходу гостей все было готово. Под возгласы «Ура!» прибыла Эля Кириченко с огромным букетом белых гладиолусов, – объездила весь город на такси в поисках именно белых. Напелись, натанцевались. День рождения прошел по-студенчески замечательно.
А на утро, перекуривая на лестничной площадке, кто-то спросил: «Ну, как отметили?» И я, ни сном ни духом не догадываясь, что не за понюшку табака продала друзей, ибо мой рассказ, какие ребята молодцы, что пришли пораньше, и какой отличный салат приготовил Завьялов, слышал Пиковый туз. Уже через час редактор вызвал в кабинет Завьялова и Иванова. Возвращаясь, Николай прошел мимо меня, будто я пустое место. Ничего не понимая, кинулась к Борису - что случилось?
- Знаешь, Гриценко, мы такого свинства от тебя не ожидали. К Николаю вообще не подходи, он в таком состоянии, что за него не поручусь.
Обоих заставили писать объяснительные, - почему ушли с работы раньше и пьянствовали в рабочее время. А затем был приказ по редакции. Тогда я еще не боялась Пикового туза, бросилась в бой, без обиняков спросив:
- Это ты бегал к редактору?
- А что ты хочешь, чтобы я молчал, когда этот «патриот» на меня руку поднял.
Мое возмущение, что средства, которыми он пользуется, беспардонны и циничны, оказалось на школьном уровне. Что такое черное и белое Туз понимал лучше меня, растолковывая непросвещенному читателю на страницах газеты, а сам следовал другому принципу: все средства хороши.
Это был у Завьялова второй выговор, а третий не заставил себя долго ждать. Его уволили. Потерявший веру в себя, сломленный, он, говорят, какое-то время бичевал. Затем работал в Охотске и там трагически погиб. Судьба Бориса Иванова,– где он, что с ним – неизвестна.
На очереди на увольнение оказалась Рая Рябенко, слывшая абсолютной трезвенницей, с этой стороны к ней «подобраться» было невозможно. Выпускница Дальневосточного университета, тишайшая, как мышка, работоспособная словно пчелка. Ее симпатичные, непритязательные материалы о проблемах легкой промышленности в крае не казались лишними в газете, тем более на фоне тяжеловесных лозунгов-реляций. По репликам Туза, Рая со своей незаметностью, меланхоличностью, мягко говоря, не вписывалась в образ редакции. В редколлегии же бытовало почему-то мнение, что молодой факультет журналистики в Приморье поставляет слабые кадры (время показало несостоятельность такого суждения). Как известно, прибывшие по направлению из вуза, не проходили испытательного срока. Кроме того, им сразу же полагалась квартира. Можешь хоть в потолок плевать и ни строчки не выдавать, но три года обязан отработать. Раиса не бездельничала, а ей втолковывали: «ТОЗ»– не ликбез». И дали два месяца, чтобы поискала новую работу. В таком подвешенном состоянии она пребывала почти два года.
- Ты не представляешь, в каком аду я живу. Задания не дают. Старые материалы не печатают. Прихожу в отдел как на каторгу. И первый вопрос Панченко: «Ну что, Раиса, нашли работу?» - жаловалась она. А однажды заявилась домой ко мне с бутылкой сухого вина и с негромким воем: «Куда мне деться?» К счастью, ей повезло. Переводом ушла в «Суворовский натиск». На новом месте работы встретила будущего мужа, москвича. И живет давно в столице.
На этом фоне особенно остро сетую, что месячный испытательный срок, отпущенный Людмиле Лазаренко, оказался кратким. Красивейшая, неординарной судьбы, светлой души человек Людмила развернуться не успела, а возможно, ей помогли «не успеть». Одинокая мать малого ребенка, она возлагала большие, трепетные надежды на газету, но оказалась в подчинении у Климникова, ведающего рыбной отраслью. Любимые им сейнеры, рыболовецкие станы как-то не привлекали новенькую. Ее пронзительный по остроте рассказ о жизни интернатовских детей, брошенных матерями, который она мне доверительно читала, хватал за живое. Благословив ее и обнадежив, я сказала: «Сдавай заведующему». И что же? Черканый-перечерканный, с вопросительными знаками на полях, он завершался несправедливой оценкой: «ученичество!».
- Как же так? – защищался Климников, выговаривая автору и посверкивая единственным глазом. - Вы пишите: отец – пьяница, избивает ребенка, а тот, видите ли, на всем государственном обеспечении тоскует по родителям-извергам. Где логика? Да и вообще, это не моя тема. Куда вы забрели?
Позже, работая заведующей литературной редакции на радио, творчески окрепнув, она тосковала о «Тихоокеанской звезде», изредка, по заказу писала крупные рецензии, с яркими оборотами, ненавязчивыми акцентами и убедительностью. Так могла писать только несравненная Людмила Малиновская.
Анализируя женские судьбы журналисток, кого знала, знаю, прихожу к горестному выводу, – за редчайшим исключением они схожи. Сколько драм, несбывшихся надежд, унижений, несостоявшихся карьер, обид выстрадано и пережито именно бабами с пером и блокнотом в руках. А если к этому добавить крутое одиночество и материнский инстинкт, способный заставить женщину, рожать вопреки всему на свете, в том числе здравому смыслу и общественному мнению, когда ты одна в двух вечных ипостасях - и мама и папа, подобное мужикам, занятым творческой работой, вряд ли выдюжить. Непомерный груз житейских проблем не покидал царственных плеч Людмилы Лазаренко. Меня гнетет запоздалое чувство досады, что редакция по небрежности потеряла хорошего газетчика, а журналистский цех Хабаровска – достойнейшего коллегу. Безвременно, на 46-м году жизни Людмила Лазаренко умерла. Неведомо, как давно ее, статную красавицу с каноническим лицом, подтачивала болезнь, истоки которой – при внешней невозмутимости - «вечный бой, покой нам только снится». Ее похоронили на городском кладбище недалеко от могилы Ф.Г. Куликова. Когда я иду навестить своего любимого редактора, захожу с двумя цветками в соседнюю оградку, на могилу к Людмиле, и разные мысли приходят в голову, в основном из области фантастики: «Прежде чем здесь лечь, друзья мои, вам бы при жизни повкалывать вместе, старшему и младшей, на страницах одной газеты по имени «ТОЗ», досказать то, что унесли с собой, лучшее, недоговоренное. А вы, Федор Георгиевич, окружили себя подхалимами с «курками» в карманах, доверились замшелому коллеге, утратившему зоркость на таланты».
Каким был Климников в молодости, не знаю, говорят, добросердечным, но к пенсионному возрасту, каким его знала, приобрел цвет лица, как у лесоруба, полжизни проведшего в лесах и снегах с бутылкой на перевес. Однако его никто не видел похмельным. И в случае разборки на этой почве провинившегося коллеги, он первым бросался в атаку, высказывая свою непримиримость.
ОСКОЛОК «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»
Особое место в данной проблеме занимал любимый всеми и даже Пиковым Тузом за талант и смиренность Андрей Ивенский. Вряд ли в истории газеты был столь эрудированный человек, подлинный мастер слова, как наш Андрюня – так ласково называли его. Зная цену предательства, низости, клеветы, не способный нанести ответный удар «по заклятым друзьям», он воспарял над «житейским сором», беседуя с Богом, утопал в поэзии. В ней была его доминанта жизни и творчества. Тончайший стилист и лирик, поистине осколок «серебряного века», волею судьбы оказавшийся на берегах Амура, он знал лично Вертинского, мог воспроизводить низким голосом все до единой его песни, был кладезем знаний мировой поэзии и нес в своем сердце сокрушающую, пламенную любовь к Прекрасной незнакомке. Без этой любви, в которой видел высший смысл бытия, придуманной или реальной, жизнь для него тускнела, лишалась поэтического вдохновения. А еще Ивенский любил свою «Тихоокеанскую звезду», жертвенно и самозабвенно был предан ей.
В его внутренний духовный мир доступ чужаку был заказан. Но если удостоился чести приблизиться, в этом элегантно одетом, с бабочкой вместо галстука, которую извлекал в торжественные моменты из нагрудного кармана, невысоком человеке открывался цветущий сад и нездешняя одухотворенность. По натуре безобидный, Ивенский особенно не вмешивался во внутриредакционные дела, находясь как бы в тени, но оставался неофициальным лидером. Он был нашим культурным кодом, эталоном высоких интеллектуальных запросов. Не случайно, при оценке атмосферы тогдашнего «ТОЗа», как-то промелькнула фраза: «то была эпоха Ивенского». Молодой коллега, не знающий Бодлера, Элюара, вызывал у старого журналиста сострадание. Мы сошлись с Ивенским на Верхарне, чуть ли не скандируя дружно: «О, женщина вся в черном! Сколько дней я ждал тебя средь грома площадей… Гордыней бедра налиты». Испытывая меня, начинал тихим, загадочным голосом: «Простор чудесных волн пред вами лег сейчас, и вал, катясь за валом следом, - а когда я подхватывала: - Уже возносит вас к победам по лестнице, где все – и пена и топаз», был просто счастлив.
Однако мои знания не дотягивали и до тысячной доли поэтической кладовой, которую нес в себе Ивенский. Между прочим, на весьма краткое время я для поэта оказалась той самой «незнакомкой». Задолго до меня в этом почетном амплуа были молодые, красивые сотрудницы, в том числе из издательства. Дольше всех продержалась Вера Побойная. Свое обожание поэт выражал своеобразно, дистанцируясь и, как юноша, украдкой вздыхая. Ощущение удивительное, будто ты сидишь не одна в кабинете, и не в одиночестве шагаешь по улице, добрый, всепрощающий дух сопровождает тебя повсюду, без укора, с пониманием, - ты кому-то не безразличен. Ухаживание завершилось двумя листочками стихов, написанных бессонными ночами. И мы оставались друзьями. Но вот защитить, стукнуть кулаком Ивенский не мог. Борцом себя не считал, по причине типичной мужской слабости - он не умел пить. Употребив лишнюю стопку, если это было вечером, шел к темному зданию редакции, где горел свет лишь в окне кабинета «свежей головы». Звонил, стучал, ему открывали. И требовал показать полосу газеты, чтобы убедиться – его лучший фельетон цензоры не выкинули из номера.
Хранители государственной тайны были всесильны. Из готовой полосы материал мог вылететь из-за мелочи – точного расстояния между двумя городами, любых абсолютных цифр производства промпредприятий, переработанных кубов золотых песков, не говоря уже о самом драгметалле (можно было только в процентах). Все это считалось стратегическими данными. В таких случаях безжалостно подвергались резекции абзацы и целые куски. Кроме того, цензоры усиленно шарились по газетным полосам в поисках подтекста – неконтролируемых ассоциаций, которые расшатывают, чернят советскую власть. Например, автор рассуждает о каком-то конкретном случае, где налицо нарушение прав человека, и не делает звонкого акцента, что это редчайшее исключение на фоне нашей распрекрасной жизни. И уж совсем гиблое дело, когда весь материал, например, как у Ивенского «Продавец воздуха», посвящен мошенникам с партбилетами в кармане. И несчетно раз было такое, когда вместо того, чтобы печатать тираж газеты, поднимали с постели редактора, советуясь, чем заменить острый, критический материал, запрещенный цензурой.
Успокоившись, что фельетон «коновалы» не тронули, на радостях Андрюня готов был продолжать праздновать победу уже со «свежей головой». Если дежурный редактор оказывался порядочным человеком, он вызывал редакционную машину и отправлял ночного визитера домой, уговаривая водителя дядю Ваню доставить коллегу не к подъезду, а к дверям квартиры. При иных личностных качествах «свежей головы» на следующий день Куликов уже знал о ночном визите, но знал и другое: «грехи простятся за стихи». Ивенский, виноватый и смущенный, сидел в кабинете, мучаясь в догадках, ждать ли строгача или все-таки его фельетон отметят как лучший материал номера. И когда видел, что секретарша Маша Щедрова выходит в редакционный коридор с кнопками, чтобы укрепить на специальной панели вырезку из газеты с его именем, весь светился и шептал мне: «Все, клянусь, больше ни ногой в контору ночью». Однако клятва оказывалась в силе до следующего фельетона в газете. Так что Куликов взял у него письменное обязательство не являться ночью в редакцию.
Столь снисходительное отношение к слабостям старейшего журналиста было редким исключением, не распространялось на молодых. А скорее наоборот – факт употребления алкоголя во много крат облегчал процедуру увольнения неугодного.
УСТАЛЫЕ, НО БОДРЫЕ ДУБКИ
Перечитала написанное и смутилась, складывается впечатление, что в редакции только и занимались выживанием неугодных молодых талантов. Ничуть не бывало. Во-первых, это происходило на протяжении многих лет и другое, речь идет о втором эшелоне журналистов, где отбор лучших – естественное явление.
Как и в каждой творческой среде отбор был не совсем естественный. Помимо профессионализма требовалась некая пробивная сила или смирение вкупе с яркой одаренностью, а также умение держать межклановое равновесие, и в случае нарушения его, на полсекунды раньше нападающего «выхватить из кобуры кольт». Неприкосновенными, прочными дубками вросли в редакцию Климников, Павчинская, Винников, Тарасова, Пошатаев. Никакие заморозки и оттепели не стронули их из-за редакционных столов, от печатных машинок, в которых заложена или взрывчатка или серебристые ландыши. Кто-то из них писал нервами, потом, сердцем, а кто-то с тихой мечтой гоголевского Акакия Акакиевича выслужить однажды какую-нибудь «шинель». Все они крепко поизносились в этой тяжкой работе и заслужили право трудиться в «Тихоокеанской звезде» столько, сколько позволяли здоровье и энергетические силы. Однако для этого требовалось всерьез похлопотать перед крайкомом партии с соответствующей аргументацией.
Не знаю, хлопотали ли за А.Р.Павчинскую. Некоторое время, пока мне не нашли рабочее место, я сидела в ее отделе писем, который она возглавляла почти четверть века, с небольшими перерывами – отпусками по уходу за ребенком, за больным мужем. Застала ее в предпенсионном возрасте, но на вид четко бальзаковском, ни на пятилетие больше. С глубоким почтением воспринимала хозяйку кабинета – еще бы, жена дальневосточного писателя Вадима Павчинского. Величавая его супруга со всем тщанием следила за своей внешностью. В нарядных платьях, скрывающих полноту, при безукоризненной прическе, с моложавым невозмутимым лицом, она восседала, как царица. Жалобщики, посетители, оказавшись в многолюдном отделе, безошибочно угадывали «главную». Корпя над очередным материалом, я украдкой смотрела на Павчинскую, и неустанно задавалась отвлекающими вопросами, какими кремами она пользуется - ни одной морщинки и как бабе-журналистке нужно жить, чтобы так сохраниться.
Каждый из нас знал, как «Отче наш» – «на гора» выдать план, 1200 строк. 60 процентов авторских материалов и сорок своих, журналистских. За годы работы Анна Романовна отвоевала право не писать собственные материалы. И без того забот, мол, у заведующего хватает – тысячи читательских писем, хотя на них работала дюжина учетчиков, а среди них такие асы, как Юля Ступак, Зина Макарова, Вика Маловинская. Они первые, утомляя зрение, подчас с помощью лупы, читали почту. Сортировали письма, отдельно откладывали те, что после проверки, правки могут пойти в номер, и приносили заведующей на подпись. У Анны Романовны все сто процентов, когда по строчкам дотягивала до плана, были авторские. Зато вела прием посетителей на высоком уровне – деликатно, с пониманием и чувством. Если редактор требовал сделать обзор почты, она, бедная, покрывалась испариной, нервничала, то был черный день в ее жизни. Лишней траты энергии себе не позволяла и поручала обзор литрабу, который всегда под рукой. Щепетильная до фанатизма к своему здоровью, если кто-то из учетчиков кашлял, чихал, она, прикрывая рот белоснежным платком, чтоб не подхватить простуду, приказным тоном немедленно отправляла подчиненного к врачу. Безраздельно все свои душевные, физические силы берегла и отдавала семье.
Годами ухаживала за больным мужем. Найдя во мне благодарного слушателя, с упоением рассказывала мне о кашках, клизмах и о том, как тяжело пережила его уход. Сейчас предметом ее забот, любви и гордости был сын, тогда известный в городе диктор радио и телеведущий Геночка Павчинский. На ее рабочем столе среди кипы писем стоял портативный приемник, и когда по программе радио шли новости или литературные передачи, прием посетителей заканчивался, письма откладывались - Анна Романовна без помех слушала родной, хорошо поставленный голос сына. Лицо ее розовело, молодело, и вся она была теплая, уютная, домашняя, чопорности как не бывало. Передача заканчивалась, дверь для посетителей открывали, рабочий день продолжался. Она могла часами рассказывать, как ее Геночка талантлив и в нежном детстве заметно отличался от своих сверстников любознательностью, изобретательностью, а она, мама, с него сдувала пылинки. Но вот невестка недооценивает мужа и внука воспитывает не так, как надо. А вчера что утварили? Внучок незаметно пробрался к распахнутому окну, влез на подоконник, чуть не рухнул с четвертого этажа. Хорошо, что Гена, с риском сманеврировав, успел схватить ребенка. Всю ночь не спала, кошмары мерещились.
Покинула Анна Романовна редакцию без драм, тихо, незаметно. Свершилось ее желание заняться воспитанием внука, слушать весь день радио, смотреть, когда пожелает, телевизор, чтобы на экране видеть красивое лицо единственного сына. Что случилось дальше с талантливым диктором, знает пол-Хабаровска. Геннадий Павчинский, купаясь в лучах славы и в любой семье почитаемый, желанный гость, незаметно спился. Почему это случилось, знает один Бог. Недавнего кумира хабаровчан, согнутого вдвое, с черным, нечеловечески пропитым лицом можно было увидеть сидящим на лавочках автобусных остановок на Карла Маркса. Пугал потусторонний, бессмысленный взгляд. Пешеходы, особенно женского пола, останавливались, всматривались и, узнавая, шептали: «О, Господи!» А каково было его матери, ведь падение сына происходило на ее глазах. Анна Романовна прожила 85 лет. А в этом аду последние, стариковские годы жизни.
Когда «тозовцы» пришли проститься с Анной Романовной, не узнали ее уютной квартиры с книжными стеллажами, с хрустальными вазами и люстрами. Это была голая казарма, в центре которой стоял гроб, а в нем лежала покойница с босыми ногами, в разграбленном доме у алкоголика-сына не нашлось для матери даже тапочек, и ни рубля на похороны. Не было ни родных, ни близких, а в «ТОЗе», она уже лет тридцать не работала. По всем параметрам жестких рыночных отношений, покойница, супруга дальневосточного писателя, могла оказаться в морге, среди невостребованных, когда заворачивают в целлофан и увозят партиями в Анастасьевку, где кладбище для хабаровских бичей. Но редактор «Тихоокеанской звезды» С.А.Торбин на редакционные средства застраховал всех своих стариков в компании «Колымской». И как всегда, был предоставлен автобус для провожающих. Естественно, поминки - за счет родственников, значит, без оных. Когда засыпали могилу, Лена Дроздова тихо заметила: «Это не дело, без поминок». Пенсионеры сложились, послали редакционного шофера за бутылкой. И здесь, на кладбище, в автобусе, разлили в задумчивости по каплям, чтобы выпить за упокой души Анны Романовны. Сидящий рядом с водителем Геннадий повернулся к старым «тозовцам», вопрошающе произнеся глубокую фразу: «Налейте и мне. Я тоже к этому событию отношение имею».
ПЕРЕСЕКАЮТСЯ ПУТИ-ДОРОГИ
В студенчестве, на лекциях о специфике труда журналистов, нам приводили такие социологические данные. На интервью журналист тратит столько калорий, сколько полицейский на разгон демонстрации. По статистике, в шкале ранней смертности на первом месте – рабочие урановых рудников, а за ними - журналисты. В подтверждении этих драматических данных конкретный факт сегодняшнего дня. Из 17 неработающих пенсионеров-тозовцев, опекаемых «Тихоокеанской звездой», кто отдал жизнь газете и пересек возрастную планку в 60 лет, лишь один журналист. Остальные – «нетворческие». Дай им, Господь Бог, долгой жизни.
У газетчиков, как и у балерин, на каком-то этапе, еще далеко не в преклонном возрасте, возникает душевная усталость, творческий стеноз. Так это или нет, но мне пришлось быть очевидцем, как неуютно чувствуют себя самые требовательные из претендентов на увольнение из газеты по данной причине. Такие, как Ирина Романова, человек высокой духовной организации, культуры творчества. Она страдала, что не могла, как прежде, писать много и выразительно. Былое вдохновение угасало. Не покидала депрессия, превратив некогда жизнерадостную Ирину Михайловну в замкнутого человека. А ведь я, будучи ученицей школы № 34, помнила Романову веселой, молодой, в зените славы.
К нам в седьмой класс, где не было двоечников, пришел корреспондент «Пионерской правды», девушка с ореховыми глазами, с русой косой венцом вокруг головы и с блокнотом. Первым делом к ней повели круглых отличников, а потом уже меня – я писала бездарные стихи, например, о Стокгольмском воззвании за мир во всем мире. Призналась журналистке, что веду дневник. А ее уважительное ко мне, девчонке: «Разрешите почитать?», заставило очертя голову бежать домой за тетрадкой, напролом через площадь Свободы. На ногах «писк моды» – кирзовые сапоги. А так как мчалась прямиком, а не в обход по протоптанным дорожкам, чтоб сократить расстояние, увязла в грязюке так, что едва не застряла. Но успела. Журналистка еще не ушла и ждала меня. Она что-то выписала из моего дневника в блокнот, а я влюблено внимала ее словам – еще бы, со мной беседует настоящий журналист, которого я вижу впервые в жизни. С публикацией в «Пионерской правде» большого материала на весь «подвал» – запомнилась подпись автора «Ирина Романова» - на наш класс обрушилась слава, шквал ребячьих писем со всего Союза. Достался кусочек славы и мне, которой она посвятила отдельную главку «чтение – лучшее учение». Этот эпизод, как я, запыхавшаяся, в драных носках – сапоги с намотанными шмотьями грязи оставила в школьном коридоре, давала ей интервью, Ирина Михайловна запомнила. Как и мои косички с неприлично огромными бантами… из марли. Но, к сожалению, она не видела во мне ученицу в редакции – о, как я нуждалась в добром наставнике, гуру, когда судьба свела нас в газете. Между тем Ирину Михайловну уважали все и безгранично ей доверяли. К ней шли исповедоваться по самым тонким вопросам жизни. Знали, что конфиденциальность гарантирована. Она умела слушать, соучаствовать, о себе молчать, а если собеседник нуждался в совете - дать его.
Они тогда с Верой Павловной работали вместе в отделе писем и дружили. Побойная только что вернулась из Москвы после окончания ВПШ при ЦК. В ее подчинении была, как и у Павчинской, наверное, дюжина учетчиков – письма поступали в редакцию мешками, с самыми замысловатыми просьбами, требованиями, признаниями. Каждое надо было прочитать, зарегистрировать, занести в журнал, описав суть его. Критерий значимости и судьбу письма определяла милый человек и рабочая лошадка Юлия Ступак. Ей поручалось тянуть эту тяжкую лямку. Положиться на Юлию было можно - высочайший профессионал и содержимое каждого конверта Юлия Александровна воспринимала так, будто сама писала. «Вкусные» письма, изложенные хорошим литературным языком, или затрагивающие необычные жизненные ситуации, задерживались на столе заведующей отделом В.П.Побойной, – выбирай на вкус, ты первопроходец. Рубрики в газете «Письмо позвало в дорогу», «Командировка по просьбе читателей» пользовались популярностью, но Вера, видимо, еще не могла отойти от столичных впечатлений, о чем свидетельствует эта запись в моем дневнике:
«…Высокая, статная, красивая, держит собеседника на дистанции. Одним взглядом глаз цвета или молодых незабудок или холодной стали, может отшвырнуть или снизойти. В приватной беседе потрясающе откровенна, расстегиваясь до последней пуговицы: где, кого, куда, зачем… Напомнила ей о письмеце в Охотск, в котором она, Мурзина подбадривая в творческих начинаниях, писала: «Катя, не боги горшки обжигают».
- Я такое писала? Не припомню. Во, хорошая была Мурзина. Сейчас я подобных писем авторам не пишу. Пусть сами выкарабкиваются».
«…Зашла в отдел писем зарегистрировать письмо. Вера Павловна без прически, подавленная.
- Ну, как там моя комната, греет? Хорошие времена были, кавалеры через окошко прыгали.
- А у вас сейчас есть отдельный кабинет?
- Есть. И печатная машинка, и рабочий стол. Так ведь не пишется. Из головы Москва не уходит. Там у меня был соавтор… Говорю себе: «Чего тебе еще надо, ты выиграла лотерейный билет,– познала яркую московскую жизнь, трепетность чувств, наполненность бытия» А потом вот Хабаровск. Господи, уж лучше бы я билет не выигрывала. В мыслях пустота. Я сказала себе, что как только мне ничего не будет хотеться, – я не стану жить. Да еще редактор- эксплуататор требует строчки, упрекает: «Зачем мы тебя учили?»
- Почему вы в Москве не остались? Столичным газетам нужны таланты.
- Куда я с моей оравой? Бабка Полина, дочь, сын, невестка, внук и мы с Борисом. Муж обижался на меня: ты мол, сильная и силой подавляешь. Сейчас видит – я как тесто, стал терпимее, успокаивает: « ты еще сил наберешься». А мне, кажется, я уже ничего путного не смогу написать. Умерла как журналист».
Ей было тогда 33 года. Скажи мне кто-нибудь, что у неустрашимой, с мощным энергетическим потенциалом Веры Павловны был подобный затянувшийся депрессион, не поверила бы не в жизнь, сочла клеветой. Но дневник мой и почерк тоже. Значит было и забыто. А тогда она во многом винила Ирину с ее всемирной печалью и непонятной тоской.
Действительно, последние годы, когда мы сидели в одном кабинете с Романовой – были серьезным испытанием. Происходило нечто непонятное. Точнее, в кабинете абсолютно ничего не происходило. Ирина могла отстранено сидеть часами, упорно глядя в одну, видимую только ей точку. Я затихала тоже, боясь вспугнуть. Если кто-то заглядывал в кабинет, она встряхивалась, но не надолго. Снова тишина и взгляд в никуда. Но к тому времени я была уже малость закаленная. Пройдя школу сначала Ларисы Дашлейгер (Ларской), а потом и Веры Побойной.
«СОЗВЕЗДИЕ ЗАГАДОЧНЫХ МАНЕР»
Лариса считала себя, и не без оснований, примой в журналистике. «Ларская Лариса – созвездие загадочных манер: на внешний вид – московская актриса, а на поверку – милиционер» - очень в точку писал о ней Николай Рябов Легкая, женственная, умевшая обаять любого, она курировала сельское хозяйство края. В ее материалах присутствовали два действующих лица – люди села и природа. Ей Лариса придавала многозначный смысл. И ее доярки, птичницы, механизаторы шли на полосы газеты без грубого натурализма, с его навозом и пометом.
Как только я пришла в редакцию и получила комнату в доме священника, она меня «вычислила» в друзья. Сразу же вдохновенно стала помогать обустраивать новое жилье, проявляя деловитость. А в редакции, с еще теплыми листами своих зарисовок, заводила в красный угол и читала. Закончив, устремляла вопрошающий взор, ожидая похвалы. И, правда, очередной материал был хорошо скомпонован, динамичен, ничего лишнего. И я верила, что ей, любившей прихвастнуть, действительно предлагали работу в областной свердловской газете, чем она невероятно гордилась, ведь там старейшая кузница журналистских кадров, своих газетчиков – прорва. А вот ее, из провинции, готовы взять. Вскоре Ларскую удостоили чести и доверия – перевели в отдел партийной жизни, избрали членом партийного бюро редакции.
Казалось бы, чего не хватало Ларисе? Есть заботливый отец – главный режиссер Уссурийского театра, чем она тоже гордилась, есть любящий муж – Михаил Дашлейгер, взрослеющая красавица дочь, верная, как сестра, подруга Елена Пролесковская, а ее несло на обочину, в катастрофу.
В те годы в нашей стране не было алкоголиков. Понятия «алкогольная зависимость», «депрессия», «алкогольный синдром» - ни в литературе, ни тем более в газете не упоминались. Будучи как-то в командировке в Комсомольске-на-Амуре, узнала, что впервые в крае здесь создан закрытый стационар для лечения алкоголиков. Заинтересовалась и поразилась. В палатах лежали, скрючившись, натянув на головы одеяльца, выдающиеся люди края, герои социалистического труда. Заслуженный строитель, орденоносец, чье имя не сходило со страниц газет, и у кого я как-то брала интервью, узнал меня. Подавленный, с дрожащими руками, он поведал свою драму. Запомнился его страх: «Сплю ночью и вижу, – я снова напился, как свинья, ползу весь грязный из кювета, почему-то голый. Меня пот прошиб, ужас обуял, – опять сорвался, погиб. Просыпаюсь, сердце колотится, и как молния вопрос, – пил вчера или нет. Вижу – палата, я – чистенький. Слава тебе, Господи. Привиделось».
Потрясенная увиденным, вернувшись из командировки, побежала к Куликову докладывать о новой теме публикации. Федор Георгиевич выслушал и строго спросил:
- А ты имеешь моральное право писать на эту тему? – Я смутилась, понуро опустив голову, лицо покрылось пятнами. Да, был неприятный эпизод, когда Федор Георгиевич словесно крепко отхлестал меня за эти дела.
В Хабаровске ожидался приезд Ленинградского балета на льду. Об этом мне сообщила Людка, подруга студенческих лет, позвонив из Ленинграда и напомнив: балетмейстер зайдет и передаст презент. В тот вечер я дежурила по выпуску газеты – «свежая голова». То есть с полудня была дома, когда в дверь позвонили две ослепительной красоты дамы. Они привезли пламенные приветы из Питера, бутылку коньяка и роскошную, с полстола коробку конфет. Поить их чаем и спрятать долой с глаз коньяк, посчитала непочтительным. Тем более гостьи, «дыша духами» и ленинградскими туманами, не скрывали желания продегустировать презент. Поставила две рюмки, на что дамы, возмутившись, воскликнули:
- А где третья?
- У меня дежурство.
- А у нас премьерный спектакль. Вы что, за Ленинград не хотите выпить?
Как отказать? Первую выпили за Ленинград. Вторую – за успешные гастроли в Хабаровске. От третьей решительно отказалась, чему уже особо не противились мои гостьи-ленинградки, за разговором весело опустошившие презенты.
Но и этого оказалось достаточно, чтобы Валя Бавин, по традиции сидящий до поздней ночи в своем секретариате, к которому я подошла с полосой, учуял недоброе. Этого бы не случилось, мы работали на разных этажах. Но я обнаружила серьезную опечатку на первой полосе: в выделенном жирным шрифтом сообщении о новом секретаре Индустриального райкома партии, вместо мужской, стояла женская фамилия. Почти то же самое, что на весь край сказать в газете А.К Черная, а не А.К.Черный. Странно, никто, ни дежурный редактор, ни корректора не заметили. От такой ошибки в редакции полетели бы многие головы, в первую очередь – Куликова.
«И как я высмотрела «блоху», одним словом спасла!» - весело спускаясь на второй этаж, думала я, вспоминая первого своего колымского редактора. В его сейфе всегда стояла бутылочка. Во время дежурства он позволял себе прихлебывать ее содержимое. При этом нюх на опечатки у него обострялся, как у собаки на колбасу, дежурный редактор находил такие «блохи», что и корректору-асу не по силам. Эти коварные существа всерьез отравляли жизнь редакторам и обнаруживались подчас при комических ситуациях. Был такой случай. Работник секретариата, уходя домой, обнаружил на рукаве белоснежной рубашки оттиск от свежей полосы, выругался, а всмотревшись, прочитал на белой ткани четкое: «Предатель А.П. Шитиков». Не веря своим глазам, схватил уже подписанную к печати полосу. И ужаснулся: слог «сед» выпал и вместо «председатель», получился «предатель». Опечатки типа «Ленингад», «реакционный коллектив» вместо «Ленинград», «редакционный» имели свойство так глубоко прятаться от дежурных, что дюжины пар глаз не хватит их обнаружить. И на этот раз Валентин Бавин, увидев бабью фамилию секретаря, схватился за голову, побежал с полосой в типографию. Отпечатанную часть тиража пришлось отправить в брак.
Утром в радужных чувствах на звонок редактора «зайди» полетела в его кабинет. Скажет, вот какая зоркая, Гриценко, начисто забыв о ленинградках. И тут Федор Георгиевич мне поддал: «Кто дал право являться на дежурство в нетрезвом виде! – кричал он, не позволяя мне объясниться. – Сейчас же будет приказ. Ты у меня узнаешь, как пить во время дежурства! Строгача получишь!»
Меня обдало жаром и холодом. В ужасе я уже видела приказ, как вокруг него собирается вся редакция, судачат. Позор, я горькая пьяница. Подобного стыда не переживу. Окна в редакторском кабинете на третьем этаже были залиты солнечным светом, но в тот момент виделось нечто темное, заманчивое в них и приоткрытая створка магнитом влекла вниз. Я шагнула к ней близко, и кто-то вместо меня ультимативно произнес:
- Если появится такой приказ, я вот сейчас спрыгну с этого окна. - Откуда во мне возникло такое намерение, но оно было столь неудержимо, что ничто бы не остановило.
Очнулась я в своем кабинете. В руках почему-то последний материал, уже подписанный к печати, но подпись «Куликов» зачеркнута и красным карандашом «Возврат» Это я писала об экипаже самолета «Аннушка», который при перевозке пассажиров в Кур-Урмийский район, для согрева разводит и пьет технический спирт. И был смертельный случай. Значит, на подобные темы мне запрещено писать и впредь. Таково было правило Куликова, журналист, замеченный в злоупотреблениях, негласно лишался права писать на алкогольные темы. Репутация трезвенницы подмочена крепко и надолго. И я устало, как-то безразлично подумала, что кроме Валентина Бавина, в мое дежурство в редакции никого не было, и никто, кроме него, настучать не мог. Какого черта я, на мою беду, обнаружив опечатку, побежала в секретариат, можно было просто позвонить. Но ни обиды, ни возмущения не испытала, сказав себе, уроком будет надолго.
Прошел год с визита ленинградских друзей, а Куликов не забыл, хотя ведь досконально знал, что это случайность, что никакая я не пьяница. Но и ханжой тоже не была. Всегда могла и умела поддержать компанию, и чего таить, при случае организовать вино-чаепитие.
Не имея ни малейшего понятия об алкогольной зависимости, удивлялась Ларской. Если собирались у меня с гонорара и ей наливали стопку, она кокетливо просила чайную ложку и, считая демонстративно вслух, наливала буквально пять капель. Объясняла, что принимает антибиотики несовместимые с алкоголем. Да мы и не углублялись в мотивы. И она не скучала. Если под рукой оказывалось пианино, Лариса выдавала такое «ча-ча-ча», что только мертвый мог усидеть. Она была веселей, экспрессивней, бесшабашней всех нас, будто не мы, а она употребляла «антигрустинчик».
А однажды, у ее друга из сельхозуправления, Игоря, большого чиновника и «шп» - швоего парня, было новоселье. Получил он поистине царские апартаменты в центре города. Лариса смоталась на птицефабрику, привезла красавца петуха. Пока птица в ожидании торжества гуляла по редакционному кабинету, мы долго искали бант. И не нашли ничего лучшего как «позаимствовать» краешек красной скатерти, которой накрывали стол президиума на торжественных собраниях в редакционном уголке. Толпа у Игоря собралась приличная. Брали всех наших, кого встречали по дороге. Едет по Серышева на своем «Запорожце» Паша Халов, Лариска восторженно кричит: «Павел Васильевич, ты не зазнался? Не снизойдешь пойти с нами на новоселье?». « У кого? У Игоря? Сейчас поставлю свой драндулет у дома и буду».
Торжественно открыв дверь новой квартиры, первым впустили с тяжелым красным бантом петуха. Горделиво обойдя пустые комнаты, он налетел на стол, накрытый на полу, и без зазрения совести приступил к празднованию. Едва отогнали дурную птицу, а потом и заперли в пустой комнате. Разместились на надувных матрасах. Лариса, как водится, начала с чайной ложечки. В разгар веселья Игорю это не понравилось: «За счастливое новоселье пьем. Каплями не годится». Все были просто по-молодому веселы, но не Ларская. Она целеустремленно пила одну стопку за другой. Такой я видела ее впервые. Игорь, чувствуя себя виноватым, вызвал шофера из управления, чтобы везти перебравшую Ларису домой. «А кто будет сопровождать? Миша Дашлейгер увидит меня с Ларисой, обоим шиньон сорвет» – сетовал новосел, ругая себя последними словами. Предстояло сопровождать мне – уничижительное занятие иметь дело с пьяной бабой.
Когда мы подъехали к известному мне дому в Затоне, Дашлейгер уже стоял у подъезда, и ждал:
- Я как чувствовал. Что же вы наделали, мерзавцы? Она ведь лечится. - Мне было стыдно, будто я во всем повинна.
-
С новоселья началось неудержимо стремительное падение Ларской, продержавшейся трезвенницей в редакции более пяти лет. В понедельник она, как ни в чем не бывало, милой куколкой пришла на работу. Забегала в наш отдел, но, видя мою гневную, неприступную морду, о чем-то шепталась с Колей Рябовым. А вечером они исчезли одновременно. Я уже сострадала не Ларской, а Николаю – если он не знает, то узнает – ему придется доставлять коллегу домой и услышать Мишино «мерзавцы», а может и похлестче. Чувствуя мою замкнутость, Лариса, когда трезвая, не выказывала настойчивости в продолжении наших отношений и уже не читала своих статей, спрашивая: «Ну, как?» Ибо ей было не до творчества. Не скрою, после печального новоселья, еще не раз мы сидели с ней вместе за столом. В выходной день приезжает на такси, возбужденная, принявшая на грудь: «Собирайся, едем к Щукиной. На столе все скворчит и ждет. Мне с Любкой скучно, не тот собеседник, а ты стихи почитаешь. - И уже в машине начинает ворчать: – Почему не требуешь, чтобы телефон поставили. Такси гонять за тобой. Вон, Ступачке поставили телефон. А ей он, как дырка в голову. Ни одна собака не приходит и не звонит». Это ее выражение «как дырка в голову» стало в ходу, хоть и звучит грубее, чем «до лампочки».
И уже за столом, глядя на нее, летящую в алкогольных ароматах, забывшую о критической обстановке в редакции, о доме, где ее ждал муж, дочь, обязанностях и обязательствах, мелькала дерзкая мысль: «А ведь и так можно жить, – все трын-трава, улететь в неведомое, сравняться с инстинктами, почувствовать себя свободной от всех и вся». Но это было на мгновенье. Последствия ажиотажного состояния известны. Любаша с Ларисой уже накручивали телефон своим кавалерам, чтобы продолжить разлюли-малину. Быстро убирали со стола в ожидании гостей. Я собиралась домой, Ларская пыталась задерживать. Но тут вмешивалась Любовь Ильинична: «Хочет, пусть идет. Детскому саду здесь делать нечего». У входной двери я сталкивалась с Жаном Чесноковым, из его карманов торчали бутылки. За ним поспешал Коля Рябов.
Финал Ларской опять же роковым образом связан со мной. Как-то все воскресенье я промаялась с отчетом по августовским совещаниям учителей, зная, что надо писать, откладывала. Так всегда бывает, когда тема не зацепила за душу и есть резерв времени. Весь измучишься, измочалишься, и когда чувствуешь, – время окончательно иссякает, хватаешь ручку и строчишь как ошалелый, будто злые волки за тобой бегут. Ближе к вечеру в окно на Пушкина кто-то постучал и показалось развеселое лицо Коли Рябова. Удивительное дело - во многих компаниях мы с ним были, но никогда я не видела его выпившим. При этом он не пропускал тосты, и лишь слабый румянец свидетельствовал, что пил не аква дистиллята. Открывая дверь, я выговаривала нежданному гостю, своему заведующему отделом:
- Николай Павлович, у меня времени в обрез. Завтра должна сдать материал в номер. Еще нет ни строчки. – И тут увидела, что за ним вялой тенью следует Ларская.
- Не вели казнить, а вели говорить, - шутя, потребовал Рябов, усаживая Ларису на мою кровать. – Ей в таком виде не подобает идти домой. Мать гостит из Уссурийска. Лариса поспит у тебя пару часиков и поедет домой. А завтра, как огурец, - на работу. - И уже, уходя, напомнил: - С августовских совещаний - 250 строк и ни одной больше. Давай подпишу, чтоб сразу в машбюро печатали, пока я на планерке буду заседать. – Взяв чистый лист еще не написанного материала, в уголке неровно черкнул «Срочно Н. Рябов».
Под стук машинки Лариса спала на моей кровати тихо, как ребенок, маленькая, беззащитная. Я выключила большой свет. Комната погрузилась во мрак, светила только настольная лампа. Под машинку подложила подушку, чтоб смягчить стук клавиатуры, нервно поглядывая на часы: не дать ей проснуться пока работают магазины, где бы она могла купить бутылку, и шепча: «Спи, спи».
Лариса пробудилась, когда я потеряла счет времени. С мордуленцией, деформированной похмельем, с трудом понимая, где она, огляделась. Из сумочки достала зеркальце:
- О Господи, ну и видок, - стала прихорашиваться. - А где Рябов? Сколько же времени? Одиннадцать. Вот это да! Сколько же денег осталось от гонорара? Рубль? Что же я матери скажу? Она гонорар ждет, а я его тю-тю. – И вспомнив что-то, расхохоталась: - Представляешь, в эту пятницу пили у Валентины, ну знаешь, наша бывшая машинистка. Утром все разбежались на работу, а ключ кто-то прихватил с собой, и хозяйку закрыли. В обед Валентина мне звонит на работу и вопит: «Помираю. Выйти из дому не могу. Принеси похмелиться». Ну я ловлю машину, в гастроном - и к ней. По себе знаю, каково похмелье – сейчас вот голова трещит. Значит, стою я с бутылкой у закрытой двери, оттуда стоны. Что делать? Я вырвала листы из блокнота, сделала воронку – и в замочную скважину. Часть, конечно, пролилась, однако стоны из-за двери прекратились, значит, на усы попало. - Видя, что я хохочу, Лариса настойчиво стала просить занять 20 рублей. –- Представляешь, я сейчас принесу маме денежку, и она успокоится. А завтра перезайму и верну тебе. Ну, пойми, как я к матери с рублем заявлюсь, ведь она знает, что в пятницу я получила гонорар. Нет, я без денег домой не пойду. – И видя мою неуступчивость, добавила: - Не ожидала, что ты такая скряга.
Все магазины города закрыты, бутылку не купишь, размышляла я, не догадываясь о редких способностях Ларской на этот счет. Искомое она могла добыть из-под земли. В буфете аэропорта. Подобный вариант мне, знающей свой город, как родную ладошку, и в голову не приходил. Об этом стало известно гораздо позже. Получив деньги и на радостях расцеловав меня, Лариса исчезла. А еще через минуту в окне сверкнули фары развернувшегося такси, и у меня в тревоге сжалось сердце.
На следующий день на работу Ларская не вышла. А в ее отдел нагрянула серьезная комиссия из крайкома партии с проверкой. Рабочий стол закрыт. Ключ – у заведующей отделом. Ларской нет ни на работе, ни дома. Возможное место ее нахождения – моя квартира. Откуда это стало известно Куликову, наверное, от Рябова. Вызвав меня, красный от злости, редактор, как всегда, и слова не дал мне сказать. Потребовал написать объяснительную, – что меня связывает с Ларской, почему я с ней дружу и что вчера произошло.
Не помню, неужели я могла написать эту дурацкую объяснительную – абсолют глупости, о том, что заведующая партийным отделом Ларская, избранная недавно членом партбюро, и в целом хороший, добрый человек, страдает болезнью под названием «алкоголизм». Будучи в стадии ремиссии, она стремительно делала карьеру, пока не сорвалась, «развязав обезьянку», как говаривала Вера Побойная.
Все это напоминало другой любопытный эпизод. У нас, в машбюро появилась новая машинистка. Чистенькая, незаметная молодая женщина. Но за ней стали замечать странности. Перепечатывая материал, она вносила в авторский текст свои комментарии, подчас, абсурдные, но не лишенные оригинальности. Позже стало известно, что она пациентка медицинского учреждения, находящегося по соседству с редакцией, откуда сбежала – ее разыскивает психбольница. Журналисты смеялись: при таком раскладе для полного комплекта не хватало в редакции уголовника с другого соседнего учреждения, да у тюрьмы стены повыше, не то что в сумасшедшем доме. Между прочим, когда новый автор по телефону спрашивал месторасположение редакции, мы привычно давали координаты: здание между двумя достопримечательностями города - тюрьмой и психбольницей. Ориентир безупречный для успешных поисков.
Ларскую на третий день обнаружили у Власова, собкорра газеты «Советский патриот». Никто не ожидал такого поворота. У Власова была безупречная репутация. Он пошел, видимо, на поводу обаяния Ларской. Жена уехала к родственникам, и его квартиру назвали притоном, о чем сообщили в Москву, в редакцию. И как следствие, последовали репрессии. Эта симпатичная женщина, «созвездие загадочных манер», развязав в себе обезьянку, шла, сжигая себя и подламывая судьбы окружающих. Уже уволенная, Ларская с прощальным визитом обходила всех своих друзей. Смеясь, а в душе, возможно, плача, говорила о себе: «Я в Биробиджане цистерну водки выпила, вторую, в Хабаровске не дали допить».
Не нахожу странным, несмотря на отчаянную безалаберность, мелкие уловки, Ларскую любили. За купеческую щедрость, сильно развитое чувство товарищества и сердце, широкое, как улица. Легендарная Люба Щукина, всю трудовую жизнь проработавшая в редакции кассиром, и у которой Ларская в дни запоев квартировала, учила ее уму-разуму:
- Лариска, тебе цены не было бы, если бы не водка. Ты пойми, работа - это свято. Вот мы, считай, одинаково выпили. Утром я - под душ, и на работу, а ты - в магазин. Бросишь пить, будешь человеком.
ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАПИСЬ В ТРУДОВОЙ
Наивный человек Любовь Ильинична. Сама не прочь выпить лишнюю стопку, не ведала о силе похмельного синдрома у алкоголика, когда тот готов дьяволу душу отдать. Многое чего не знала Щукина, ругательная наша Любовь Ильинична, редакционная мамка обиженных, отчаявшихся, одиноких журналистов или просто скучающих. Каждый из нас был осведомлен - в Хабаровске есть человек, к кому можно прийти днем и ночью, и сначала вас хозяйка облает, что в неурочный час заявились, а потом приветит, согреет, выложит на стол последнее. И мы все поочередно, от Жана Чеснокова, собкорра «Правды», и Веры Побойной (хотя Вера много раз обещала – «иду последний раз») до новичков, ныряли в ее комнату с подселением, благо, рядом с редакцией. Здесь было тихо, уютно, покойно. Грузная, с эффектными формами Любовь Ильинична привечала в основном «творческих». Не потому что была интеллектуалка. Ей было просто интересно знать, чем дышат журналисты, о чем спорят. Умилялась, когда читали стихи, украдкой смахивая слезу. Но была остра на язычок, быстро распознавая, кто есть кто из новичков, могла и на дверь показать.
Но превыше всех ценила Зину Макарову. Свою верную подружку. Мы поражались, что их связывает. Машинистка Зинаида Виссарионовна, худенькая, учтивая женщина – сама праведность и безупречность. У них частенько возникали конфликты на бытовом уровне. Был такой случай. Приходит после выходных элегантная Зиночка в свое машбюро, рука перевязана, печатать не может. Конечно, вопросы – как да что. Оказывается, Любаша в гневе запустила в подругу вазой. Все в редакции настороженно наблюдали, чем закончится инцидент, предсказывая - все, конец дружбе. Ничуть не бывало. Зина простила. Может потому, что обе они пришли в редакцию сразу после войны сопливыми девчонками на побегушках. Зина освоила печатную машинку, Люба - бухгалтерию. Так вся их трудовая жизнь прошла в «Тихоокеанской звезде». А в личной - одинокие как персты, они не обзавелись ни ребенком, ни куренком. Как известно, свободная женщина не бывает одинокой. И обе, умудренные житейским опытом, на очередного воздыхателя смотрели скептически: «Оставьте ваши фигли-мигли, мы ваш обман насквозь постигли». Они до старости поддерживали друг друга. Зина до конца терпела вздорный характер постаревшей подруги, покинутой журналистами, ухаживала за ней, больной, беспомощной лучше родной сестры. Это не редчайший случай в редакции вот такой беззаветной дружбы на всю жизнь двух очень разных женщин. Впрочем, именно «нетворческие» - машинистки, телетайпистки, курьеры, операторы, уже совсем старенькие, по сей день не теряют друг друга. Перезваниваются, общаются. Нынешний редактор Сергей Торбин выписал всем старикам бесплатно «ТОЗ», и когда хоть мельком появляется в газете имя старого журналиста, не сговариваясь, звонят, поздравляют, случись – похороны (а это все чаще происходит), собирают из жалкой пенсии на цветочки. Но тогда все сочувствовали Ларской. Убеждали ее бросить пить.
Говорить Ларисе общеизвестные истины, что об стенку биться. Ларская и сама могла написать блистательный трактат о вреде пьянства, ибо расплата была жестокой – она оказалась без работы, потеряла Мишу. Устав бороться за жену, он подал документы на развод. Но неожиданный удар из-за угла Ларская получила от ближайшей подруги. Ее Елена Пролесковская вышла замуж за Мишу Дашлейгера.
Вскоре Ларская покинула наш город на долгие годы, но не сгинула безвестно. Жива, здорова, уже в преклонном возрасте приезжала в Хабаровск, собирала документы на оформление пенсии. Решительно прекратила пить. И даже при встрече с Любой Щукиной, которая на радостях из своих жалких пенсионных поставила на стол бутылку, чокалась чайной ложечкой с пятью каплями.
В ЧЕТВЕРТИНКАХ – И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ
Другую школу, обернувшуюся долгими, на всю оставшуюся жизнь годами, я прошла, получая соответствующие уроки от Веры Павловны Побойной.
По непревзойденной высоте достигнутого, не смею Веру, которую судьба и впрямь зацепила золотым крылом, оградив от капризов сменявшихся редакторов, сравнивать с Ларской. Но тогда невольно сравнивала, сопоставляла чисто человеческие качества. По жизненным устремлениям, властности, честолюбию Вера была прямой противоположностью моей первой подруги в газете. Пожалуй, за 80 лет существования « Тихоокеанской звезды», не было столь популярного среди читателей имени журналиста, как Побойная, неуклонно, невзирая на личные перипетии, нездоровье, утраты, доказывающего свое первенство в газете. На новых сотрудников она производила впечатление сильного человека, никогда никому не проигрывающего. Так оно и было. За исключением трех случаев.
Вера своих материалов из-под пера никогда не читала вслух ни мне, ни кому-либо другому, а сразу же несла в машбюро. Ее аккуратно исписанные, без помарок четвертинки листа были буквально нарасхват у машинисток, первых читательниц. Вера приносила в основном нескучные материалы, к тому же их легко печатать – ясный, четкий почерк. Это не мои листы, многократно мною же правленые – поиск точного слова был бесконечен, и я беспардонно вписывала найденные в готовый материал, композиционно меняла смысловые акценты. Так что живого места подчас на листе не оставалось. Расшифровать мою правку было не по силам машинисткам. Характер ее изучили только Тонечка Шерстнева да Вера Сапожникова.
Побойной печатали материалы, как правило, вне очереди. И вычитав, она сразу же несла в секретариат. Не слезала, что называется, с шеи отвсека или редактора до тех пор, пока не оказывался в номере. Уникальная ситуация для журналиста – ее творения никогда за все годы работы никто не правил и не сокращал. Любителей же приложить руку к чужому материалу было в избытке. Когда выношенное тобой слово, образ, «работающую» деталь выбрасывают – это для автора чуть ли не драма. А незадолго до моего прихода в редакцию, в секретариате трудился, говорят, такой гребешок, что даже не расчесывал, а набело переписывал заметки, информации, даже очерки, невзирая на имена, и просиживая в редакции по 20 часов в сутки. Обиды, стенания, угрозы коллег «разбить очки» правщику не возымели действия. И тогда ему подстроили «козу». Перепечатали из «Правды» передовую статью от слова до слова и принесли в секретариат. Он, как хищник, пером вцепился в текст, перечеркал, написав заново, и заслал в типографию в номер. Тогда ему подсунули «Правду» с этой статьей. Гребешок сначала посинел, потом побелел: он посмел замахнуться на «флаг» номера главной газеты СССР? Отучили. Вера Побойная умалчивала, какую роль в этой «школе обучения» отвела себе, но все ее материалы в первозданном варианте шли на полосу. Пахала безостановочно как мощно заряженный электродвигатель. Писала, отдаваясь вся без остатка, сначала в волнении грызла ногти до крови, позже переключилась на ручку. А последние годы нажимала безрассудно на сигареты, выкуривая в процессе работы над материалом до пачки за первую половину дня. К середине месяца она сдавала месячную норму строк и, не давая себе передышки, для самоуспокоения писала впрок. Она была обладателем самых неожиданных, звонких тем. К Побойной шли, ехали обиженные, ищущие правду со всего края. И если в рассказах посетителей она усматривала интересную тему для публикации, хотя к ее отделу, не имеющую отношения, это Веру Павловну не останавливало.
Как-то Вера уехала в командировку, а в тот же день в отдел пришла седая взволнованная вдова фронтовика. Огорченная, что Побойная отсутствует, посетительница мягко попросила: «Завтра просмотр, может, выслушаете, что с нами произошло». К ее рассказу равнодушной остаться было невозможно. Вот о чем он. В тот вечер Федосия Михайловна засветло собрала кошелку гостинцев для старшей дочери Софьи и поехала с Заводской к ней в город. В уютной квартире, пока дочь готовила ужин, смотрела по телевизору «Летопись полувека. Год 1942». Именно в 42-м она получила последнее письмо от погибшего мужа. Пожелтевший листочек: «Добрый день, жена Феня и дорогие детки. Спешу передать вам душевный привет…Дорогая Феня, едем на разгром фашистских извергов. Жив останусь, то увидимся. Это великая будет наша встреча. Пока до свидания. Крепко целую. Ваш муж и отец Проня Вишняков». Встреча не состоялась. В том же 42-м пришло извещение о гибели П.Вишнякова смертью храбрых. Что заставило Феодосию Михайловну всматриваться в голубой экран, чего-то ждать, – она объяснить себе не могла в тот вечер. Многого она не могла себе объяснить. Почему в тот час и в ту секунду оказалась у телевизора ( своего не имела). Не иначе, чтобы увидеть на экране – живого Проню, в шинелке. Когда на крик матери: «Проня, Проничка!» вихрем влетела в комнату дочь, старуха-мать стояла на коленях у экрана и сухими губами шептала: «Отца твоего видела. Узнала. В шинелке. Сюда ушел», - показывала она на край экрана.
На следующий день, на повторный просмотр «Летописи» в тесную комнатку телестудии набилась огромная семья Вишняковых – дети, внуки, племянники, помнившие дядю Прокопия. Выключили свет, и на экране, на фоне осеннего глубокого неба появилось черное, смутное движущееся пятно. Оно росло, обретало форму, и со словами диктора: «Огромная сила скапливалась на востоке страны», вырастало в строгие, стройные шеренги солдат. Первый ряд новобранцев- дальневосточников, второй и с края крупным планом – Проня Вишняков, любимый муж, каким его проводили 30 лет назад, отца четырех детей и деда девяти внуков, убиенного войной. В зале крики: «Вот же он! Проня! Дед! Деда! Отец! Папка!». Потом главреж, напомнив: «Завтра пленку передаем в Приморье», вновь пропускал ее на монтажном столе. На крохотном экране замер солдат – муж, отец, молодой, чуточку печальный. Над 23-летним Прокопием склонилась седая жена.
Фотокорреспондент Володя Пильгуев сделал поразительные, говорящие снимки из студии телевидения. Материал вызвал читательские письма. Догадывалась, Вера спасибо не скажет. Но подобной реакции не ожидала. Кем я только не была, присвоившая чужой материал, залезшая ей в карман. И здесь вступил в силу ее принцип, действующий безотказно, – чтобы поставить подчиненного на место, достаточно не обратить на него внимания. Сидим лицом к лицу в кабинете, а меня не существует. О, эти дни молчанки были нестерпимы. После чего я поклялась ни при каких коврижках не реагировать на слезные просьбы тех, кто пришел к Побойной. Но при этом для Веры было в порядке вещей поступить, в отместку, аналогично с литрабом.
В отделе я организовала студенческий клуб «Кругозор». Его участники – представители всех высших учебных заведений края. Мы проводили рейды по студенческим общежитиям, спортивным комплексам. Под особым контролем держали строящиеся в Хабаровске черепашьими темпами сразу два института – культуры и народного хозяйства. И коллективно воплощали давнюю идею: выявить, как живется и работается молодым специалистам. В отделах кадров институтов добыли списки выпускников, адреса мест распределения, куда направили почти полтысячи анкет. Больше месяца шли ответы. Их я складывала в отдельную папку. А в результате получилась удручающая картина: более половины выпускников-учителей на место новой работы не прибыли. Кроме того, многие медпункты сел, деревень остались без врачей. Это было уже тревожное явление. Переписка, поиск пропавших душ с высшим образованием оказались весьма хлопотным занятием. Я готовилась написать обстоятельный обзор по проведенной акции. Но не тут-то было. В планах публикаций на неделю этот материал значился за В.Побойной, потребовавшей от меня отчет и резюме, что уже не удивило, но крепко обидело. Об этом я не преминула ей сказать, что опять же оказалось моей бестактностью.
Работа в одном отделе, к обоюдному удовольствию, была недолгой, что позволяло на оставшиеся годы избегать чисто рабочие конфликты. Были иные, и множество за 35 лет неотлучности. Мы могли месяцами не разговаривать и даже годами. Из-за пустяков, в основном по моей вине, порой я взбрыкивала, пытаясь сбросить ее непомерную власть над собой. А уж к старости мы, как два дерева, одно малое, другое высокое, неведомо кем посаженные рядом, где каждый лист знаешь, любишь и раздражаешься. Что уж тут делить. Надо было расставаться в годы совместной работы в «ТОЗе». Не случилось. Оказавшись в преклонном возрасте, не проходило ни одного дня, чтобы мы не позвонили друг другу. Наш пароль при плановых встречах, с обговоренным предварительно меню и напитками, оставался неизменным: «Ну как, Константин?» – «Нормально, Павел». И, тем не менее, эта «дружба на всю жизнь» рядовой пенсионерки и супержурналистки, «засраку» - заслуженного работника культуры, к тому же удостоенной на старости лет стипендией краевой администрации, - об этом она никогда не забывала, даже сидя у торшера, - обоюдно для нас не была песней, легкой, идущей от сердца. Другое дело Лю. Абстрагируясь от званий Веры, понимаю, что эти два человека несопоставимы, но они прошли со мной по жизни и умолчать нет сил.
ЧИСТ И СВЕТЕЛ ЕЕ ЛИК
Погружаясь в мутный, с просветами водоем нештатных редакционных отношений, с радостью ждала из Ленинграда весточки от своей Лю. Истая ленинградка, Людмила Рябкова не имеет прямого отношение к «ТОЗу», но она преподала мне уроки бескорыстных, чистых отношений между людьми, когда ради чужого человека можно снять с себя последнюю рубаху, если он нуждается в ней.
Хабаровску исполнилось сто лет, и горожанам от мала до велика вручали памятные значки: на красной эмали треугольника, на фоне заводских труб - цифра «100» и слово «Хабаровск». С этим значком на груди, как с флагом, и с безразмерной сеткой с учебниками за десятый класс, я оказалась в Ленинграде и стояла в очереди за экзаменационными листами в длиннющем коридоре, – на том конце человек смотрелся карандашиком, петербургского здания 12 Коллегий. Общежитие заочникам не предоставляли, в какие только университетские двери не стучала, даже к декану со своей сеткой на прием попала. Мне предстояло ночь провести на вокзале, о чем безрадостно сообщила по соседству стоящим абитуриентам, между которыми быстро завязался разговор. Они взглядывали на мой значок.
- Вы из Харькова?
- Что, читать не можете, из Хабаровска она. - Изучив значок, поправила девушка с роскошной копной русых волос.
- А где это?
- Хабаровска не знаете? – возмутилась я. - Лучший город на Амуре. - Парень в морской форме присвистнул:
- Сколько же вы суток добирались?
- Одиннадцать. На скором поезде. Где же мне якорь бросить? - завела я свою песню. Девушка с копной волос отвела меня в сторонку.
- Если ничего подходящего не найдете, вот мой адрес. Напишу, как добираться. Дома сейчас мама, я ее предупрежу. – С достоинством, взяв адрес, жарко поблагодарила спасительницу.
Волоча сетку к автобусной остановке на Университетской Набережной, не могла оторвать взора от золотых куполов, вознесенных в небо крестов, шпилей, от ажурных мостов узенькой, по сравнению с Амуром, Невы, но в такой невиданно роскошной гранитной оправе, делающей ее величавой. А вот он Зимний дворец, не на картинке, а настоящий. И какая сказочная гармония! Сюда, с Московского вокзала я ехала на такси, так велела мама, чтоб не сперли деньги, не успела осмотреться, впилась в спидометр, сколько накрутит копеек.
Не в силах покинуть обозреваемое чудо, я пропустила кучу нужных автобусов. И уже тогда в сердце поселилась тоска от недоступности видеть всю эту красоту пять студенческих лет. Отец отказался мне помогать материально, если буду учиться на дневном отделении. «Что ты от нас, пенсионеров, требуешь? Зарабатывай и учись заочно» - категорично заявил он. И я уехала на Охотское побережье за романтикой и заработком. Подала документы на заочное отделение, дура. Буду недоедать, голодать, но хоть четыре, три года пожить в этом изумрудном городе, главное зацепиться. Такую клятву я дала себе тогда на пятачке близ университета. На часах было уже семь вечера, а сумерки не приходили. Подъехала к указанному в адресе дому на Восьмой Советской уже в восемь, было светло как днем. Наверное, с часами что-то: «Скажите, который час? - спросила я прохожего. – Почему не темнеет?» Так ведь белые ночи! Все как у Достоевского.
В махонькой комнатке, оставив позади просторную кухню, с полудюжиной газовых плит, кухонных столов, еще не старая женщина радостно, иного слова не найду, встретила меня:
- Да, да, Людочка предупреждала. Проходите, располагайтесь. – Но проходить было некуда, на метровом пятачке не разгуляешься, остальную площадь занимала единственная кровать, впритык шифоньер и столик с табуреткой. Это что же, они на одной кровати спят? А где же я? – Не беспокойтесь, у нас раскладушка есть, - подслушав мои мысли, заметила хозяйка. - А сейчас мы будем ужинать. Люда не скоро придет.
-
Тогда же я узнала, что до войны семья Рябковых занимала в этой квартире три комнаты. Во время блокады каждую комнату продавали за буханку хлеба, и вот осталась самая маленькая. В блокадном Ленинграде Анна Васильевна, ставшая позже моей второй мамой, работала вагоновожатой, имела ранения, не раз ее трамвай попадал под бомбежку. А сейчас, выйдя на пенсию, в детском саду моет полы и нынче уезжает в Зеленогорск на все лето с детьми в пионерский лагерь.
В этой клетушке я, чужой человек, не платя ни копейки, деньги наотрез Людка отказалась взять, прожила больше месяца, пока сдавала вступительные экзамены и шла установочная сессия. Клятву, данную себе на пятачке Университетской набережной, сдержала – на втором курсе, из кожи вон лезла, перевелась на дневное отделение, сдавая на «хор» и «отл» десятка два экзаменов и зачетов, догоняя дневников. Перевод студентов на заочное отделение было явлением типичным, достаточно согласия декана. А вот перевод с заочного на дневное, рассматривал Ученый совет университета. Уж здесь, наверное, без вмешательства моего ангела-хранителя не обошлось. И все годы студенчества, днем и ночью двери этой уютной клетушки на Советской были для меня открыты. Ключ от комнаты лежал на общей кухне в заветном месте. На столе записка: «Катя, борщ на подоконнике. Там же котлеты. С приветом Лю».
Я неделями могла не являться на Советскую, но блюда на подоконнике и записка освежались. Не являлась потому, что, во-первых, не хотелось наглеть, пользоваться добротой этих чудесных людей. А во-вторых, попросту не было шести копеек на автобус, чтобы добраться с Васильевского острова. Жили впроголодь. Подкармливались задарма не в студенческой, а в соседней академической столовой. Для научных работников на столах бесплатно хлеб и салат из капусты. Мы занимали столик, и прикрывшись балетками, украдкой поедали на халяву все, что было на столах. Видя, какой разор наносят студенты, при входе в эту столовую стали требовать пропуска. В своей пятиэтажной общаге мы досконально знали, в какой комнате будет пирушка, то ли день рождения, то ли возникшая стихийно, и о пустых бутылках в долг договаривались предварительно, пока организаторы ее трезвые. Пили студенты поразительно много, даже больше, чем северяне на Охотском побережье, стаканами. С чего бы это? Утром собирали стеклянную тару и бежали сдавать в киоск. Долг в денежном выражении отдавали со стипендии. Такая форма обмена для богатеньких студентов была выгодной. Но богатенькими были в основном негры и кубинцы, они получали по две стипендии, золотым дождем их осыпали сразу две страны, родная и СССР. Китайцы тоже себе ни в чем не отказывали, но в отличие от кубинцев были трезвенниками и много зубрили. Когда на кухне они готовили свои блюда, все пять этажей заполняли специфические запахи мяса и капусты, от которых хотелось бежать прочь. Вскоре, при усложнившихся политических отношениях с Китаем, в полном составе китайское землячество отправили на родину. А они не остались в долгу, «отблагодарили».
В одной комнате с моим однокурсником Сашкой Бацулей, «Генералом вин» проживали два китайца. Один из них нас сфотографировал, когда мы отмечали день рождения Сашки, а я играла на гитаре, которую привезла с собой из Хабаровска. Низко кланяясь, узкоглазый фотограф готовые снимки раздарил нам всем. И вот в китайской газете под рубрикой «Образ жизни советских студентов» появляется этот снимок: на переднем плане стол с бутылками, наша группа и в центре я с гитарой. Вот, засранцы, запоздало возмущались мы. Но в деканат нас не вызывали, может потому, что на клише лиц не различишь.
Фотография сохранилась, я на ней в своем вигоневом, черном свитере. «Легендарном». Все годы учебы в нем ходила на лекции, в публичку, театры. На третьем курсе, в связи с образовавшимися дырками на локтях, это уже была кофточка, а на пятом – с аккуратно отрезанными рукавами свитер превратился в жилетку. При этом филологический факультет, с которым мы делили одно общежитие, имел в Ленинграде репутацию второго дома моделей.
К нам, на Симанскую, на танцы стремились попасть парни со всего города. Ленинградки-филологини действительно аховые девочки. Мы, студентки-журналистки, чтобы не нарушать феерию блистательных, смело декольтированных особ, в своих блеклых одежках держались незаметно, у стенки, да нас и никто не приглашал танцевать. Комплекс неполноценности въелся в душу со студенческих лет. Как-то я позвала на танцы Людку. Моя надмирная подруга, сотканная из луча, духовно богатый человек, надела самое нарядное платье, конечно, не из экзотического магазина на Невском «Смерть мужьям», а изделие тети Ани. Однако у этой отличной девчонки с копной прекрасных спелой пшеницы волос не оказалось партнеров, которые, как мотыльки, летели на супер-девочек с макияжем, бирюльками на полуобнаженных грудях. Между прочим, ректор университета, академик Александров провел тест на интеллект и эрудицию. Первые два места из тринадцати факультетов поделили физики и журналисты. Наш курс не участвовал в этой акции, но было приятно за своих умненьких собратьев. Да и мне было далеко не безразлично позже сделанное профессором, моим куратором папой Хавиным заключение: «Эта дремучая девчонка из Хабаровска за неполный курс обучения на стационаре взяла больше, чем студенты-ленинградцы». Это он, на лекциях по стилистике, вбивал нам в головы: «Леонид Лиходеев в «Литературной газете» своему прекрасному фельетону дал безграмотный заголовок «Фиговые листья профессора Князева». Фиговый лист в данном случае может быть в единственном числе. А если от вас, господа журналисты, услышу слово «кушать», вашего папу Хавина хватит удар». И все равно, кушать хотелось постоянно.
Висевшее в вестибюле факультета объявление: «Студент! Если не хочешь попасть в крематорий, бери путевку в профилакторий!» было соблазнительной фикцией. Очередь, как за хлебом после войны, да и где взять деньги за путевку.
На себе узнала, что значит «студент слюной подавился». В те годы прилавки магазинов Ленинграда ломились от обилия изысканных продуктов. В колбасных отделах приникнешь к стеклянной витрине, томясь, читаешь незнакомые названия: «карбонат», «буженина», «шейка». А под ценниками - пиршество богов, и запахи такие, что можно помереть и не встать. Сколько наших оголодавших девчонок в обморочном состоянии выводили из волшебного Елисеевского магазина! И если я не оказалась в их рядах, то только благодаря Лю и ее маме. Когда было совсем уж невмоготу, наша комнатная коммуна скидывалась по копейке на автобус и отправляла меня на Советскую. Мало того, что тетя Аня накормит, так она еще макарон наварит, посыплет тертым сыром, презент для моих девчонок. А они уже дежурят у окна на пятом этаже. И завидев меня, с прижатым к груди щедро наполненным газетным кульком, кричат: «Ура! Несет!» Встречают, как доброго деда Мороза.
Дочь с матерью подкармливали меня и нашу комнату. А сами бедовали. Я была свидетелем, как в их комнатку ворвалась инспекторша из домоуправления, крича: «Полгода не платите за квартиру! Выселю без разговоров. Денег нет? Пить меньше надо. Соседи рассказывают, на что вы деньги тратите». – Тетя Аня сидела, низко опустив голову. И для меня было новостью, что за квартиру не плачено, ведь в этой комнате предостаточно тушенки, разнообразных круп, сгущенки. Позже поняла, для недавних блокадников продуктовые запасы это свято, это как болезнь. Выпившей я Анну Васильевну никогда, кроме одного случая, не видела, но в карманах старых курток мы с Лю находили пустые «мерзавчики», чекушки. И Людка чуть не плакала. А этот случай меня потряс.
Целый месяц тетя Аня ждала своей очереди на прием к секретарю Ленинградского обкома партии Толстикову. У Рябковых только и разговоров о расширении жилплощади, о новой и не мечтали. И вот Анна Васильевна собрала все документы – в партию ее принимали в 42-м году, партбилет скукоженный, обгорелый. После бомбежки горел трамвай, вагоновожатая тетя Аня успела открыть двери, чтоб выскакивали пассажиры, а ее саму зажало горящей дверью, она чудом, чуть живая выпала из кабинки. Такому героическому человеку Толстиков должен уделить особое внимание. Но когда он узнал о причине визита, и слушать не стал. Так и сказал: «Вас, блокадников, пруд пруди. Надоели. Выжили и лезут как клопы». Может быть, тетя Аня преувеличила, но «про клопы» сквозь слезы повторяла постоянно. Однако факт остается фактом, главный коммунист Ленинграда так ее оскорбил, что она положила на его стол обгорелый партбилет, повернулась и ушла. «В такой партии быть не хочу», - говорила она. В тот день тетя Аня и вправду напилась, собрала по телефону блокадниц, вагоновожатых, каждую встречала рассказом о клопах. Мы с Людкой только успевали мыть посуду и готовить закуску. С тех пор стали появляться в карманах курток пустые мерзавчики. Людка, как могла, боролась и небезуспешно. Но личная жизнь моей подруги не сложилась, замуж она не вышла. Может быть, потому, что до тридцати лет так и делила с матерью одну кровать.
На пятом курсе нам повысили стипендию до сорока рублей. Да и мама в конвертике посылала не три рубля, а пятерку, мы зажили более-менее безбедно. Работая на Колыме, я откладывала с каждой зарплаты энную сумму. И когда Люда решилась вступить в жилищный кооператив, незамедлительно выслала стартовый капитал. Приезжая в отпуск в Ленинград, останавливалась в их двухкомнатной, светлой квартире на Академической. Тогда они остро нуждались в установке телефона. Тетя Аня, уже больная, не могла хлопотать, Людке во всех инстанциях отказывали. Из Хабаровска я написала пронзительное письмо прямо Брежневу. Буквально через неделю у двух женщин был телефон.
В одну из наших встреч, будто чувствуя, что она последняя и мы больше никогда не увидимся, на страну налетит черным вороном реформа и закроет доступ на самолет рейсом «Хабаровск – Петербург», Люда подала мне пачку писем, бережно перевязанную тесемкой. Что это? Мои письма Людмиле, все, до единого. За тридцать лет! Тогда же мы дали клятву, что бы ни случилось, какие бы монблановые преграды не стояли перед нами – закрыть друг другу глаза.
БРОСАЕМ НА «МОРСКОГО»
Как и прежде, к концу дня, когда голова после сданных материалов была как тяжелый чугунок, собирались в кабинете Побойной, и чтобы отключиться, играли до умопомрачения в «крестословицу», придуманную писателем Набоковым. И здесь Вера была в передовиках, набирая на словах самые высокие очки – словарный запас у нее богатейший. И постоянно напоминала, как тяжело даются строчки в отделе пропаганды, не то что в прежних, которые она возглавляла.
Отделу школ, науки и культуры с заведующими не везло. При мне их было трое. Четвертый, Николай Рябов, за свою журналистскую жизнь столько перечитал рукописей, читательских писем, что стал катастрофически слепнуть. Внешне сибарит, аристократ, он не терял присутствия духа, и никто не слышал от него стенаний по поводу надвигающейся слепоты, бесконечных операций. Он жил поэзией и был непревзойденным импровизатором.
Сидим как-то втроем в ресторане, голодные, как волчата, ждем пока официантка принесет заказ. «О, ненавязчивый советский сервис! Я тебя люблю», - иронично замечает Вера, вся нахохлившись и завернувшись в шаль. Николай достает из внутреннего кармана ручку, миниатюрный блокнот и что-то пишет, отрывает листок с экспромтом: «Лижу, как безумный, я Верину шаль, и грудь разрывает глухая печаль». Хохочем, веселеем, ждем официантку. Вера роняет:
- Так кто напишет в «Капкан»? Чтоб не было обид. - И смотрит в мою сторону с упреком, имеющим подтекст взаимных «краж». - Бросим на «морского».
Из спичечной коробки извлекаются три спички, одна обламывается, и из кулачка Веры выглядывает невинный пучочек. Поочередно вытягиваем, обломанная достается мне. Нет, не стельную корову выиграла. А хлопоты - расследование конфликтной ситуации, возникшей полчаса назад в гардеробе «Уссури», очевидцами которой мы были. В ресторан пришла молодая пара. У счастливой, с хорошим лицом девушки, в руках букетик хризантем, а на ногах - сапоги. Спутник помог надеть подруге туфли. Девушка смущалась, видимо, прежде никогда не была в подобных заведениях. Гардеробщик категорически отказался принять сапоги и погнал молодого человека в магазин за сеткой. Понятно, что никаких целлофановых мешков в природе тогда не было, а дурь администрации или гардеробщика имела место в большом количестве. А возможно, пожелал получить «на лапу». Растерянная девушка стояла у окна в фойе ресторана в туфлях, к ней цеплялись завсегдатаи, спотыкаясь о рядом стоящие, в ожидании хозсетки, сапоги. Настроение гостьи явно было испорчено.
Вера много лет вела любимую читателями на четвертой полосе рубрику «Капкан», которую позже, очевидно, усмотрев в этом названии криминальный смысл, переименовали в «Свежий ветерок». Здесь печатались подборки юмористических материалов на частные явления текущей жизни. В повседневных буднях встречалось столько бытовых и служебных несуразиц, административной глупости, как этот нелепый случай в «Уссури», что подобные факты так и просились в «Капкан». Материалы, как правило, небольшие по 70-100 строк, полные блеска юмора, словесной раскованности, немногословной метафоры.
Мне чертовски нравилось писать в «Капкан», хотя эта маленькая фитюлька требовала особого вдохновения, но процесс работы доставлял, если находились нужные слова, наслаждение. Уже и заголовок пришел: «С авоськой по городу», а за ним первая, приблизительная фраза « Когда мне невмочь пересилить беду…», кто-то садится в синий троллейбус, другой же…».
- Смотри, Павловна, а наша спутница уже пишет, - заметил Николай, хотя, понятно, ни бумаги за столом, ни пера в руке не было.
– Точно пишет, - подтвердила Вера, напомнив общеизвестное. - Ты завтра выясни, чья это инициатива - гардеробщика или дирекции. - И меняет тему разговора: – Не забыли, завтра летучка. Обозревает Пошатаев. Ну держитесь, ребята.
О, эти летучки, где тебя могли уничтожить надолго или вознести на пятнадцать минут в облака. Проводились они раз в неделю. Критик в деталях и нелицеприятно анализировал вклад каждого журналиста, чей материал выпадал на обозреваемую неделю. Иной раз обозреватель вцеплялся мертвой хваткой в чье-то имя, цитируя не понравившиеся ему строчки, выставляя автора на всеобщее посмешище. Многое зависело от личности обозревателя. Впрочем, технологию летучек очень точно отобразил Н.П. Рябов в стихах, написанных на мелодию «Вот солдаты идут», которые распевали в те годы журналисты «Тихоокеанской звезды»:
Вот летучка идет,
Журналисты грызутся,
Критик мечет и рвет,
Аж поджилки трясутся.
Говорит про загон*,
Про порочность текучки,
Про плохие клише и про все,
Что в душе
Всяк копил до летучки.
Вот летучка прошла,
Пострадавших обмыли.
И опять про дела на неделю забыли.
Позабыт и загон,
И порочность текучки,
И плохие клише,
И про все, что в душе
Всяк копил до летучки.
* Загон – наличие материалов в портфеле редакции впрок
Здесь нет преувеличения. И «грызлись», и были «пострадавшие». За лучшие перья, за строки в редакции шел непрерывный бой, инициируемый и поддерживаемый редколлегией и профкомом. Честолюбие, тщеславие журналистов всемерно поощрялось. Изобретались какие-то трехзначные баллы – за качество, срочность, актуальность, и еще дюжина показателей, характеризующих работу каждого отдела, пишущей персоны помесячно и поквартально. В бурных дискуссиях утверждались победители, которых неустанно щелкали фоторепортеры Володя Пильгуев и Николай Шкулин. На доске соцсоревнований висели снимки сотрудников группами и по одиночке, а в их отделах - красные флажки. И мы, как бегуны – кто быстрее, преодолевали нескончаемую дистанцию с препятствиями, кто-то хватался при этом за сердце, другой за голову. Но редко кто покидал ее.
Ко всей этой суете Николай Рябов относился философски и довольно хладнокровно. Он надумал уходить с заведования. Но пенсионные годы еще были впереди, головушка работала ясно и светло, а читать кипы рукописей повестей, романов с немыслимыми читательскими почерками было уже не по силам. Николай Павлович перевелся в Хабаровское книжное издательство, где издал давно желанный сборник своих стихов.
И ПРИБЫЛ ДЕСАНТ ЛИТЕРАТОРОВ
Почти год в отделе школ, науки и культуры я функционировала в двух ипостасях – литраба и неофициально заведующей, без всякого «И.О». Приходилось работать и «за того парня» – составлять планы публикаций на месяц, квартал, писать отчеты, каждое утро являться на планерки, где члены редколлегии вершили политику очередного номера газеты. А тут в Хабаровск прибыл мощный литературный десант во главе с лауреатом Ленинской премии, автором повести «Брестская крепость» С.С.Смирновым, очень популярным тогда по телевизионной передаче «Поиск», которую он вел. Дни советской литературы проводились и раньше. Но на этот раз данная акция была приурочена к 50-летию образования СССР и 50-летию освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев. И по составу гостей – более 50 видных писателей и поэтов страны, и по размаху торжественности, помпезности, аналогов не имела.
Среди гостей сатирики, поэты Вадим Шефнер, Лариса Васильева, Борис Ласкин, Илья Фоняков, дважды лауреат Михайло Стельмах, совсем молоденький Григорий Горин, печатающийся в «Юности» под псевдонимом Галка Галкина. И, конечно же, наши недавние земляки Римма Казакова, Николай Задорнов. Называю лишь малую толику гостей, чьи имена и по сей день наслуху. А еще представители Прибалтики и всех до единой южных республик. И каждому нужно уделить внимание, чтобы его имя прозвучало в газете, ибо публикации об их деятельности, во время проведения дней литературы, шли в отчет секретариату правления Союза писателей СССР, затеявшему громкую акцию. И позже в Москву отправлялись пачки «ТОЗа». Планировалось, что газетные полосы под рубрикой «Дни советской литературы на Дальнем Востоке» будут печататься из номера в номер.
Когда увидела программу проведения этих дней, схватилась за голову: митинг на сопке Июнь-Корань, встречи на заводах «Энергомаш», «Дальдизель», заводе Кирова. Затем гостей делили на три группы: одни отправлялись в села Еврейской автономной области, другие на «метеоре» по Амуру, третьи – к пограничникам. А читательские конференции, книжные базары, встречи с читателями – в парках, клубах. Со всех этих мероприятий нужны репортажи, информации, заметки. Кто их будет готовить да еще в режиме «срочно»?
На первых порах руку помощи протянула хабаровская писательская организация. Ее ответственный секретарь Виктор Александровский оперативно выступил не только с рассказом о литературном вкладе каждого гостя в процветание советской литературы, но и с обещанием, что наше дальневосточное рукопожатие будет крепким, сердечным. Предложил для публикации главы из романов гостей, стихи, которые немедленно были опубликованы под рубрикой «Навстречу дням советской литературы».
А с прилетом десанта пришлось крутиться как белка в колесе. Звонить во все районы, где ждали литераторов, просить подготовить информационные отчеты. Добывать в крайкоме партии доклад, с которым секретарь по идеологии Лапшин будет выступать на первом большом литературном вечере во Дворце профсоюзов, и быть на встрече, завершившейся в ресторане шумным банкетом, на который приглашали узкий круг. Журналистов в «Центральный» не звали. Да и не до того было, ночью предстояло писать отчет, за которым дядя Ваня должен приехать ко мне домой до начала рабочего дня.
Знала другое – чего бы это ни стоило, взять, вырвать у того же Леонида Ленча или Давида Самойлова что-нибудь из неопубликованного. И с утра, передав дяде Ване материал, пока писатели не разъехались на иные встречи, как дура, кинулась в гостиницу «Центральная», чтобы застать и выпросить заветные рукописи. У администратора выявила номера, где разместились литераторы. Робко постучала в дверь одного из номеров. Не отвечают. Я крепче. Глухой голос: «Открыто, мать твою». Вхожу – о, Боже, куда попала? В номере так, как поется в студенческой песне: «Утро в окнах, кончен пьяный бред, все проснулись трезвые и злые: на столе прокисший винегрет и бутылки варварски пустые, кинул взгляд на смятую кровать, на свои изжеванные брюки…» Не иначе. Однако на дне несчетных бутылок еще оставалось кое-что. Усмотрев сквозь не выветрившийся сигаретный дым этот факт, именитый гость дальневосточников потребовал слить остатки, иначе говорить на серьезные темы не способен. В двух других номерах атмосфера была чуть получше, похмелялись за чистыми столами, а в четвертый – не пустили, сквозь смех, через дверь объявив: «Приходите через час».
Но тем не менее в клювике принесла пачку рукописей в редакцию. Пока разбиралась, за репортажем на торжественный митинг на Волочаевскую сопку уехал Борис Иванов. Читая предложенные для публикации блистательные стихи, главы романов, не верилось, что это написали те же похмельные люди с изжеванными брюками, кого я встретила после ночного сабантуя. То, что творческие люди пьют с избытком, не было новостью. Но вот на праздновании 50-летия «Тихоокеанской звезды», на которое были приглашены редакторы всех областных газет страны, гости, прости мою душу грешную, будто собаки с цепи сорвались, на их фоне хабаровские журналисты смотрелись трезвенниками. Как рассказывала Вера Побойная, повезли редакторов по Амуру, к мосту на рыбалку, на это мероприятие приглашали только членов редколлегии. Конечно, на палубе коньяк в избытке, красная икра, на рыбалке – уха из свежей рыбы, водка – залейся. Наши ребята просто веселые, а гости с Урала, Перми, Москвы по трапу на четвереньках ползли и до кубрика дойти не могли, возлегали на палубе. Одного с трапа снять не удалось, матросы так и положили его в обнимку с трапом. Обсуждая этот парадокс, мы пришли к выводу, что дома их держат в ежовых рукавицах, к трезвости обязывают должность и близость парторганов. Вырвались и пошли наверстывать упущенное. С писателями, видимо, то же самое.
Среди рукописей, востребованных у гостей, оказались стихи Александра Жарова, знакомого всем по пионерской песне «Взвейтесь кострами, синие ночи». Но то, что прочитала, было так непохоже на хрестоматийный оптимизм поэта. В новой подборке столько печали, сомнений, в стиле раннего Николая Асеева, который «по слободе шел и свободы не нашел», вопрошая: «как я стану твоим поэтом, коммунизма племя, если крашено рыжим цветом, а не красным время». Сам Жаров не приехал и с кем-то передал свое творение. Большой поэт и столько скептицизма, боли. Сдавать в печать? Как в тот момент мне не хватало Н.П. Рябова, его мудрости, решительности. Взяв стихи, пошла в секретариат, посоветоваться, где на меня обрушилось:
- У тебя что, крыша поехала? Да за такие стихи, знаешь, что будет! - Вступился Валя Бавин, - Вот ты сдала Леонида Ленча «Человек лежит на земле» из его «Рассказов на ходу». Бьюсь об заклад, что этот фельетон ни одна центральная газета не взяла для публикации. В подтексте авторская мысль понятна, - советский человек никем не защищен, цензура с подобным не согласится. Но редактор на свой риск подписал, уже стоит в полосе. Впредь усвой: столичные литераторы везут нам то, что не проходит по цензурным соображениям в московских изданиях.
Две недели, во время пребывания десанта, стенографистка Верочка Раздобреева работала без выходных. Из Хинганска, Бирофельда, Троицкого, Богородского, Николаевска-на-Амуре поступали заказанные местным журналистам информации. Не откладывая, быстро вычитывала, редактировала, считала строчки и тихо мечтала встретиться с Риммой Казаковой. Но в газете уже поместили материал КрайТАССа Миши Ханух. Он первый успел взять у Риммы прелестное интервью о том, что мы с гордостью и любовью числим ее своей землячкой, какая бы прописка не значилась в ее паспорте, и что сейчас вокруг нее сотни друзей, близких знакомых. Напрашиваться на встречу не решилась – нынче Римма Федоровна, как небо высоко от меня. И уже позже, встретившись в Москве, она мне попеняла на не встречу в Хабаровске.
Завершив мощный букет материалов отчетом «Прощание с краем», пропустила освещение августовских совещаний учителей, за что получила нарекание. И вздохнула свободнее, когда из Амурска прибыл редактор тамошней районки, мой новый шеф Гена Зырянов. По возрасту и статусу заведующего отделом Геннадий Степанович. При шляпе и галстуке, явно доставлявших хозяину ощущение дискомфорта. В новеньком, только что из магазина костюме, домашние с шиком собирали кормильца (у него трое сыновей) в большой город на новую работу. Впрочем, шляпу он потерял в один из воскресных вечеров в парке культуры, в процессе встречи со старым дружком - тезкой Ващенко, весьма пьющим и некорректным человеком.
Новый заведующий, в отличие от прежних, к моему удивлению, поначалу не черкал написанное мной. Нехотя, скупо пояснил: «Я твои материалы в Амурске читал. Думал, кто такой Гриценко? По-бабьи пишет, проникновенно». Позже поняла, что это был комплимент. Потеряв третьего игрока, Вера стала привлекать к игре в крестословицу новенького. Сначала Геннадий отнекивался, смущался, догадываясь, что эта игра не для простачков, а своеобразный тест на багаж словесника. А потом вошел во вкус. Но к перу, чтоб доказать его золотинку, особо не стремился. Его отчет с краевого совещания под ударным заголовком «Высокий долг работников культуры» с набором дежурных фраз «Вся наша партия, весь советский народ живут под глубоким впечатлением и воздействием ХХIV съезда партии», не блистал оригинальностью. Впрочем, на такие темы писать иначе было нельзя. Парочка других заметок с отчетных концертов свидетельствовала, что автор их «звездеть» не стремился, да и «звездеть» явно нечем. У Геннадия Степановича были иные способности – он «чувствовал» чужой материал, умел классно макетировать номер. В редакции ходили слухи о новых перестановках и Зырянова прочили самым главным в секретариат, а это поистине штаб редакции. Пиковый туз, поначалу пренебрегавший новеньким из районки, стал более снисходительно относиться к Зырянову, уже не комментируя его грубоватый, подчас беспардонный юмор, которым сопровождалась игра в слова. Так и слышу голос Геннадия Степановича:
- Сегодня пришло письмо о проведении вечера, посвященного ноябрьскому празднику. В клубе собрался деревенский люд – яблоку негде упасть. А киномеханик напился и объявляет: «Я вам фильм сейчас праздничный покажу». Открывается занавес, свет гаснет. А на экране - неприличный предмет, и еще потряс его сверху вниз. В зале возмущенные и одобрительные смешки. Тут же колхозный партийный секретарь: «Ты что, сукин сын, делаешь?». А киномеханик как ни в чем небывало поясняет: «Ну и что такого – увеличенный гвоздь показал». В кабинете смех.
- В деревенском клубе - гвоздь на экране, а в краевой газете тоже без «чп» не обходится, удрученно напомнил Туз о недавней, неприятной ситуации, постигшей коллектив. А причина – день седьмого ноября, красный день календаря. Всенародное торжество, сопровождающееся традиционным сабантуем. Начиналось, как водится, с невинных напитков – с «сухаря», десерта. А потом по традиции разошлись.
ЗА «ДОСЫЛ» – НА КОВЕР
В отличие от общередакционных праздников, проводимых масштабно, в красном уголке, где накрывались столы буквой «Т» или «П», дни рождения, как правило, носили локальный характер. Именинник избирательно собирал гостей в своем кабинете. Помню, когда всеми любимому Толе Карпычеву исполнилось тридцать, в его сельхозотдел набилось рекордное число, человек 15-20. Ждали 18-00, когда закончится рабочий день и можно бесстрашно начать. Тон задавал Николай Рябов, написав в качестве подарка целую поэму об имениннике, как предколхоза страшится приезда из «ТОЗа» парня с рыжей головой, «начнет расспросы да допросы, как повышаем жирность молока, когда расчистим клин под дикоросы, когда скрестим с несушкою телка». И в такой эскападе юмора протекало торжество. Пили за здоровье именинника, требуя от Рябова повторить: «Не опасайтесь, милый предколхоза, на поле не стремится люд из «ТОЗа». Сегодня в «ТОЗе» свой большой изъян, сельхозотдел не то чтоб не тверезый, а фигурально выражаясь – пьян». С опаской взглянув на Толю Рудака, Николай продолжал: «Р.Анатольев – спортобозреватель. Он и Рудак же – сельский репортер, пост занимает в секретариате, и от усердья стул уже протер». Но тезка Карпычева, чародей трудоспособности А.В.Рудак не обижается. Толечка поздравил юбиляра и убежал в свой секретариат. Тем временем стаканы «весело и кротко» продолжали звенеть. Подобные торжества не выходили за рамки кабинета, за «досылами» – новыми порциями шнапса не отправляли в магазин. А жаждавшие продолжить, делали это в домашней обстановке – направлялись гурьбой к имениннику.
Иное дело общередакционные праздники. Здесь бразды правления и подготовки брала на себя, как правило, Лидия Николаевна Косенко. Она обходила все кабинеты со списком, выясняя, кто берет свою «половину». Но с женами, мужьями особо не ходили. За исключением одного самого прекрасного и жданного праздника - 50-летия «Тихоокеанской звезды». К нему долго и радостно готовились. Здесь уж на торжественную часть, проходившую в здании Высшей партийной школы, где вручались грамоты, подарки, приглашали даже взрослых детей. Мы, «тозовки», чтобы выглядеть поприличней, пожалуй, впервые воспользовались услугами ателье, которые раньше игнорировали из-за нехватки времени на всякие примерки. К торжеству пошили обновки. Банкет строго по пригласительным билетам проходил вне стен редакции – в помещении студенческой столовой медицинского института. Гостей было раз в пять больше, чем сотрудников газеты. Мы потерялись в шумной толпе, нас просто никто не замечал. Кое-кто за нашим столиком решил было элементарно напиться за бесплатно и натанцеваться. Но и это не удалось. За центральным столом на возвышении, на сцене, где разместились члены редколлегии, Куликов восседал с супругой Натальей, крупной, выразительной женщиной. Она, как орлица с высоты, зорко и строго взглядывала на сидящих внизу, изучая уровень раскованности каждого. Федору Георгиевичу явно было не до того. Он устал от серии утомительных торжеств, осуществляемых, согласно программе, поэтапно: для «оченно» высоких гостей - встречи в крайкоме партии, рыбалка, на соответственно подготовленном участке Амура, где рыба сама плывет на крючок, закрытый банкет в ресторане «Центральный», для толпы – вот этот в столовке-сарае. За нашим столом какой-то чужак беспардонно распорядился бутылками. И мы трезвые и злые, прихватив грамоты в оригинальных твердых обложках-книжках алого цвета и скромные подарки за добросовестный труд в газете-юбиляре, ретировались.
Во много крат родней, теплей проходили торжества в редакционном красном углу. В годы правления Куликова это тусклое, заваленное хламом помещение было превращено в уютное место, где мог собраться коллектив. И служит оно этим целям, по сей день. Перед полувековым юбилеем газеты здесь долго стучали молотками, пылили цементом и песком ремонтники. Вошли и ахнули - роскошный музей: в центре модель морского судна, по стенам под лак, как в крайкомовских кабинетах, изящные шкафы, под стеклами сувениры, грамоты, медали, старинные карты, подшивки первых номеров «ТОЗа». Но с годами сувениры стали потихоньку исчезать. Музей превратился в красный уголок, куда прятались от посетителей журналисты, чтобы написать очередной шедевр. Здесь проходили летучки, торжества.
Библиотекарь Лидия Николаевна собирала деньги, закупала продукты. Рассаживала сотрудников по соответствующему рангу. Отдельным списком шли «одиночки» - это я, Рая Рябенко, Надя Никульшина. Вера Побойная приходила без Бориса и вместе с Пиковым тузом и членами редколлегии садилась поближе к редактору. «Нетворческие» устраивались вместе. Нам же, журналисткам-одиночкам предоставляли отдельный стол. Злого умысла Лидия Николаевна, сама доброта, не имела на этот счет, но подобная бестактность, подчеркивание неполноценности твоего социального статуса, мягко говоря, коробила.
И без того одиночество хлебала полной чашей. В будни спасала работа. Но особенно отчетливо эта неприкаянность ощущалась, когда мы всей редакцией возвращались после ночного сеанса кино. В те годы заграничные фильмы с Ален Делоном, Софией Лорен можно было увидеть только на закрытых просмотрах. Фильмы показывались в здании ВПШ и были рассчитаны на узкий круг партийных и советских работников. Начало сеанса - в полночь. В часа три ночи зрители битком набитого зала высыпали на черную пустынную площадь Ленина. Сначала шли группой, обмениваясь впечатлениями, а потом растекались по своим улицам. И все буквально парами: Рудак с женой, Коля Рябов с Аннушкой, Вера с Борисом, Коля Чековитов с Ларисой. А я оказывалась одна в черной, тревожной ночи. Вступая на свою грозную, гулкую улицу, оглядывалась на уходящие пары, издали они казались бодро движущимся единым целым, и откуда-то приходили строчки: «Мы ангелы с одним крылом, летать мы можем, лишь обнявшись». Сердце мое сжималось, нет, не от страха, а от сознания, что ты никому не нужна и дома тебя никто не ждет. Неужто это на всю жизнь – с одним крылом. В редакции «ловить» было некого, у всех хороших мужиков – семьи, они друзья. Но вот такое подчеркивание возмущало. Ивенский, дабы выразить протест, на торжествах садился с одиночками, и смешил до слез – у нас получалась самая веселая компания.
За отдельный стол приглашались собкорры центральных газет. Игорь Гребцов -«Советская Россия», Жан Чесноков – «Правда», Юрий Голубцов – «Труд», Виталий Туманов – «Строительная газета», Арнольд Пушкарь – «Известия». Почти все они состояли на партучете в нашей редакции. Куликов выступал с горячей речью, подводил итоги, провозглашал первый тост за отчизну, за родную партию. Все дружно сдвигали бокалы. Бутылки с вином быстро опустошались. И тут, подстрекаемый энтузиастами, появлялся с подносом дядя Ваня, водитель редакционного «газика». Он смущенно обходил пирующих, и на поднос бросали столько, сколько, кому не жаль, особенно щедры были собкорры. Водитель отправлялся в известную только ему торговую точку за «досылом» - так в газетном деле называют материал, досылаемый в номер в последний момент. Безропотно и щедро вносил свой пай в пирушку и «досылы» Толя Рудак, но он был в нашей стае белой вороной– ничего, кроме лимонада, не пил. С возгласами «Ура!» встречали удачное возвращение дяди Вани с двумя ящиками «Хереса», и пир продолжался.
Куликов, чтобы не быть свидетелем будущего развития событий, видно, понимал – журналистам тоже надо расслабиться, покидал красный уголок сразу после торжественной части, оставляя умненький, но непредсказуемый коллектив под присмотром замов. Сколько их было? Марфин, Мишин, Девякович, Бавин, Перочкин. И в частности, Евгений Николаевич Пошатаев. Он заканчивал наш университет заочно в весьма немолодом возрасте, держался за свое замство, как за жизненный парус. Став депутатом горсовета, тем самым упрочил свое ведущее положение в газете. Но как тщательно ни скрывал, имел слабость в выпивке переступать заповедную грань, сливаться с коллективом. А коллектив стар и млад, веселился как большой ребенок, сбежавший с уроков. Соревновались в лаконизме, стилистике здравиц, импровизировали, пели о том, как летучка прошла, пострадавших обмывали. Под звуки цыганской музыки в круг танцующих неуклюже выходил Валя Бавин, самозабвенно топоча ботинками «прощай молодость». Рядом легкой птицей летала Вика Маловинская. Забыв о всемирной печали, поблескивая ореховыми глазами, и величаво поводя плечами, в дуэт молодых вступала Ирина Романова.
Криминалы на подобных пирушках никогда не случались. Попили, натанцевались, высказали в тиши кабинетов то, о чем никогда не сказали бы по трезвой – симпатии или прогнозы на скорую творческую погибель – и милейший дядя Ваня, царство ему небесное, развозил по домам, а ослабевших доставлял к самому подъезду во избежание непредвиденных неприятностей. Огни в редакции гасли.
Но на следующее утро отец Федор ходил чернее тучи. Его вызывал на ковер сам Черный. Секретарю крайкома партии во всех деталях и нюансах уже было доложено о пирушке в краевой партийной газете. Спрашивается, за что? Все журналисты на рабочих местах. Никто в медвытрезвитель, к счастью, не попал. Во всех мало-мальски уважающих себя городских учреждениях шумно отмечались праздники, а на ковер – «тозовцев». Непостижимо, кто занимался стукачеством. Мы, притихшие, с не очень свежими головами сидели в кабинетах и гадали, перебирая имена ярых коммунистов-коллег, вхожих в крайком партии. Сострадали редактору. Бедный Федор Георгиевич, принимает огонь на себя. А как убивать словами может в гневе первый партбосс края, я знала достоверно. Хоть и не член партии, но однажды с проректором Пединститута Михаилом Светачевым была вызвана на тот самый коврище.
Доцент Светачев по моей просьбе подготовил статью о практике преподавания общественных наук в своем вузе. Она, по мнению свыше, оказалась не на должном идейном уровне, к тому же из-за моей беспартийной несознательности из текста выпал рефрен любой статьи, «благодаря заботе родной партии и правительства». Вот нам и досталось. Угрозы Алексея Клементьевича завершились грозным обещанием в адрес Светачева: «С партийным билетом хочешь проститься? Дождешься!». Явно нечто подобное Черный пообещает Куликову.
А что такое журналист без партийного билета? Имей ты семь пядей во лбу – знания, таланты, опыт – выше литраба до старости не прыгнешь. Возможно, моя мозговая оснастка неправильно устроена, но вступление в партию молодого журналиста я квалифицировала не иначе как публичную заявку на продвижение по служебной лестнице. Объявить во всеуслышание – помираю, хочу быть членом КПСС – в переводе означало: надоело быть литрабом, желаю вступить на путь к завству. Впрочем, когда принимали в партию Власова (до ситуации с Ларской) причина была прозрачной – он хотел стать собственным корреспондентом «Советского патриота» - и все дружно проголосовали «за». Лишь члены партии могли стать редакторами крохотных многотиражек, не говоря уже о собственных корреспондентах не только столичных газет, но и нашей. В Николаевске – Тамара Пойлова, в Комсомольске - Сережа Торбин, в ЕАО – Коля Чековитов. Все они были членами партии, а как же иначе, если ты работаешь в партгазете. Власов занял вакансию, правда, ненадолго, но партбилет крепко помог ему в будущей карьере. Такого базиса у меня не было. Его следовало создавать в студенческие годы, когда веровала, и когда в университете декан профессор Бережной предлагал мне вступать в партию, но я отказалась, так как искренне думала, что не созрела для членства в КПСС. «Созревание» затянулось, обрекая в те годы на серьезную ущербность.
Боясь, что снова потеряю заведующего, - Зырянов наточил лыжи в секретариат, засобиралась в очередную командировку, в Охотск, давно обещанный редактором. Там у меня осталась недочитанная книга, а еще память об одном из интереснейших журналистов Хабаровска Петре Васильевиче Баранове
ТАК ВОТ ОНА КАКАЯ, ОХОТСКАЯ ЗЕМЛЯ
Этот северный поселок был мне не чужой. В свои восемнадцать, томимая неведением, какой я человек, – сильный, слабый или никудышный, решила познать себя. Предполагала, что трудности, север, неустроенность – тот пробный камень, которым проверяется человек. И уехала в Охотск, сразу в аэропорту вдохнув экзотику севера. В Хабаровске буйствовала весна, стоял сиреневый май, а здесь свирепствовала промозглая, сырая пурга. Кухтуй еще не тронулся, но по белому, неровному полю его легли грозные трещины, – проезд был запрещен, и я не могла попасть в Охотск. Моя соседка по гостинице, жена главного инженера, приехавшая навестить мужа, названивая ему, грозилась вернуться во Владивосток. И на третье утро у гостиницы остановилась длинная упряжка собачек. В комнату вошел каюр в кухлянке, торбасах, будто с газетной фотографии, и взяв наши чемоданы, ни на кого не глядя, произнес: «Солнышко крепко греть будет, спешить надо».
Пурги как ни бывало, а солнце уже грело, на глазах подтачивая ослабевшие силы Кухтуя, неистового пробуждая его к весне. Собачья упряжка мчалась по сырым льдинам, бесстрашно пересекая глубокие трещины, и сердце ухало: под полозьями черная, бездонная глубь, и грозный хруп разламывающихся льдин, плеск воды. В воздухе слышалось пощелкивание бича и «тах-тах» каюра, бегущего рядом. Вдруг нарты стали: перед вожаком мелкая трещина на глазах обернулась черной пропастью, отрезав путь, заливая лапы передних собак, в испуге пятившихся назад. «Отрезаны! Тонем!» – мелькнула мысль. Но каюр невозмутимо повернул вожака влево, трещина осталась позади. А вот и другая. Под нартами снова плескалась вода. Надвигался непонятный шум. Что это? Солнце! Оно невинно, не понимая, что творит, своими лучами, вдруг ставшими горячими, раздвигало льды, и такое ощущение, что вот сейчас все льдины разом придут в движение, а мы с нартами – на дно.
Уже в те годы собачьих упряжек на побережье было немного, в основном в Арке, Хакандже, глубинных поселках. На смену им приходили автомобили, но дорог-то хороших и зим мягких, хотя бы таких, как хабаровских, не было. И это сальто-мортале через майский Кухтуй, только начало. Были ситуации и порисковей. Охотск, с его картошкой невиданных размеров на гальке; неизменными помойками; снежными пургами, когда по одному из дому не рекомендовалось выходить, унесет в море; снегом в чайниках и кастрюлях - колодцы перемерзали; с бесчисленными печными трубами жактовских домиков, которые днем не закрывались на замки и где жили единым землячеством отважные, дружески настроенные люди - уникальнейший поселок, аналога его в нашем крае не знаю.
В райцентровском радиоузле, где я вещала по вечерам, оборудование примитивнейшее, в полупустой без окон комнатушке на столе часы и микрофон. Передача, с предваряющим, жизнерадостным: «Внимание! Говорит Охотск!», без всяких магнитофонных записей шла прямо в эфир, в квартиры охотчан. Редко кто из выступавших капитанов передовых морских судов приписки Охотского морпорта в радиоузле не волновался. И я удивлялась – морские волки, бесстрашные в штормовом открытом море мужики, неискушенные цивилизацией, выказывали мальчишескую растерянность перед микрофоном, и как могла, поддерживала дух, успокаивала, ибо сама первое время боялась микрофона, как огня.
Жила в учительском доме, перегороженном тонкими стенками, на четыре семьи. С утра можно было слышать, как в одной квартире учителя репетируют литературный монтаж: «Неведомая, дикая, седая, медведицею белою Сибирь…», в другой – считают зарплату, а в третьей, затесавшаяся в учительский домик Клавка, пьющий стрелок рыбозавода, сражается с мужем. Меня на подселение к себе взяла подруга по Хабаровску, англичанка Ирина Слесарева, хорошая девчонка. Захваченная новизной работы, мне было не до того, что север к веселью мало оборудован и складывалось такое впечатление, что в Охотске вообще нет парней. По вечерам Ирка сидела за проверкой школьных тетрадей, а я - за учебниками. Если к ней приходили подруги со школы, только и разговоров о методиках, неуспевающих и отличниках, а еще о лучшей учительнице Охотска Надежде Байковой.
А тут перед октябрьскими праздниками в командировку в Охотск приехали два журналиста. Витя Папин – из радио и Петя Баранов - из «Тихоокеанской звезды». Настоящие журналисты, решительные, без церемоний, въедливые и веселые парни, застигнутые пургой и нелетной погодой.
После моего вечернего вещания, которое завершалось традиционным «передачу вела» такая-то, у радиоузла, что в центре поселка, уже стояли оба. И Петр Васильевич Баранов, большой, медведистый, дружески облапив меня, удивлялся: «Слушаю радио, знакомый голос, чей, не припомню. Ну, а когда ты назвалась, да это же наш юнкор! А мы с Витькой сидим в гостинице, скучаем. И не к кому пойти, повеселиться».
И я повела гостей на Коммунистическую. Баранов оказался не таким грозным и занудой, каким я его представляла тогда, еще школьницей, а совсем наоборот. В нашей унылой, однообразной жизни приезд журналистов это как «Пять вечеров» драматурга Володина, прекрасных, неповторимых. Первое общение со столичными журналистами. Днем мы разбегались по своим делам, а вечером с Иркой по быстрому растапливали печку, носили свежий снег на чай, готовили из вымоченной селедки форшмак, в котором иных овощей, кроме картошки, маринованной свеклы, не было, и ждали стука в дверь.
– Девушки, кто из вас у изгороди оставил бутылку шампанского? - заглядывая в дверь и ведя нас на улицу, с серьезным видом спрашивал Баранов. И правда, в снегу торчала бутылка. Давясь от смеха, он продолжал: - Вы гляньте, а что здесь хранится? – И вел к поленнице дров, которые мы кололи с Иркой на зиму. Между поленьев - пакет с закуской. – Смотрите внимательно, ничего не забыли? Ира, а под крыльцом ты ничего не оставляла? Так и есть, бутылка спирта! Ну, вы, охотчанки, и даете! – Входя в дом, мы хохотали до упада. На розыгрыш, фантазию журналист Баранов был неистощим. Его чудачества, редкое качество, преобразующее прозу унылого застолья в праздник, нас, неискушенных очаровывали.
- А сейчас мы организуем «северное сияние». Как только появятся пузырьки, сразу пить и до дна,– смешивая капельки спирта с шампанским, колдовал над фужерами Баранов, повернувшись к Папину, шутил: – А тебе, алкашу, шампанского не дадим. – Поднял фужер, обвел всех цыганистыми глазами: – Ну, за что пьем? Предлагаю старинный гусарский тост.
Для нас, девчонок, затерянных в снежном поселке, забывших радость городской жизни, все было впервые: и «северное сияние», и тост «За прекрасных дам», и «охотская Мэри», так Баранов назвал свой второй напиток.
- В этом доме найдется томатный сок? – спрашивал он. Мы с Иркой пристыжено молчали. – А вот обманывать, девушки, нельзя. Витя, посмотри там, за печкой. - Когда он успел припрятать банку сока, неизвестно. Его хохмы, шуточки оборачивались для нас невиданным рыцарством, не знаю, как иначе назвать вот этот жест: - Ирочка, ты что преподаешь, английский? Значит, не в курсе. А история рассказывает, что из женской туфельки ни один мужик в мире не пил спирт. Да, известны случаи, когда потребляли шампанское, даже водку. А я буду первым - И он, склонившись, снимал с ноги учительницы, пунцовой от восторга, туфельку, наливал спирт, и выпивая, сладостно занюхивал лакированной туфлей.
Уютно потрескивала печка. Я брала гитару, и мы пели «Ребята настоящие, нам док, что дом родной», перефразируя армянскую песню, дружно подхватывали припев гимна охотчан: «Так вот она какая, Охотская земля!». В окна стучал хрупкий снег.
- Нравится мне у вас. Люди открытые, славные, русские. Самые лучшие мои материалы с побережья. Живете в природе. Природу люблю жадно. - Признавался Петр Васильевич. - Вот стану старым, уеду на Хехцир, построю домик у чистого ручья, разведу пчел и буду жить, как дерево в лесу, долго, долго.
- А я уже семь лет на побережье, - задумчиво вступила в разговор Ирина. - Дважды пыталась распрощаться с Охотском. Последний раз даже выписалась из домоуправления, чтобы пути назад отрезать. Но тесно мне там, безличная я какая-то в этом людском водовороте. Возвращаюсь, а как ступлю на берег, каждую галечку готова расцеловать. - Она смутилась, потупилась.
Папин подошел к Ирине и демонстративно поцеловал ей руку.
- Интересные вы люди. Жаль, репортер не включен. Ах, какой бы репортаж получился. – И глядя в глаза Ирине своими бархатными черными очами, Папин запел мягким тенором: «Каким меня ты ядом напоила, каким меня огнем обворожила? О, дайте ручку нежную» – А дальше муть словесная. Но эти первые две строчки Петра Лещенко гениальны. – И начался долгий спор о творцах, подаривших миру не тома, не дюжину опер, а одно стихотворение, одну песню, один рассказ, например, Смеляков, Равель, их знает весь мир. И мы с Иркой пытались блистать знаниями. Но куда нам до эрудиции журналистов. И мы слушали их с безответной влюбленностью..
В один из таких вечеров Папин пришел расстроенный. А Баранов покатывался от смеха, требуя рассказать «как Витя-кур попал во щи». Перед праздником Папин записал беседу с Героем соцтруда, интервью бригадир рыбаков давать не любит, а тут сын родился, молодой папаша в ударе был и Папин с репортером подоспел.
- Сегодня прихожу в «Охотско-эвенскую правду» и говорю редактору: «Такую беседу с героем записал, пальчики оближешь. Давайте, послушаем». Перед летучкой у Пинчука вся редакция собралась. Включаю репортер и что же? – Комнату заполнили шум, гам и голос Папина: - «Товарищи радиослушатели, наш репортаж мы ведем с рыбацкого стана», и другой голос, Баранова: «Ошибка получилась, журналист заблудился. Все наоборот. Мы не на рыбацком стане, мы в цыганском таборе. Поет наша Ира. Ира-цыганка» - И голос учительницы с надрывом «Эх, шарабан мой, американка» под мой аккомпанемент. - Катя смените пластинку. Где цыганские напевы? Нет таковых. Есть будущая журналистка. Она взялась написать очерк «Ребята настоящие». А я, то есть ваш покорный слуга, обязуюсь сотворить новеллу «Есть у моря свои законы». Ну а сейчас все журналисты и присутствующие пьют и веселятся» - От прослушанного у меня запылали щеки, а Папин продолжал: - Публика упала. Кричат: нас в ваш табор. А редактор, он у вас мужик солидный, шуток не любит, аж побагровел: « И это интервью с героем соцтруда? Вот вы, Папин, какими делами в командировке занимаетесь!» - сплюнул и ушел. Черт старый, как бы в комитет не настучал. И без того грехов у моей персоны, о-хо-хо. И как это меня угораздило? Ленту не перекрутил.
В стенку неожиданно раздался стук. Это Клавка, пьющая соседка, от нее ушел муж, оставив с ребенком. Стук продолжался:
- Эй, новенькая, иди сюда, - звал голос. Я засобиралась.
- А может не надо? – воспротивились гости. Накинув пальто, вышла в коридор и едва открыла наружную дверь, будто ее кто-то подпер снаружи. То был упругий ветер. Он пел на разные голоса и на улице ему нечего было раскачивать, ни куста, ни дерева, голые улицы поселка, дома по окна засыпаны. И только всей силой своей набросился на снег, мял его, вздымая пылью, добираясь до гальки, а попадется человек - бросался ему под ноги, пытаясь остановить в пути. Второй день праздника народ сидел по домам. Проваливаясь в глубоком снегу, едва, хоть и рядышком, добралась до двери Клавдии. В полутемной кухне за грязным столом, сидела старая, худая женщина с растрепанными волосами. В ней я едва узнала 30-летнюю соседку. Склонившись над листком, она что-то писала. Другая, видно, собутыльница, уже в пальто, стояла у порога. Я заглянула в записку: «Маша Дай пол литру в долг. Я расплачусь. Клава». Значит выпивки не хватило, послала гонца.
- Попроси продавщицу как следует, она не откажет мне, – давала указания Клавдия товарке. - Да чтоб одна нога здесь, другая там. А ты садись, гостем будешь. - Гостьей здесь мне быть не хотелось. - Нет, ты посиди. И ответь мне, зачем сюда приехала? Слышу, музыка играет, два дня раздаются мужские голоса. Я такой же девчонкой как ты сюда приехала. В рот не брала ее, проклятую. А что со мной сейчас сделалось. Не пью неделю-другую, а потом запью. Пью, как чайка. - Она слила со дна двух бутылок остатки и резким движением опрокинула рюмку в рот, вытерла губы рукавом. – Ты меня осуждаешь? Не осуждай. Сама скоро такой же станешь, если не уедешь. Василий горячий, веселый парень был. А выпьет, мне, трезвой, казалось, противнее его нет. Бутылку возьмет и меня за стол садит, полный стакан нальет, «пей, мать» – говорит. Сначала отказывалась, а потом ничего. Выпью и не вижу, какой он вихлястый, дерганый. Ушел, другую бабу спаивать. И осталась я на всем свете одна.
- Где же ваша дочь?
- Спит Юлька. Она мне не мешает. Вторые сутки спит. – Я кинулась в комнату. Разметав ручонки, среди крошек пирога с маком, спала девочка. Мак, мак, да ведь это снотворное! Ругая Клавку, я несла недвижимого ребенка на руках, а крошки мака сыпались с одеяла. – Не шуми, меня в детстве только маком успокаивали, тетка по пьянке проболталась. Ты ж мою жизнь не знаешь. - И видя, что я хочу уносить ребенка к себе, вскочила, как волчица: - Не трожь. Свое заимей и распоряжайся. Положь, где взяла. Я кого хошь убить могу за свою дочь.
Дверь собственной квартиры едва открыла, ворвалась в комнату и разом остановилась, будто в другой мир попала. Чисто. Уютно. Тихо играла музыка. Перед Папиным, листающем книгу, дымился в чашке кофе. Баранов и Ирина танцевали.
- Ира, Клавка снова запила. Юльку, чтоб не мешала, маком накормили. Ребенка надо забрать. Дверь на крюке закрыта. Как проникнуть?
Петр Васильевич, натягивая полушубок, задал несколько вопросов, касающихся соседки. Долго стучал в дверь. И когда Клавка спросила «Кто там?», измененным голосом откликнулся:
- Клава, это я. Открой, да поскорее. Замерз я.
- Вася, Василий пришел! - Торжествующе завопила Клавка. - Я же говорила, вернешься. Ни один мужик от меня так просто не уйдет, – пьяно хохотала она, распахивая дверь. Баранов, оказывается, прекрасно знал женскую психологию и рассчитал все правильно, ибо соседка не глядя, с пьяна бросилась к нему в объятия. Осознав, что вошедший не ее Василий, попятилась. Удивил жесткий голос Баранова:
- Я корреспондент из Хабаровска. На ваше аморальное поведение в быту поступила жалоба. Вы морите ребенка голодом и даете наркотические средства. Все идет к тому, что вас лишат родительских прав. Где ваш ребенок? - Клавдия сделала два неверных шага, пытаясь собой закрыть дверь, ведущую в комнату. Отстраняя ее, Баранов холодным, не допускающим возражения тоном, продолжал: - Ирина Петровна, у вас найдется, чем покормить ребенка? А вы, Клавдия, завтра придете к Ирине Петровне и поблагодарите за то, что свои материнские обязанности, в связи с пьянкой, перекладываете на соседей. Постарайтесь быть трезвой, буду с вами серьезно беседовать.
В этом был весь Петр Васильевич Баранов. С бесшабашной отвагой неофита, воспарениями духа и зоркой сердечной мудростью. А еще - надежным, без всякой хитрости и выгоды, другом, в чем многократно убеждалась, когда он долгие годы возглавлял хабаровский КрайТАСС. Высокая должность не придала ему ни высокомерия, ни заносчивости, как это часто бывает у людей слабых духом. Встречаясь, изредка вспоминали пять охотских вечеров, светлых, чистых.
А тогда с Ириной мы долго еще воевали за судьбу Юльки. Угроза лишения материнства произвела на Клавдию сильное впечатление, и ее пристрастия, под неусыпным надзором соседей, пошла на убыль, во всяком случае, на то время, когда мы жили через стенку. А вскоре к нам подселили еще одну учительницу начальных классов. Вот тогда я познакомилась с легендой учительского Охотска Надеждой Байковой, о которой дважды пыталась писать, но безуспешно. Надя - очень своеобразный человек, ее учительский дар был также непостижим, как божье таинство. Если не покинула побережье, на что надежды мало, ведь все мои знакомые охотчанки давно на материке, она станет героиней очерка.
Но командировку в Охотск Куликов задробил, спешно отправив меня в район Полины Осипенко. Там, на золотых приисках Бриакана проживал драгёр Борис Довиденко, получивший звание Героя Социалистического Труда, и о котором еще никто не написал ни строчки.
КТО «ДВИГАТ» В ГЕРОИ?
В поселке Веселая Горка гостиницы, понятно, не было. Поселили меня в бывшую баню, с полками вместо кровати и стола, приложив постельное белье. Утром, к моему удивлению, возле баньки собрались поселковые женщины – видно, магазинчик рядом. Не догадываясь, что эта делегация ко мне, направилась было к дому драгера, где меня ждали. Но стоило выйти на улицу, как вся эта толпа окружила – сарафанное радио разнесло, что приехал корреспондент писать об односельчанине. И тут начался несанкционированный митинг:
- Кто дал Борьке героя труда? По блату что ли? Нашли Гагарина. Да он людей не замечает. Идет как боров, глаза в землю. От него человеческого слова не услышишь.
- Кто двигат его в герои? - наседала хохлушка.
- И в детстве первый хулиган был.
- Куда писать, что он совсем не герой?
Сориентировавшись в необычной обстановке, я отыскала интеллигентное лицо менее скандальной женщины, и пригласила в баньку для спокойного разговора, чтобы выяснить причины неприятия своего односельчанина. И вот что она мне рассказала. Борис Довиденко ничуть не лучше других золотодобытчиков. Более того, он секретарь парторганизации поселка, а его – не видно и не слышно: драга и дом. С людьми не здоровается, не замечает. Разве такой человек может носить столь высокое звание?
В моей журналистской практике ничего подобного не случалось. Как быть? Может, это зависть людская? Или романтическое восприятие героя как необычного человека? «Кто двигат? Кто двигат?» - думалось мне, когда направлялась к домику охаянного сельчанами драгера.
Нестарый мужик, грубоватые черты лица. А откуда им быть мягкими – работа на ветру, под солнцем. Но взгляд прячет. И впрямь, смотрит искоса. Но самое неприятное для журналиста - молчун. Из такого клещами вытягиваешь каждое слово. Между прочим, говорун тоже не подарок, обрушит массу лишней информации, но его рассказ можно направить в нужное русло. А здесь получилось, что говорила я, и на любой, самый примитивный вопрос - скупое «да» или «нет».
- Нравится вам работа драгера? Ведь тяжка.
- Не нравилась бы, чего бы я чужое место занимал. - Дочь его, 13-летняя Наташа, стараясь изо всех сил помочь мне, задавала отцу наводящие вопросы:
- Папа, расскажи, как ты кружку с золотом выловил в водоеме.
- Да чего рассказывать, - отмахнулся он, – невидаль какая.
- А как с тетей Надей самолет в сопках разыскивал.
- Мало ли что разыскивали. Не нашли.
Я осталась с пустым блокнотом, и было одно желание – уносить ноги с Веселой Горки и ее баньки. Но, провожая меня, дочь Наташа, с которой мы подружились, шепнула: «Папке сказали вчера, что корреспондент приезжает, так он тайком виски красил. Он у нас седой. Ждал вас». И от этого ее признания что-то дрогнуло в сердце. Стоп. Разберись, открой человека.
(начало курсива)
Каждое утро, чуть свет, с походными сумками, где были уложены бутерброды и термосы, мы выходили в мглистый еще спящий поселок на утреннюю смену. Одновременно в четырех домах хлопали двери и четверо дражников присоединялись к нам на узкой тропе, ведущей в лес к «Серебрянке» - такое имя носила драга. Только эта пятерка по едва уловимому скрипу ковшей, шуму золотопромывательной бочки могла угадать, грызет ли «Серебрянка» мерзлоту или отрабатывает хороший забой. И вот уже среди шапки тайги вырастают гряды бескрайних отвалов. Они волнообразным шлейфом тянутся за драгой, возвышающейся как многоэтажный освещенный дом. Из мутной воды котлована выплывает «браслетик» - семидесятитонная черпаковая цепь.
Так, дней пять я ходила за Довиденко как его тень. Даже жена Люда стала явно ревновать его ко мне. Ха-ха! Да с ним не о чем совершенно было говорить – молчаливая неприступная скала. Лишь один яркий эпизод, рассказанный, конечно же, не им. Это случилось после ночной смены Довиденко. Доводчик Карпов, направляясь к мостику и похлопывая по опломбированной, полнехонькой золота кружке, висевшей у него на ремне, прыгнул на борт котлована. И вдруг его крик: «Стоп! Кружка! Моя кружка!» Карпов частенько жаловался, что надо бы ремень сменить, стерся, не вняли, и произошло страшное – золото, добытое за сутки, упало на четырехметровую глубину котлована. Стоя на коленях на борту драги, обезумев, лез в воду за кружкой Карпов. Сполосчицы оттаскивали его. Прибежал взволнованный начальник драги. Узнал и схватился за голову. Да за это дело – всех под статью. Где найти водолазов? На прииске их нет. Он – к Борису: «Спасай!»
- Дать большой свет. Отцепить механизмы! - приказал Довиденко.
- Боря, сынок, на тебя вся надежда, - суетился Карпов, преданно заглядывая в глаза драгера. – Ты мой единый спаситель.
- Не мельтеши. Где уронил?
На глаз измерив угол забоя, Довиденко взялся за рычаги. Главное – не потревожить дно котлована, где лежала кружка. Мягко потянул фрикцион, цепь погрузилась в воду на отметку четыре метра, зашевелилась, и черпак скребнул грунт. Над мутным зеркалом воды появился ковш, за ним другой, третий, а в голове металась мысль: если ошибся хоть на пару сантиметров, черпаки отбросят кружку, утрамбуют навечно. Тогда Карпова, и его, Довиденко - к ответу».
В пятом черпаке померещился блестящий пятачок. Он приближался, рос. Она! Потянул рычаги - и маленькая кружка в ковше, словно на подносе, поплыла к окну рамного прореза. Все кинулись к ковшу, отгребли грунт, а на кружке даже пломба не была потревожена. «Ну, ребята, это класс!»- восхитился начальник драги.
(конец курсива)
Этот эпизод мог держать на весу весь очерк. Но он свидетельствует о высоком профессионализме, характерном и для других опытных драгёров. У тех еще круче ситуации были. Однако они не герои. Что же отличает Довиденко? Конечно, можно было обогатить будущий материал романтическим детством, когда в тайге искали самолет советских летчиц, пронизать центральной мыслью - Довиденко любит эту суровую землю, привязан к ней сердцем и будет служить ей до конца. Но это было бы неправдой. Семья Довиденко уже сидела на чемоданах - купили квартиру в Хабаровске. Жить в Веселых Горках стало невозможно: им тыкали «героем» при встречах, сама слышала на улице и в сельмаге. Да и в коллективе драгеров наступила напряженка.
Обескураженная, возвращалась я в Бриакан, откуда должна вылететь в Хабаровск. Но погода сыграла злую шутку, – вдруг закружило, засвистело. Дождь со снегом. Погода нелетная. В поселковой гостинице надолго застряли командировочные. Чтобы не тратить время попусту, провела рейд по золотым полигонам, а по вечерам пыталась писать о Довиденко. Не ладилось. Как опровергнуть мнение односельчан? Но ни одного даже крохотного факта из методов партийного руководства поселковыми коммунистами, а партячейка солидная, не нашла. Этот вопрос так застрял в мозгах, что ночью приснился сон, будто его я задала секретарю райкома партии и он радостно отвечает:
- Факты? Пожалуйста. По инициативе Довиденко сельчане после праздников не выбрасывают бутылки из-под водки в помойку, а в плановом порядке по 23 штуки сдают. Для этого он организовал машину, которая приезжает и забирает стеклотару.
Ни фига себе, наверное, уже крыша едет! На всякий случай и впрямь позвонила в райком партии – почему именно Давиденко удостоен звания Героя? Секретарь ограничился общими фразами: добросовестный, старожил, в пьянке не замечен, скромный. И как бы между прочим сообщил, что по разнарядке на район выделили одну вакансию на героя, были и более достойные, но, увы, бывшие зэки.
Свидетельство о публикации №214111800509
Екатерина Рудик 19.11.2014 16:28 • Заявить о нарушении