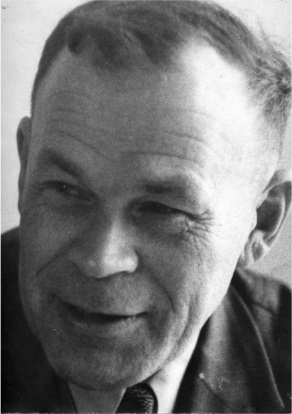Исповедь ровесника октябрьской революции
(17.04.1917 - 25.07.1998)
СОДЕРЖАНИЕ
А.Б. Кудряшов. Об отце
Г.А. Амирьянц. Неизвестное об известном
А.М. Домашенко. Творец ракетной техники
О.Г. Курындин. Борис Александрович Кудряшов и его "Исповедь"
ДЕТСТВО
Чистополь. - Первые впечатления: кулачные бои обывателей "стенка на стенку".
- Житье-бытье детей и взрослых, семейное обустройство. - Школа комъюной молодежи
(ШКМ). - Индустриализация и коллективизация, первые последствия. - Учеба, "запой-
ное" чтение. - Увлечение радиоконструированием, рискованная добыча деталей. - Пер-
вые поездки по Каме. - Выпуск из ШКМ
НАЧАЛО ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ
Бюро инвентаризации. - Обучение в ФЗУ. - Производственная практика на реч-
ных судах, происшествия. - Выпуск судомехаников из ФЗУ. - Вторая навигация, меха-
ник на землесосе, опасные случаи. - Увольнение со скандалом. - Новое место работы
- буксир "Висляна"
ГОДЫ СТУДЕНЧЕСКИЕ
Казань. Подготовительные курсы при Казанском авиационном институте (КАИ).
- Зимние каникулы. Переход на лыжах Казань-Чистополь и его последствия. - Триум-
фальная сдача вступительных экзаменов в КАИ. - Первый курс. - Первая сессия, успе-
хи, неудачи. - Каникулы. Пешком из Казани в родной город. - Вступление в комсомол. -
1937-й, волна репрессий. Драматические последствия в КАИ. - Уважаемый преподава-
тель. - Дерзкая шутка. - Неординарные студенты. - Некоторые события общественной
жизни. - 1940 г., производственная практика в Тушино. - Война приближается. - В по-
исках заработка. - 1941 г., Казань, завод 27, работа мастером зубошлифовальной группы
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
Начало Великой Отечественной. - Труд в тылу в военное время. - Переживаем го-
речь поражений. - Перелом в ходе войны. - Победа! - Заводские дела и люди. - Детдо-
мовцы
ПЕРВЫЕ ШАГИ В РАКЕТНОЙ ТЕХНИКЕ
Трудоустройство в "шарашку" по разработке жидкостных реактивных двига-
телей (ЖРД) в ОКБ-СД. - Первая встреча с В.П. Глушко. - Работа на испытательной
станции ЖРД. - Несчастный случай на стенде
ГОД 1946-Й, ГЕРМАНИЯ. КОМАНДИРОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКИХ
РАКЕТ
Перед отъездом. В столице. - Перелет в Германию, первые дни на немецкой тер-
ритории. - Впечатления. Берлин, Лейпциг в развалинах. - Испытательная станция в се-
лении Шмидебах. - Стенды, оборудование. - Начало работы. - Снабжение продоволь-
ствием и промтоварами. - Чрезвычайные происшествия. - Первые встречи с С.П. Коро-
левым. - Освоение немецкой ракетной техники. - Международные осложнения из-за
наших стендовых пусков. - Последние работы, демонтаж стендов. - Попытка диверсии. -
Операция по вывозу немецких специалистов. - Вечер самодеятельности в немецкой
школе. - С эшелоном ракет и оборудования на Родину. Путь через Германию и Польшу
ПОДМОСКОВЬЕ. ХИМКИ
Вынужденное безделье. - Создание стендов для испытания турбонасосных агрега-
тов ЖРД. - Взрывы в ходе экспериментов. - Отработка твердого катализатора. - Внима-
ние спецслужб. - Создание химического реактора. Опасная перекись водорода. Снова
взрывы. - Неполадки с редуктором. - Первое участие в летных испытаниях. - Ракетный
полигон. Нештатные ситуации. - Разработка схемы нового двигателя. - Прием в КПСС,
избрание депутатом горсовета. - Несчастные случаи на работе. - Зачисление в Москов-
ский авиационный институт и отличное завершение высшего образования. - Предложе-
ние поступить в Высшую школу НКВД и отказ от него
ОКБ Д.Д. СЕВРУКА
Новое конструкторское бюро. Неожиданное предложение. - Назначение началь-
ником отдела огневых испытаний. - Конфликты с руководством. - Первые личные кон-
такты с М.К. Янгелем. - Сотрудники и вышестоящие. - ЧП в ходе испытаний. - Смерть
И.В. Сталина и арест Л.П. Берии. - Учеба в Академии оборонной промышленности и ее
успешное окончание
ЗЛАТОУСТ. ОКБ В.П. МАКЕЕВА
Снова начальник испытательного отдела.- Обустройство станции. - Сослуживцы,
руководители. - Опять внимание спецслужб. - Испытания и эксперименты. - Взрывы на
стенде. - Несчастные и смешные случаи. - Некоторые взаимоотношения с сотрудниками,
расстановка кадров. - Партийное разбирательство и его итоги. - Назначение начальни-
ком конструкторского отдела. - Новое теплоизоляционное покрытие камеры сгорания. -
Болезни дочери. - Решение переехать на Юг
ОКБ-586 ("ЮЖНОЕ")
Первая поездка в Днепропетровск. Представление М.К. Янгелю. - Трудности и
неприятности на работе. - Отсутствие настоящего дела, упадок духа. - Катастрофа на
полигоне с янгелевской ракетой. - Новое поле деятельности - сектор проектно-
перспективных работ ракетного отдела. - Первая разработка электроядерного реактив-
ного двигателя. - С.П. Королев и М.К. Янгель. Сотрудничество двух ОКБ в создании
лунной ступени ракеты. - Смерть Сергея Павловича Королева. Конец проекта полета на
Луну. - Служебный "подкоп": новый заместитель. - Снова спецслужбы. Благонадеж-
ность подчиненных
ВНИИКРИОГЕНМАШ
Подмосковная Балашиха. - Директор В.П. Беляков. - Теперь я - начальник лабо-
ратории в Криогенмаше. - Проблематичные разработки. - Насос для сельского хозяйства.
- Повышение научного уровня сотрудников моего подразделения. - Взаимоотношения с
руководством института
ГЛАВНЫЕ РАКЕТЧИКИ И ДРУГИЕ ...
С.П. Королев. - В.П. Глушко. - А.М. Исаев. - В.П. Макеев. - М.К. Янгель.-
Д.Д. Севрук. - Г.М. Табаков. - И.И. Иванов. - В.П. Беляков
ОБ ОТЦЕ
В юности отец трудился судомехаником на судах речного флота. За время
работы водником побывал во многих городах, стоящих на берегах Волги и Ка-
мы, и на всю жизнь полюбил эти реки. Уже в более зрелом возрасте речное пу-
тешествие на теплоходе было для него высшим наслаждением. Я вспоминаю
нашу поездку с отцом на пароходе в Чистополь (мне было тогда года четыре).
Он заходил со мной в огромное, как мне тогда казалось, машинное отделение.
В нем работали с диким лязгом, скрежетом и уханьем паровые машины. Отец
здоровался с главным механиком и заводил с ним разговор на близкие и понят-
ные им обоим темы. При этом он что-то пытался втолковать мне, но совсем не
было слышно. От грохота машин становилось страшно, я ничего не мог сооб-
разить, через некоторое время начинал плакать, и мы уходили.
Поступив в Казанский авиационный институт, отец, по его воспоминани-
ям, пришел в восторг от студенческой жизни. Хотя он не был отличником, од-
нако учился с большим удовольствием. Ему нравилась математика, физика в
целом, а также специальные предметы: теория упругости, термодинамика, тео-
рия горения и др. Отца увлекал процесс изучения нового, это было его призва-
нием.
Начало Великой Отечественной войны отец встретил в рабочей должно-
сти на авиационном заводе, автоматически стал бойцом трудового фронта, и
уже было нельзя оставить это место при начале семестра в вузе. Попытка соче-
тать учебу и работу оказалась безуспешной, так как для этого не было абсо-
лютно никакой возможности, и завершение вузовского образования пришлось
отложить до лучших времен.
Получив "броню" как сотрудник оборонного предприятия, он не мог по-
пасть в армию. Так всю войну и трудился сменным мастером в цехе. И работать
с техникой, и руководить людьми было непросто. Отец не успел завершить
только последний курс авиационного института и в техническом отношении,
конечно, был достаточно компетентен (формально у него было незаконченное
высшее образование). Это позволило ему несколько лет в суровых условиях
трудового фронта достаточно успешно управлять людьми и производственны-
ми процессами в качестве руководителя низшего уровня.
Судя по его воспоминаниям, с подчиненными он обходился строго, но
без предвзятости. Даже в случае крупных технических ошибок, имевших серь-
езные последствия, не было случаев со стороны отца представления совершив-
ших их работников "козлами отпущения". Спустя много лет он вспомнил по-
именно многих своих подопечных и тепло отозвался об их человеческих и про-
фессиональных качествах. Но было такое время - война, на трудовом фронте
попадались всякие люди и среди них те, что называются "явно не подарок". И
при грубых нарушениях подчиненными технологического режима, правил рас-
порядка, явного неповиновения или разгильдяйства, ему приходилось быть
безжалостным: он заявлял о проступках начальству, а тогда это могло повлечь
вмешательство "органов". Однажды он не смог сдержаться, дошел до рукопри-
кладства и сам стал объектом разбирательства. Поведение его, конечно, было
недопустимым, но по существу он был прав, и дело спустили на тормозах.
Перед самой нашей победой отец случайно узнал, что на заводе, на ко-
тором он работал, действуют несколько сравнительно небольших сверхсекрет-
ных предприятий (почтовых ящиков), занимающихся ракетной техникой. Это
были конструкторские бюро, в начале войны эвакуированные в Казань из
Москвы (на сленге тех лет - "шараги"). Определенную часть их сотрудников
составляли заключенные. В частности, среди таковых были С.П. Королев и
В.П. Глушко, которые только к самому концу войны были освобождены и ста-
ли руководителями этих особых КБ.
Отец очень хотел заниматься жидкостными реактивными двигателями и
попросил принять его в ОКБ В.П. Глушко. Его назначили техником, по суще-
ству, лаборантом. Ясно, что это был самый низший уровень (в наше время на
такую должность принимают девочек после неполной средней школы), а по
своему образованию и опыту он должен был бы занять место повыше. Работа
была связана со стендовыми испытаниями ракетных двигателей, и вследствие
недостатка специалистов ему приходилось решать существенно более сложные,
чем было положено по должности, технические вопросы. Он хорошо справлял-
ся с задачами, в спорах настойчиво добивался внедрения своих технически гра-
мотных решений.
В 1946 году готовилась группа советских специалистов для поездки в
побежденную Германию с целью изучения трофейных ракет Фау-2. Отец про-
явил настойчивость, оказался достаточно "зубастым" в межличностных отно-
шениях и был включен в состав командированных от ОКБ В.П. Глушко.
У него был сильный, но и не легкий характер. Человек он был серьезный,
волевой, упорный в достижении своих целей. Я полагаю, что на работе это по-
могало ему соответствующим образом строить отношения с людьми и доби-
ваться результатов. Отцу можно было поручить дело и быть уверенным, что он
все доведет до конца, не боясь ответственности. Такие люди, обладая к тому же
техническими знаниями и организаторскими способностями, как правило, ста-
новятся руководителями и добиваются определенных высот. С моей точки зре-
ния, отцу помешали сделать это некоторые особенности его личности и жизни в
целом.
Когда он бывал чем-то недоволен, в квартире устанавливалась всеобщая
гнетущая тишина. Никто не заговаривал первым. Это могло продолжаться дня-
ми. Затем с постановки какого-то, казалось бы, постороннего вопроса, который
переходил в прежний спор, начиналась новая разборка. И дома, и на работе
отец очень хорошо и продуманно строил все свои разговоры и внутренне этим
гордился. Мне всегда было нелегко спорить с ним. Думаю, что другим моим
родственникам делать это было отнюдь не легче.
После командировки в Германию, проработав в Химках около пяти лет
сначала у В.П. Глушко, а затем в Подлипках в ОКБ Д.Д. Севрука, отец сделал
своеобразный "ход конем": он подал заявление с просьбой о своем зачислении
слушателем Академии оборонной промышленности без согласия начальства,
руководства предприятия, которого, видимо, и не требовалось. Я полагаю, что
для него это был способ ухода с прежнего места работы.
Скандал получился большой. В самом деле, казалось бы, человек пришел
работать к Д.Д. Севруку (при этом были определенные трения, когда он расста-
вался с ОКБ В.П. Глушко, и отец пишет об этом в дневниках), получил хорошее
место, деньги, квартиру, и - уходит. Такое обычно делают, по мнению окружа-
ющих, основанному на жизненном опыте, из карьерных соображений. На серь-
езных фирмах этого не любят.
Но я думаю, что основным мотивом отца все-таки было желание уйти в
науку, попробовать свои силы в ней. У него было очень развито научное мыш-
ление (это ясно видно из приведенного им в воспоминаниях анализа ряда тех-
нических вопросов и из событий его дальнейшей жизни), и его всегда тянуло к
научной деятельности. А это ведь такая вещь, как хроническая болезнь: может
возникнуть, и никуда ты от нее не денешься.
Когда отец уже вышел на пенсию и стал больше бывать у нас в Жуков-
ском, он много очень интересного рассказал мне о своем прошлом. При этом
умолчал, что эти воспоминания как-то сохранены. Однако после его смерти об-
наружилось очень большое количество записей, которые я с большим интере-
сом прочитал. Кое о чем из них я от него уже слышал. Отец вспоминает годы
работы на реке, студенчества, войны, свои первые шаги в ракетной технике,
командировку в Германию, а также собственную деятельность в ныне всемирно
известных ракетных центрах в Химках, Подлипках, Златоусте, Днепропетров-
ске и Балашихе.
Эти воспоминания достаточно обширны, занимают несколько общих
тетрадей, в них значительное место отведено семейным отношениям, а также
политическим взглядам отца. Но гораздо более подробно описаны его работа и
люди, с которыми ему пришлось многие годы сотрудничать. Об этом он в ос-
новном и рассказывает в своей "Исповеди ровесника Октябрьской революции".
Работая над рукописью, отец хорошо чувствовал, чтo будет интересно читате-
лям, и чтo, по его мнению, надолго останется актуальным. Поэтому свои взаи-
моотношения с близкими и личные политические воззрения описал вкратце и
только там, где это необходимо для ясности изложения.
В своем завещании отец написал, что ему хотелось бы, чтобы эта "Испо-
ведь ..." увидела свет. С моей точки зрения, в частности, Интернет предоставля-
ет такую возможность, и некоторые из моих друзей ею воспользовались. Я то-
же пошел по этому пути. При этом считал, что самое главное - приведенные в
воспоминаниях события и характеристики людей, в них участвовавших. Также
решил, что даже не очень подробное описание семейных дел автора не пред-
ставляет интереса для читателей, а его политические воззрения уже устарели.
Поэтому был удален текст, не имеющий отношения к основной канве повество-
вания. Напротив, на основе других записей автора предназначенные к публика-
ции воспоминания были дополнены очень интересными подробностями о его
пребывании в Германии и начале работы в Днепропетровске. После этих ис-
правлений и добавлений я решился представить "Исповедь..." отца на суд чита-
телей.
А.Б. Кудряшов, ведущий научный сотрудник ЦАГИ,
кандидат технических наук
Апрель 2014 г., Жуковский
Неизвестное об известном
Любая книга, как и любой человек, интересна в той или иной мере, если
только это - не чистый плагиат или клон.
Книга Бориса Александровича Кудряшова интересна в высшей степени,
если не уникальна. Уникален, прежде всего, ее автор. И не столько декларацией в
самом названии книги о том, что он - ровесник Октябрьской революции, сколько
тем, что автор, выходец из глубинки, из самой простой семьи, многого добив-
шийся благодаря самообразованию, любви к чтению, любознательности, стал
очевидцем и активным участником революционных преобразований родной
страны.
Произошло это во многом потому, что страна наша открыла путь к любому
уровню образования самому широкому, самому простому люду. Универсальный
инженер и ученый редкостного профессионального и житейского опыта, Борис
Александрович был объективным свидетелем многотрудного, трагического по-
рой, полного лишений и потерь, небывалого рывка в развитии страны. Рывка -
сначала в индустриализации огромной, сельскохозяйственной в основном стра-
ны, обеспечившей ей независимое развитие и победу в жестокой войне над фа-
шизмом. А затем он стал самым активным участником неповторимой эпопеи
восхождения СССР в новейшей технологической сфере - ракетной техники и
космонавтики. Эта эпопея неповторима прежде всего небывалыми Личностями
мирового масштаба, инженерами, учеными, создателями чуда летательной тех-
ники, которое при жизни одного поколения прошло путь продвижения по скоро-
сти полета от сотен километров в час - до многих тысяч, а также - высот полета
от нескольких метров до высот космических! Удивительно и неповторимо то,
что Борис Александрович Кудряшов, волею судеб, оказался в самом центре
множества важнейших событий, в широко разбросанных чисто географически
ключевых "точках" и организациях, среди главных "моторов" и "мозгов" разра-
ботки когда-то сверхсекретной летательной техники. Чего стоит одно упомина-
ние мест его работы и перечисление имен выдающихся людей, с которыми он не
только общался, но тесно работал с первых шагов в развитии отечественного ра-
кетостроения: В.П.Глушко, С.П.Королев, Д.Д.Севрук, М.К.Янгель, А.М.Исаев,
В.П.Макеев, Ю.А.Победоносцев... Удивительный список трудно оборвать... Кто
еще мог дать каждому из великих этого списка в отдельности и, главное, всем
вместе столь интересную и заслуживающую доверия свою личную оценку. Каза-
лось бы, многие основные события в истории создания ракетной техники уже
многократно и широко описаны в богатой отечественной литературе. Так же, как
почти всё известно о самых выдающихся Личностях этой эпопеи. Но кто еще мог
бы написать такое о С.П.Королеве и В.П.Глушко (при обнаружении какого-то
ЧП на стартовой позиции): "... Тут произошло такое, чего я не ожидал: СП стал
поносить В.П.Глушко самыми последними словами, не стесняясь и самых от-
борных нецензурных выражений. И в заключение дал команду: "Даю Вам час на
устранение неисправностей!". В.П.Глушко отошел, как побитая собака...".
Борис Александрович, по-видимому, вел дневник. Его книга наполнена
многими удивительными, точными техническими и бытовыми деталями, в ней
мало общих мест - автор стремился и сумел сказать нечто новое и существенное.
Сказать нечто свое, субъективное, прямое, резкое порой, нелицеприятное в чем-
то и для него самого, но честное - и тем особенно ценное.
Судя по всему, Борис Александрович был человеком бескомпромиссным,
возможно, конфликтным даже, судя по его самокритичным признаниям в много-
численных столкновениях с самыми разными людьми его столь яркой и напол-
ненной жизни. Активный комсомолец, коммунист, депутат, он резал правду-
матку в глаза, не терпел несправедливости, косности, поверхностности - ни в
ком и ни в чем. Возможно, потому, несмотря на очевидную широту и глубину
знаний, инженерный и организаторский опыт, он никогда и нигде не поднимался
выше некоего среднего уровня руководства. Но книга интересна и этим особен-
но, потому что победа на полях сражений завоевывается в равной мере и "мар-
шалами", и "солдатами". О тех, кто был между ними, а это - важнейшее звено,
написано у нас существенно, существенно меньше. О себе в этом отношении ав-
тор сказал не без сожаления и чистосердечно: "Сколько в моей жизни было воз-
можностей направить свою работу в более благоприятное русло! Но я не вос-
пользовался ими. Слишком полагался лишь на себя и не искал покровителя...".
Более того, почти с каждым из великих, свидетелем ошибок и упущений кото-
рых, случалось, бывал Б.А.Кудряшов, у него, по его признанию, бывали и перио-
ды сложных отношений... С некоторыми из них, не говоря уже о коллегах уров-
нем пониже, случались и "жесткие схватки"...
Что еще важно, по-моему. Я читал первый вариант сырой еще рукописи, не
завершенной автором в полной мере. Ее подготовил к изданию сын замечатель-
ного конструктора Бориса Александровича Кудряшова Артемий Борисович. Сам
известный специалист в области прочности авиационно-ракетной техники и мно-
гогранно талантливый, до щепетильности честный человек, Артемий Борисович
достойно исполнил долг сына и сделал многое, чтобы можно было сейчас ска-
зать с удовлетворением: книга его отца написана достойно не только по содер-
жанию, но и по форме. Сын вправе гордиться таким отцом, и он достойно носит
его фамилию. Не сомневаюсь, книга будет интересна самому широкому кругу
читателей, интересующихся как историей развития ракетостроения в нашей
стране, так и историей страны в целом, историей яркой жизни одного из совре-
менников Октября, никак не преувеличивающего его значение, но и не прини-
жающего. Яркий и скромный одновременно человек, человек с удивительной
памятью и наблюдательностью, здоровым любопытством и любознательностью,
он перепробовал множество разных занятий, прежде чем стать крупным инжене-
ром-ракетчиком. Благодарный своей стране, своим сподвижникам, своей семье,
Борис Александрович Кудряшов, живший в переломное время, полное великих
событий, обретений и потерь, взлетов и падений, оставил своим потомкам не
назидательное, но поучительное документальное повествование свидетеля Исто-
рии.
Г. А. Амирьянц, главный научный сотрудник ЦАГИ,
доктор технических наук
Ноябрь 2014 г., Жуковский
ТВОРЕЦ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ
Бориса Александровича Кудряшова (1917-1998 гг.) можно по праву отне-
сти к активным создателям ракетно-космической техники Советского Союза.
Прежде чем заняться главным делом своей жизни, он прошел непростой
путь. Трудной, но в чем-то обычной для довоенного поколения, была его моло-
дость: получил профессию в ФЗУ, работал на речных пароходах, учился в Казан-
ском авиационном институте. Уже в более зрелом возрасте завершил высшее об-
разование (диплом Московского авиационного института), окончил инженерные
курсы при МВТУ им. Баумана, Академию оборонной промышленности, написал
кандидатскую диссертацию, посвященную процессам в жидкостных реактивных
двигателях. Упорно работая, он стремился осуществить свою мечту, ставшую
целью жизни, - создавать ракеты для космоса и не только для него.
Так сложилось, что, выполняя важное задание Родины по изучению ракет-
ной техники Германии, он познакомился с выдающимся советским конструкто-
ром-ракетчиком С.П. Королевым. Да и где бы он ни работал - на производстве,
испытательных станциях или в конструкторских бюро, - профессиональная дея-
тельность сводила его со многими действительно талантливыми, блестящими
конструкторами и руководителями ракетно-космической промышленности: В.П.
Макеевым, Д.Д. Севруком, М.К. Янгелем В.П. Беляковым, Г.М. Табаковым, И.И.
Ивановым, В.П. Глушко, А.М. Исаевым и многими другими. Однако, по-моему,
характеристики, которые Б.А. Кудряшов дает этим известным людям, - сугубо
личное его мнение.
Особый вклад внес Борис Александрович в разработку одного из вариан-
тов двигателя лунной ступени ракетно-космического комплекса Н-1 (РКК Н-1),
который строился для полета человека на Луну. Последние трудовые годы своей
нужной и полезной для Родины жизни Борис Александрович посвятил новому
для себя делу - созданию криогенной техники, обеспечивающей получение, хра-
нение и заправку баков РКК криогенными компонентами топлив.
В воспоминаниях Бориса Александровича наряду с его работой очень
правдиво, честно и реалистично описаны события, происходившие в стране, по-
беды, горести и страдания наших людей, особенно во время Великой Отече-
ственной войны, и на этом фоне показана жизнь его семьи, родителей, детей,
друзей и товарищей.
Для укрепления могущества Родины он отдал силы, здоровье, неординар-
ный талант инженера, испытателя, конструктора и, как большинство здравомыс-
лящих граждан, тяжело пережил развал великой державы с ее уникальной (так
определил известный философ А.А. Зиновьев) цивилизацией.
А.М. Домашенко, главный специалист ОАО "Криогенмаш",
кандидат технических наук,
член-корреспондент Международной академии холода,
лауреат премии Совета Министров СССР
Сентябрь 2014 г., Балашиха
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ КУДРЯШОВ
И ЕГО "ИСПОВЕДЬ"
Кто такой Борис Александрович Кудряшов? Человек, который делал раке-
ты, чем занимался с молодых лет и до самой старости. А еще он любил своих де-
тей, заботился о родителях, обожал путешествия, восхищался природой, читал
"запоем", интересовался историей, ценил архитектуру, живопись и многое, мно-
гое другое.
Мне посчастливилось общаться с Борисом Александровичем все те годы,
когда он работал в ОКБ "Южное", а мы с его сыном крепко дружили, учились в
одном классе и заканчивали среднюю школу. И потом я встречался и достаточно
долго и интересно беседовал со старшим Кудряшовым, навещая семью младшего
в Жуковском во время моих приездов в московские края по служебным делам
или просто в гости.
Сын простого портного в провинциальном городке на Каме, где тогда по
традиции регулярно дрались татарские и русские обыватели "стенка на стенку"
(эту дикость еще мальчиком застал Борис), он в молодости увлекся идеей меж-
планетных полетов и стал настоящим ракетчиком. Умный человек, в любом воз-
расте упорно учился, совершенствовал свои знания, а когда было необходимо, то
и переучивался в зависимости от специфики работы: ФЗУ, Казанский, а затем
Московский авиационный институт, инженерные курсы при МВТУ им. Баумана,
Академия оборонной промышленности. Написал кандидатскую диссертацию по
одной из специальных тем своих повседневных исследований и опытных работ,
но не успел защитить, а экземпляры его научного труда были уничтожены в свя-
зи с истечением срока хранения секретных документов.
Руководитель среднего звена, непосредственно работавший со многими
главными конструкторами ракетных КБ, лично общавшийся с ними и в нефор-
мальной обстановке, в быту, Борис Александрович оставил любопытные впечат-
ления об этих людях, дела и заслуги которых не были известны даже их близким
родственникам, а лишь посмертно становились достоянием широкой публики,
так же как их фамилии и имена. Теперь открылось, что даже случаи трагической
гибели ракетчиков на работе представлялись, например, как авиационные ката-
строфы.
Непогрешимыми кумирами, судя по "Исповеди" Б.А. Кудряшова, главные
создатели ракетной техники не были. Люди с претензиями на исключительность
(потому и сделали так много), порой непримиримо соперничающие друг с дру-
гом, очень разные, совсем не идеальные по характеру, с личными недостатками,
некоторые даже с пагубными пристрастиями. Одно их роднило: беззаветная,
прямо-таки фанатическая преданность своему делу - ракетостроению.
Да, эти люди - не ангелы. (Таков и автор воспоминаний о них - святой и
грешный.) Но и жизнь их безоблачной не назовешь: крайне напряженный, нерв-
ный, изматывающий труд с постоянным риском, нередко нештатные ситуации,
сугубая секретность, непрерывная "опека" спецслужб, угроза за малейший про-
мах немедленно попасть в "места не столь отдаленные" (некоторые из них в са-
мом деле там побывали), а в сталинское время реальная возможность и похуже
получить наказание и т.д., и.т.п.
Борис Александрович отличался исключительной отзывчивостью и при
этом характер имел твердый, выработанный еще в юности во время работы су-
домехаником на речном флоте, да и от природы. Умел настоять на своих техни-
ческих решениях и где надо власть употребить. В "высоких" кабинетах москов-
ского министерства добивался законной премии для подчиненных, а у непосред-
ственного руководства - оплаты за сверхурочные работы для своих механиков на
испытательных станциях, за что сотрудники его очень уважали.
География рабочих мест Б.А. Кудряшова весьма обширна: Казань, после-
военная Германия (командировка для изучения немецких ракет), подмосковные
Химки, Подлипки и еще Златоуст, Днепропетровск, Балашиха. Связанные с эти-
ми местами события и люди, о которых он вспоминает и очень живо пишет со-
всем не книжным языком, интересны не только ему одному. Тем более что о дея-
тельности в отечественной ракетной отрасли публикаций до сих пор крайне ма-
ло. Кстати, из всех воспоминаний о ракетчиках, которые мне довелось прочесть,
это единственное, где автор сам рассказывает "о времени и о себе".
Не показной патриот и настоящий гражданин, которому "за державу обид-
но", Борис Александрович с горечью переживал крушение нашей супердержавы,
для укрепления могущества которой отдал столько сил, здоровья, ума и способ-
ностей. На склоне лет он крепко задумался об истории Отечества и стал искать
пути его возрождения. Все это отразилось в его записках, в "Исповедь" не во-
шедших.
Случалось ему ошибаться, но душой не кривил. Сам честный, он и других
призывал жить по совести и справедливости. А это совсем не просто и не легко.
Такой и была - трудной, но очень интересной - долгая жизнь этого незаурядно-
го человека - Бориса Александровича Кудряшова.
О.Г. Курындин, редактор (1972-2008 гг.) научных трудов
бывшего Всесоюзного НИИ трубной промышленности
(ВНИТИ)
Январь 2014 г., Днепропетровск
ДЕТСТВО
Чистополь. - Первые впечатления: кулачные бои обывателей "стенка
на стенку". - Житье-бытье детей и взрослых, семейное обустройство.
Школа комъюной молодежи (ШКМ). - Индустриализация и коллективиза-
ция, первые последствия. - Учеба, "запойное" чтение. - Увлечение радиокон-
струированием, рискованная добыча деталей. - Первые поездки по Каме. -
Выпуск из ШКМ
Я родился в 1917 году в Чистополе - провинциальном городе на Каме.
Первые мои воспоминания связаны с ожиданием отца после гражданской войны
из армии. Встретил я его недружелюбно, так как моя мама, обняв отца, заплака-
ла. Я еще был несмышленыш и не мог знать, что плачут и от радости.
Жили мы тогда в небольшом домике (флигеле, если можно его так
назвать), расположенном в глубине двора позади двухэтажного дома, который
занимали несколько семей. За нашим жильем, состоящим из "залы" с кухней,
был небольшой садик, спускающийся в овраг. С этого спуска была видна Кама, а
наши дома были расположены в переулке, из которого через какие-то кривые
улочки тоже можно было выйти к реке.
Отец, едва возвратившись, принялся за свое ремесло - портного. В кухне у
окна на двор стояла его швейная машинка "Зингер", и на ней он и работал при
открытых летом рамах. Часто со двора к нему на подоконник залетала курица,
которую он прозвал Наяшка.
Отцу мной заниматься было некогда. Редко, во время краткого отдыха, он
брал меня с собою, когда шел искупаться в Каме. Пытался и меня обучить пла-
ванию, но я этому плохо поддавался и купаться не привыкал.
В детстве я был слабым и болезненным мальчиком и меня не раз обижали
соседские ребята. Отец за меня никогда не заступался. Особенно досаждал мне
татарчонок из соседнего двора. Как-то, побитый им и плачущий, я повстречал
своего двоюродного брата, который был лет на пять старше меня и жил через пе-
реулок напротив. Узнав, почему я плачу, он сказал: "Да ты же сильнее его и
сможешь его победить!". Когда в следующий раз соседский татарчонок попытал-
ся меня в очередной раз побить, я оказал ему сопротивление и действительно
побил его.
Вообще, в то время в городе регулярно устраивались кулачные бои между
русскими и татарами. Обычно в одно из воскресений собирались у мостика через
небольшую речонку-ручеек, протекающую через город и впадающую в Каму.
Когда уже накапливалось порядком народа и с той и с другой стороны, первыми
начинали драться меньшие татарские и русские ребятишки, за них постепенно
вступались ребята постарше, после юноши, а затем, оттесняя эту мелочь, начи-
нали бой и парни, и взрослые мужчины. Применять какое-нибудь оружие или
прятать в рукавицы (бои происходили обычно зимой) какие-нибудь металличе-
ские предметы категорически запрещалось. Нарушивший это правило, избивался
дерущимися с обеих сторон.
В нашем переулке славой сильного бойца пользовался шорник Вагучов,
черный, заросший усами и бородой мужик. На бой он выходил с тремя своими
сыновьями и не раз бывал так избит, что его приносили домой замертво. Но ско-
ро он "оживал" (ведь били-то не насмерть) и в очередной раз отправлялся на бой.
Зимним моим развлечением, длившимся довольно долгое время, было ка-
тание на салазках по одной из улиц с крутым спуском к тому самому ручью или
просто блуждание с ними по задворкам и свалкам. Можно было не бояться по-
пасть под машину, так как в то время на улицах еще не было автотранспорта - ни
легкового, ни грузового. Близких товарищей тогда у меня не водилось.
Немного помню голодный 1921 год. Видимо, наш край самый тяжкий го-
лод обошел. Но все же и в нашем городке была устроена благотворительная дет-
ская бесплатная столовая. И мама меня туда водила. Несколько раз она получала
банки какой-то американской (видимо, специально для детей) мучной смеси
("Нестле", если я не ошибаюсь в названии). Помню, что часто совсем не было са-
хара и соли. Последнее помню потому, что один раз отец собрал какие-то вещи и
поехал менять их в Уфу на соль. Но быстро вернулся обратно: в дороге его
обокрали.
Вскоре отец стал "выходить в люди", и мы переехали из своего "флигеля"
(он был не наш, а мы его снимали у хозяйки двухэтажного дома "нашего" двора)
на квартиру, занимавшую половину кирпичного дома той же владелицы. Эти по-
стройки были расположены на одной из центральных улиц города, носившей ра-
нее название Дворянской.
Двор был обширный, с кирпичными и деревянными сараями, с амбарами и
коровниками в задней части. В нем стояли два дома: большой, двухэтажный, с
четырьмя квартирами и малый с двумя. Позади двора находился большой фрук-
товый сад, а за малым домом еще и палисадник с китайкой.
Все квартиры занимали шесть семей разного достатка. Хозяйка жила с
родственниками в передней части большого дома, далее парадной лестницы ко-
торого меня не пускали. Этажом ниже размещались бывшие владельцы парохо-
дов Рукавишниковы, и еще там проживал с семьей нотариус Никольский. Нако-
нец, в полуподвальном этаже задней части этого дома ютилась семья какого-то
мелкого служащего Смирнова. Доступ мне был только в квартиры нотариуса,
куда я однажды был приглашен на день рождения его дочери, да Смирновых, ку-
да звала меня мать их сыновей, когда уходила на работу, "поиграть с ребятишка-
ми". Оба брата были моложе меня, но я охотно к ним ходил, так как только в их
компании чувствовал себя свободным. Чего мы только не вытворяли в отсут-
ствие родителей!
У нас, в передней квартире маленького дома, была небольшая комната-
мастерская отца, еще темная комнатка рядом с ней, где спала моя бабушка - мать
отца, кухня, зальце на три окна на улицу и спаленка отца с матерью. Бабушка
была уже старенькой, почти никуда не выходила, вечно на кого-то была обижена
и, когда по воскресеньям уходила в церковь и я ее спрашивал: "Куда ты, бабуш-
ка, пошла?", отвечала всегда одинаково: "Куда, куда... На Кудыкину гору!". Я не
помню ни одного разговора с нею.
В целом во дворе было очень много детей самого различного возраста. К
нам приходили играть и из соседских дворов, и других, расположенных через
улицу. Но забавлялись большей частью на большой зеленой лужайке, находив-
шейся на некотором возвышении над улицей, или просто на тротуарах. Сюда
прибегали и татарчата с недалекой Татарской улицы.
Обычно весной первыми начинались бабки, или, как иногда называли эту
игру, козлы. Играли в прятки, в мяч, в догонялки, устраивали цирковые пред-
ставления, упражнялись на турнике, пускали в небо змеев. Ночами лазили в хо-
зяйкин сад и обирали ее яблоки, груши и китайки. И что удивительно - я не пом-
ню ни одного случая драки. Это я объясняю тем, что обычно играли вместе и
мальчишки, и девчонки и все мы не были ровесниками.
Но самое интересное и примечательное происходило иногда вечером, ко-
гда мужчины, почти все еще молодые, приходили с работы, или в воскресенье.
Собиралось все население двора и близлежащих дворов. И играли в лапту. По
мячу били взрослые, а ребятишки бегали. (Не буду здесь описывать правил игры,
хотя она того и заслуживает.) Несмотря на то, что "забойщики" располагались в
глубине двора, мяч не раз при удачном ударе улетал за ворота. Он был сплошь
резиновый небольшого размера, и если попадал в руки того, кто посильнее, то
удары от него были очень болезненны. Настолько, что иногда хотелось запла-
кать.
Я отличался в цирковых представлениях, ухитряясь пролезать через "за-
мочную скважину" (этот номер мы видели в приезжавшем в наш город цирке).
Она представляла собой вырезанное в листе фанеры круглое отверстие, через ко-
торое едва могла пролезть голова, с завершающим его небольшим прямоуголь-
ником. Не было мне равных, несмотря на мой детский возраст, и в упражнениях
на турнике. Много номеров я знал и умел исполнять, в том числе и висеть на
ступнях ног, а затем вдруг спрыгивать головой вниз с турника. Как сейчас пом-
ню, один раз я сорвался из такого висячего положения и больно ударился голо-
вой об землю. Но все заживало, все проходило.
Я рос, и радиус моих путешествий по городку увеличивался. Начались
прогулки с товарищами и по "главной" улице, на которой мы охотились за ко-
робками из-под папирос и фантиками от конфет. Тогда все дети их усиленно со-
бирали. Все это происходило, насколько я понимаю сейчас, в разгар НЭПа. Кру-
гом открывались частные лавочки, мастерские, пекарни, и вскоре я стал ходить
за свежим хлебом в одну из них. В магазинах появились сладости, колбаса. И по
воскресеньям родители посылали меня за конфетами. В это время, но не очень
долго, мы посещали с отцом и матерью какую-то общественную столовую. Обе-
ды покупались заранее на целый месяц. У каждого было свое закрепленное место
и определенная очередь. Хорошо помню запахи этого времени. На "главной"
улице было несколько пивных, и из них пахло добротным пивом и пищей.
Как-то раз зимой, рано утром, отец взял меня с собой на базар. Туда нужно
было приходить с рассветом. Чего-чего только не было на этом базаре! Больше
всего мне запомнились маленькие игрушечные салазки. Но отец купил мне
настоящие детские санки. Дома я сам приделал под углом к ним боковые ограж-
дения, и у меня получились настоящие сани, которые стали моими всегдашними
спутниками.
Помню пожар, который случился у нас во дворе, в задней его части, в ко-
ровниках за амбаром. Отец и мать в тот вечер собирались в театр. Вдруг моя
двоюродная сестра Нина выскочила из туалета, где она кормила помещенного
туда недавно народившегося теленка и закричала: "Пожар! Горим!".
Начался переполох. Из квартир стали вытаскивать вещи на улицу, меня от-
вели к знакомым. Но пожар вскоре потушили. Хлева немного обгорели. Но что
странно, во время пожара пропала большая часть нашего белья, которое мама
перед этим постирала и повесила просушить на чердаке над сараями.
Прошло следствие, подозревали и мою сестру Нину, что будто это она во
время дойки запалила случайно коровник. Но подозрение отпало. Это было, по-
жалуй, зимой 1924 года.
А на следующее лето или через год отец сумел выстроить себе собствен-
ный дом на ближайшей к нам 1-й Татарской улице. Тогда там жили только тата-
ры. И вслед за отцом купил соседний двухэтажный дом и переехал туда его хо-
роший товарищ сапожник Константин Иванович Шумилов.
Как-то в начале лета я прибежал с улицы домой. Отец и мать сидели за
столом. Мама говорит мне: "Скажи: слава Богу!" - "Зачем?" - "Скажи!" - "Слава
Богу!" - повторил я. И тут мама сообщила мне, что пригнали с Вятки срублен-
ный там для нас дом. Плотогонщики и взялись его строить. Вначале бревна вы-
таскивали на берег, после перевозили на лошадях на отведенный отцу пустой
участок. А я все время бегал на Каму и носил плотовщикам завтрак, обед, ужин,
всякие пирожки. После этого стали складывать стены из бревен, прокладывая
между ними паклю.
Дом делали пятистенный. За лето его построили, и к зиме мы туда пере-
ехали, хотя никаких сеней и даже лестницы не было. Дверь с улицы открывалась
прямо на кухню, и в нее врывался холодный воздух. Первый год было очень хо-
лодно, хотя в помещениях сложили две печки: в зальце круглую "голландку", в
кухне обычную русскую. Во время строительства отец ежедневно выпивал с
плотниками, а по окончании работ напился так, что лежал какое-то время совсем
без сознания.
В этот год появилась на свет моя первая сестра, Аля. И мне частенько при-
ходилось нянчиться с нею.
Следующим летом сделали просторные бревенчатые сени и крыльцо. По-
строили коровник и вновь купили корову. Прежнюю зарезали на мясо, когда
начали строить дом. Отец взял меня на задний двор, где привязали корову, и, ко-
гда мясник вонзил нож в ее горло, она так страшно закричала, что я плача убе-
жал, и до сих пор эта картина убийства коровы часто возникает у меня перед гла-
зами.
Участок, где стоял наш дом, был очень большой, заросший бурьяном.
Лишь в конце его росло несколько кустов да с правой стороны бузина. На своей
земле мы в первую же весну посадили вилков шестьдесят капусты, помидоры,
огурцы, свеклу; я посеял морковь, бобы, горох. Большую часть участка заняли
картофелем.
Рядом на несколько меньшем, совершенно голом наделе, жили в трех рас-
положенных один за другим домах три татарские семьи: в переднем бывший
мулла с двумя сыновьями и двумя дочерьми, за ним каменщик с сыном и двумя
дочерьми, и в заднем две незамужние женщины.
Двор наш был плохо огорожен и для меня представлял широкое поле дея-
тельности. Здесь мы играли с соседями-татарчатами в разбойники, устраивали
целые сражения. Отсюда я лазил по соседским садам (два из них имели общие
границы с нашим забором позади участка). Во дворе я показывал различные фо-
кусы, ездил на трехколесном велосипеде без шины на переднем колесе. (Отец
купил мне его в качестве подарка ко дню рождения где-то на барахолке.)
Вообще, подарками меня не баловали. Самый дорогой был именно этот ве-
лосипед. Потом помню большой резиновый мяч, который прокололся (наверное,
он был уже неисправен при его покупке и умело подклеен). Однажды мама пода-
рила к моему дню рождения рубашку с вышитым воротником, а, когда я был уже
более взрослым, отец купил мне книгу Жюля Верна, а в другой раз книгу Андре-
ева "Рассказы", которая была мне совсем не по возрасту. Там были описаны вся-
кие случаи с молодыми людьми в пору их полового взросления, рассказано об
изнасиловании девушки на глазах любящего ее юноши кучкой каких-то отбросов
общества.
Между тем я подрос и поступил в первый класс (еще в то время, когда жи-
ли на квартире). Отдали меня учиться в так называемую полевую школу: она
находилась на самом краю города, а дальше начиналось поле. Ее здание было де-
ревянное, одноэтажное, очень небольшое. Здесь получали только начальное, че-
тырехклассное образование. Ходить туда было далеко, но я радовался, что зани-
маюсь именно в этой школе. У нас был очень молодой, преданный своему делу
учитель Федор Иванович Бакаров. Его образ и сейчас стоит мысленно перед мо-
ими глазами. Стройный, всегда спокойный, очень внимательный и ласковый.
Учился я посредственно, только в математике показал значительные успехи. Фе-
дор Иванович часто занимался с нами счетом в уме. И когда отвечали неверно,
он обычно обращался ко мне, и я всегда давал правильный ответ.
Это было давно, и из всех событий я хорошо помню лишь несколько. В
первые же дни пребывания в школе моя одноклассница Нина Попова предложи-
ла мне остаться после уроков в классе. И думаете для чего? Она учила меня це-
ловаться!
Помню случай, который до сих пор мучает мою совесть. Каким-то образом
я умудрился брызнуть ручкою чернилами в тетрадь впереди сидящего ученика.
И после, как ко мне ни приступали, как ни доказывали по цвету чернил, что
именно я это сделал, я упорно отказывался и так и не признался, чем вызвал воз-
мущение даже Федора Ивановича.
Было и такое. Ученик второго класса Славик Муравьев, мальчик упитан-
ный, значительно выше меня, на переменах все приставал ко мне с угрозами,
грозился побить и пр. И вот как-то мы с ним встретились нос к носу на улице. Я
хотел было проскользнуть мимо (боялся его), но он меня остановил и ударил по
лицу. Пришлось ответить. И вдруг случилось неожиданное. Он наклонил голову
так, что уже не мог видеть меня, и стал наступать, размахивая что есть силы ру-
ками. Тут-то я и воспользовался этим неожиданным поворотом драки. Глядя за
ним во все глаза, я все время ударял ему снизу в лицо, не подставляясь сам, и так
вошел в какую-то ярость, что все его лицо раскровенил. И неизвестно, чем бы
все кончилось, если бы не случился совершенно неожиданно рядом Федор Ива-
нович, не развел и не успокоил нас. Какой уж разговор он вел с нами, я сейчас не
помню.
Кстати, мать этого Муравьева была тоже женщиной очень полной. Отец
шил на нее пальто. И вот однажды, работая, он слышит, что кто-то стучит в окно
с улицы. А калитка у нас не запиралась, и лишь ее раствор ограничивался цепью,
чтобы не выходила на улицу корова, но та все-таки иногда ухитрялась протис-
нуться на улицу. Выходит отец и встречает у ворот эту самую Муравьеву, кото-
рая никак не смогла пройти через ограниченно открывающуюся калитку. "У нас
здесь и корова проходит", - заметил очень нетактично отец и, сняв цепь, пропу-
стил заказчицу, пришедшую на примерку пальто.
И еще один случай припоминается мне. Отец шил пальто директору нашей
школы Сергею Ивановичу Лебедеву. И тот однажды, а он жил в доме во дворе
школы, останавливает меня и поручает передать отцу "приклад" к пальто: пуго-
вицы, специальную волосатую ткань и пр. А в это время к школе пристраивали
новые помещения. И вот работавшие плотники окликают меня: "Эй, малыш! Не
нужно ли тебе ужа?". Они только что обнаружили и поймали его. Я согласился
взять. Они завернули ужа в газету, и я понес домой два свертка.
В то время отец обучал портняжному ремеслу двух девушек. Когда я при-
шел домой, ученицы работали в мастерской, а отец примерял в зальце пальто за-
казчику. С вполне определенной задумкой я положил оба свертка на каток (так
называется стол, на котором обычно шьют сидя, скрестив ноги), сказал, что это
приклад от Лебедева, и пошел в зальце. Я был уверен, что любопытство заставит
будущих портних развернуть свертки. Так оно и случилось. Вдруг раздался ду-
шераздирающий крик. Отец, бросив заказчика, стремглав кинулся в мастерскую.
Я пошел за ним, уверенный, что и он посмеется моей шутке. Но отец основа-
тельно отшлепал меня и выкинул ужа в палисадник перед домом. Больше я этого
ужа не видел.
Вспоминаю, что класса с четвертого у нас была введена так называемая
бригадная форма обучения. Учащиеся разбивались на бригады с таким расчетом,
чтобы в каждую входили и сильные, и слабые ученики. Были выделены специ-
альные часы для самостоятельной бригадной работы и назначены бригадиры.
Одним из них был я. После самостоятельных занятий кто-то из учеников отвечал
преподавателю, а его оценка ставилась всем членам бригады.
Можно было бы при желании вспомнить и другие случаи, но хватит. Разве
сказать, что в школу мы ходили мимо тюрьмы, в которой, много позже, отбывал
свой срок диссидент Орлов.
Здесь, в этой полевой школе, я встретился и стал дружить с Сергеем Охо-
тиным, а затем и с его сестрой Ольгой. Это были дети из бывшей дворянской се-
мьи. Их отец, Павел Александрович Охотин, в прошлом белый офицер, в совет-
ское время до самой своей естественной смерти работал в городе адвокатом. А
мать, Нина Васильевна Охотина, по специальности зубной врач, в то время при-
нимала пациентов на дому. Была у них и бабушка, тоже Нина Васильевна. Жили
они на той же бывшей Дворянской улице, только ближе к центру, в престижной
ее части.
Был у них не один, а два дома. Один полутораэтажник фасадом на улицу, а
другой - вместительный флигель в глубине двора с тремя входами: черным на
кухню, парадным в небольшую прихожую и третьим с застекленными дверями
на веранду в саду. Во дворе было много построек, в частности баня. За флигелем
находился большой ухоженный фруктовый сад с аллеями. В углу в задней части
сада рос большой вяз, к одной из мощных ветвей которого были прикреплены
качели, а среди его кроны была устроена Сергеем специальная смотровая пло-
щадка.
Сергея в школе не то чтобы не любили, а преследовали как малыша, не
умеющего постоять за себя. И вот я частенько шел провожать его домой. Сергей
не особенно успевал по математике, и мы вместе стали делать у них дома уроки.
Мне очень нравилось бывать в этой семье, в их просторном доме, в саду, всегда
полном фруктами, а к сезону и ягодами. Иногда я с ними обедал. Здесь же при-
страстился к чтению. Был в их доме полный книгами шкаф, комплекты "Нивы"
за несколько лет. Первыми книжками, прочитанными у них, были "Фриц и Мо-
риц шалуны" и т.п. Затем я "проглотил" несколько книг Чарского, много произ-
ведений Жюля Верна, очень много Джека Лондона и др.
Бабушка единолично вела все их домашнее хозяйство и, если выпадало
время, подолгу читала - какие-то книги Марлинского и еще другие. И Сергей, и
Ольга учились играть на фортепьяно и французскому языку. Моя мама, следуя
примеру, пыталась и меня обучить этим благородным наукам. Но из меня ничего
не вышло. Слуха у меня не было никакого. А занятия французским настолько от-
влекали меня (ведь мне хотелось и побегать, и поиграть), что я стал не успевать в
школе.
Но все когда-нибудь кончается, и всегда найдется место новому. Началь-
ное обучение завершено, и нас перевели в полную среднюю школу, в здании
бывшей мужской гимназии, в 5Б класс. К старым друзьям прибавились новые (не
все наши одноклассники продолжили учебу в средней школе), появились другие
учителя, мы попали в иное окружение. И в стране жизнь совершенно изменилась.
Выше я вспоминал и излагал события не всегда в той последовательности,
в которой они происходили. Но период учения в школе комъюной молодежи
(ШКМ), как она тогда называлась, вообще запомнился мне как какая-то путаница
всего, что тогда происходило со мной и вокруг меня.
Прежде всего, попробую разделить все события по их содержанию: пол-
ный ход индустриализации в стране и начало коллективизации сельского хозяй-
ства; учение в школе и наши, мои и моих сверстников, другие занятия в это вре-
мя; увлечение радиоприемниками; первые плавания по Каме и лесозаготовки.
Индустриализация и коллективизация в первую очередь коснулись нас тем,
что из продажи постепенно исчезли все продукты. Началось нормированное рас-
пределение хлеба. Все вступили пайщиками в потребительскую кооперацию, но
по специальным книжкам кооператорам мало что выдавалось. В магазинах все
полки были забиты какими-то заменителями кофе.
Портные города объединились в артель "Прогресс". Отец стал ее председа-
телем. Помню, что на главной улице города они арендовали помещение, куда и
переместили свои швейные машинки. Отец занимался административными де-
лами, принимал утильсырье, заказы, и, как один из лучших мастеров, выполнял
обязанности закройщика. Вообще, портные от этого объединения выиграли. Ра-
ботать совместно стало веселее. Недаром именно в это время иногда устраива-
лись увеселительные вечера, где выпивали (очень умеренно), закусывали (по
необходимости тоже умеренно) и танцевали. Все это происходило в том же са-
мом помещении, где днем работали, лишь машинки расставляли по углам и уби-
рали в другие комнаты.
Нас, учеников, в начале коллективизации неоднократно возили смотреть
вновь созданные колхозы. Но эти экскурсии сводились к нашей кормежке в кол-
хозной столовой, а если дело было весной, то угощали прямо на угодьях из пере-
движной полевой кухни. А в старших классах, особенно в седьмом, мы иногда
помогали сельскохозяйственным коллективам. Более сильные работали помощ-
никами трактористов. Я и несколько других ребят сажали деревья. Трудились мы
и на сенокосе: подбирали сено.
Все другие события в деревне как-то проходили мимо нас. Правда, одна-
жды, когда я шел по городу, по улице, ведущей к Каме, проехала длинная колон-
на подвод со скарбом и сидящими на них людьми. Лишь позже я понял, что это
везли раскулаченных. Я был тогда глубоко аполитичным, да и вообще не помню
никаких разговоров о политике ни между учениками, ни среди наших родителей.
В отношении пищи мы все более рассчитывали на свой огород и на корову.
Летом всю скотину города переправляли вплавь через небольшой пролив на ост-
ров посреди Камы, одна часть которого была покрыта сплошными зарослями
тальника и густой травой, а другая, обращенная к судоходной части реки, служи-
ла отличным песчаным пляжем для отдыхающих горожан. Для дойки коров
утром и вечером их хозяйки переправлялись на остров специальным паромом. И
раньше я ежедневно летом ходил с утра на базар и продавал за 20 копеек чет-
верть молока, а затем на полагающиеся мне из вырученных денег 5 копеек поку-
пал, выстояв очередь, отличную французскую булку. Теперь же все молоко ухо-
дило на внутренние нужды семьи, тем более что у меня появилась и вторая сест-
ренка, Рита.
В это же время в городе сломали и три церкви: татарскую со всеми по-
стройками, затем Спасскую, стоявшую в самом центре, и еще одну, очень высо-
кую, из красного кирпича, что была на самом возвышенном месте. По какой-то
причине я на этих варварских действиях не присутствовал. Но однажды в начале
занятий, кажется, в седьмом классе сидевший на передней парте Женька Мокро-
усов, которого за что-то мы все звали "жидом", и он не обижался, вдруг обернул-
ся, перекрестил нас большим, возможно, позолоченным крестом и тотчас спря-
тал его себе за пазуху. Как он после нам сказал, это он раздобыл при разрушении
Спасской церкви.
Учились мы тогда ни шатко, ни валко. Считалось необходимым успевать
лишь по математике (преподаватель Александр Николаевич Косарев), физике
(учительница Галина Александровна Гордеева) да химии (учитель Оберюхтин).
По литературе "проходили" что-то Ляшко, "Правонарушителей" Сейфуллиной,
"Соть" Леонова, "Разгром" Фадеева, "Чапаева" Фурманова. А было ли что-
нибудь из классической литературы, не помню. На внеклассных занятиях мы -
во всяком случае, та группа учеников, к которой относился и я - прочли "Капи-
танскую дочку", "Повести Белкина", "Дубровского" А.С. Пушкина.
Вообще, мы читали очень много, не в пример нынешним молодым людям,
правда, часто в ущерб основным занятиям. Спрячешься за спину впереди сидя-
щего ученика, раскроешь на коленях книжку - и забудешь про урок. Если кто-
нибудь из нашей компании доставал какую-нибудь интересную приключенче-
скую книгу, она по очереди (только на день!) обходила всех. Это были сочине-
ния Жюля Верна, в первую очередь его знаменитые "Дети капитана Гранта", "20
тысяч лье под водой", "Таинственный остров". Затем последовала бесконечная
вереница других: "В 80 дней вокруг света", "Плавающий остров", "Упрямец ",
"Из пушки на Луну" и "Вокруг Луны", "500 миллионов", "Робур завоеватель",
"Зеленый луг", "Морской Змей"... Читали повести Майна Рида "Кварт", "Всад-
ник без головы", "Водою по лесу" и др. "Проглотили" массу произведений Фе-
нимора Купера, Конана Дойля (разумеется, "Приключения Шерлока Холмса",
"Приключения бригадира Жерара"), Вальтера Скотта, Герберта Уэллса, Луи Жа-
колио и Луи Буссенара. Кроме того (уже не помню авторов) прочли "У подножия
трона", "Приключения Хрума" (о крысе), "Харита", и, конечно же, Марка Твена
"Приключения Тома Сойера", "Приключения Геккельберри Финна", "Том Сойер
сыщик", "Том Сойер в Африке".
Ни в футбол, ни в волейбол мы в то время не играли и их не видели. Ведь
не было не только телевидения, но и радио. Но многие из нас занимались кон-
струированием приемников, и я том числе. Однажды по пособию "Как конструи-
ровать радиоприемники" собрал детекторный: на ламповый не было денег. Пе-
ременные конденсаторы, катушки, аккумуляторы и батареи делали сами.
В этой связи помню, как мы - я, Николай Неклепаев и Африкан Егоров -
своровали в пионерском клубе большую катушку с проволокой ПШО-0,2, что
значит "провод в шелковой оболочке 0,2 мм толщиной". Вообще, в это культур-
ное заведение мало кто ходил, радиокружка в то время в нем не было, а вот в од-
ной из комнат в шкафу мы заметили большую катушку этой проволоки.
Придумали план похищения. Оставили отпертым окно на чердаке. И как
стало темно, пробрались через него внутрь. Забрали катушку. А вот когда стали
слезать с крыши, нас из своей квартиры, что находилась тут же, заметил сторож.
Во двор клуба слезли Неклепаев и Егоров. Я же спрыгнул в соседний, примыка-
ющий. И тут страшно залаяла и кинулась ко мне большая собака. К счастью, она
была на цепи, а цепь привязана к проволоке, протянутой поперек двора. Бросил-
ся к воротам - они заперты изнутри. При поднятом шуме, крике, лае собаки и
грохоте цепи, путаясь в запорах, я все же быстро сумел открыть их, выбежал и
спрятался за один из ларьков, расположенных напротив. Вскоре ко мне присо-
единился и Егоров, а Неклепаев пропал. Долго мы дожидались Николая возле
клуба и после у его дома. Но напрасно. "Попался, - решили мы. - Завтра придут
и за нами". Катушка была у Егорова.
Каково же было наше удивление, когда на другой день мы встретились с
Неклепаевым. Оказывается, он спрятался во дворе клуба в выгребной яме. Во-
круг ходили люди с фонарем, но туда никто заглянуть не догадался. Так спасся и
он. К слову сказать, Африкан Егоров был хитроумен на всякие выдумки. Во дво-
ре его дома (у них был собственный полутораэтажный довольно большой, но
старый дом) он провел телефон между жильем и сараем. Составлял из серы, се-
литры и угля порох и взрывал эту смесь. В подвале сделал установку, на которой
создавал мощную вольтову дугу, которая разряжалась с большим грохотом. Для
этого он одновременно включал несколько десятков электрических лампочек.
Конечно, их нужно было где-то достать. И вот для этого мы с ним учинили
настоящий грабеж во всех общественных туалетах, в Доме учителя (в библиотеке
и за сценой зала), в поликлинике и других местах.
Одним летом отец купил лодку, которую назвал "душегубкой". И в самом
деле, на ней можно было находиться вдвоем, лишь не допуская излишних дви-
жений, иначе она опрокидывалась. Когда нам нужно было поменяться местами,
мы делали это с большими предосторожностями.
Вначале отец разрешал мне ходить по реке лишь с ним. Я не умел и за всю
жизнь так и не выучился плавать, хотя и не раз пытался различными путями,
вплоть до того, что останавливал лодку на глубоком месте, прыгал в воду, а за-
тем с большим трудом добирался до нее и влезал на борт. Но скоро я стал безбо-
язненно управлять этой посудиной и один. И очень часто. (Как говорит послови-
ца, кому суждено быть повешенным, тот не потонет.) Я любил грести против те-
чения. Уплывал вверх по Каме все дальше и дальше, вплоть до Змиева - это ки-
лометров двадцать от нашего города.
Позже отправлялся на несколько дней пожить одному за Камой. Возьмешь
удочки, наберешь обычно картофеля, огурцов, моркови, лука, помидоров со сво-
его огорода, возьмешь краюху хлеба и обязательно каких-нибудь книг (в то вре-
мя в библиотеке, где я пользовался авторитетом, как постоянный читатель, мне
выдавали целое собрание сочинений А.П. Чехова, А.Н. Островского) и отправля-
ешься на четыре-пять дней за реку. Быстро построишь шалаш из тальника и за-
гораешь, читая под солнцем книги. Рыбы ловилось у меня мало и все больше
мелкой, но и из нее я варил уху. Съешь все привезенное из дома - и обратно в
город.
Были и более серьезные поездки по Каме. Летом вся отцовская артель
обычно уходила в отпуск. Все вместе недели на две-три выезжали в Змиево заго-
тавливать дрова на зиму. Обычно отправлялись на четырех-пяти лодках, боль-
ших, вместительных. Плыли до Змиева не на веслах, а вели лодки бечевой. При-
быв, разбивали на берегу палатки, некоторые семейные, а некоторые холостяц-
кие. Невдалеке от остановки (обычно не более часа пешей ходьбы) выделялся
участок для заготовки дров. С раннего утра все шли туда валить сухостойные де-
ревья. Женщины оставались в лагере готовить пищу, я же уходил с мужчинами.
Помогал обрубать сучья со сваленных деревьев, иногда выполнял задание сбе-
гать в лагерь за чем-нибудь.
Поздним вечером или ранним утром портные-рыболовы обеспечивали об-
щий котел рыбой. Когда улова не случалось, то варили супы из просушенной на
солнце говядины. Иногда приходилось ездить за покупками в город или подку-
пать что-нибудь у окрестных местных жителей, в большинстве татар.
Одним летом на заготовку дров поехали так же коллективом на старую
Каму (старое русло реки). Этот случай запомнился лишь тем, что добирались до
места поздней ночью, перетаскивая лодки через мели, да тем, что по прибытии
быстро была сготовлена "двойная" уха из рыбы, выловленной бреднем в каком-
то пруду (вероятно, браконьерским способом). Двойная уха - это когда варятся
сначала щуки, ерши, окуни, затем вся эта рыба выбирается из котла, и загружа-
ются лини и другая "благородная" рыба. Чрезвычайно вкусно.
Теперь следует сказать о том, как мы кончали седьмой класс ШКМ. Сроч-
но потребовались промышленности новые кадры. И последовало указание из
двух седьмых классов сформировать один "ударный", который должен был за
год пройти обучение в восьмом и девятом (десятых тогда не было). Предполага-
лось средние школы закрыть, а оставить лишь рабфаки (рабочие вечерние сред-
ние школы), ремесленные училища и ФЗУ.
"Ударный" класс был сформирован в основном из 7А, где учились наибо-
лее сильные. Из нашего 7Б почти никто туда не попал. Наш же класс был значи-
тельно пополнен слабо успевающими учениками из 7А и стал многочисленным.
Был к нам назначен новый молодой учитель математики Николай Андрианович
Зубков (Никанзуб, как мы его называли по аналогии с прозвищами учителей из
книги "Дневник Кости Рябцева" уже позабытого мной писателя. Там фигуриро-
вали, например, Елицкитка и Никанчкот).
Математику, особенно алгебру, я совершенно перестал понимать и в ней
начисто не разбирался. Но так или сяк, выпускные экзамены за ШКМ были,
словно в тумане, сданы, и нам выдали определенные свидетельства. Многие из
моих теперь уже бывших друзей, в том числе и закадычные Павел Бочкарев,
Леонид Воскресенский, Талгат Сафин, уехали поступать в техникумы или другие
учебные заведения. Кто-то пошел в городское ФЗУ и ремесленное училище, не-
которые стали работать. Я пытался получить направление в Казанский электро-
техникум, но в РОНО мне чиновник заявил: "Если бы ты был татарин, то я дал
бы тебе путевку, но ты русский, и я этого сделать не могу ". В ФЗУ меня не при-
няли, годом не вышел: туда принимали лиц с шестнадцати лет, а мне было всего
четырнадцать.
НАЧАЛО ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ
Бюро инвентаризации. - Обучение в ФЗУ. - Производственная практи-
ка на речных судах, происшествия. - Выпуск судомехаников из ФЗУ. - Вто-
рая навигация, механик на землесосе, опасные случаи. - Увольнение со скан-
далом. - Новое место работы - буксир "Висляна"
В это время в городе началась сплошная инвентаризация жилого фонда. Из
Казани приехало соответствующее начальство, обмерщики и оценщики. Из
местных набирали лишь подсобных рабочих, для того чтобы таскать рулетку и
лазить по замеряемым участкам (зимой, как правило, в сугробах). И вот почти
год я трудился подсобным рабочим в инвентаризационном бюро при горсовете.
Последнее время был расчетчиком (вычислял площади и объемы участков и до-
мов, а также их стоимость).
Работал я в паре с обмерщиком Макаровым из Казани (имени его не пом-
ню). Ему, как иногороднему, приходилось голодно, хуже по сравнению с нами. И
не раз мы заходили к нам домой, и я просил для него краюху хлеба. А обмер мы
начинали с составления плана жилья и первым делом шли обмерять кладовые. И
случалось, что мой начальник утаскивал с собой из какого-нибудь чулана кусок
сала или что-нибудь еще. Правда, бывали случаи, что нас угощали и сами хозяе-
ва. Помню, как при обмере одного из татарских домов нас усадили на ковер на
полу и угощали превкусным пирогом, не помню уже с чем, но с чем-то мясным.
Наелись тогда "от пуза".
Вообще, мы ежедневно вторгались в человеческую повседневность в ше-
сти-семи жилищах и наблюдали там различные житейские ситуации. Один дом
только еще достраивается, другой только на днях заселили. Этот маленький до-
мик тоже недавно построен, он об одном всего-навсего окне, и в нем ужасно хо-
лодно, женщина с ребенком, муж на работе. А вон в том лежит больная. Вот дом
на окраине городка с небольшим перекрытым сплошной крышею двором, так что
со стороны поля можно свободно пройти над ним, настолько он занесен снегом.
Большинство семей, видно сразу, живет еле-еле сводя концы с концами, но мы
попадали и к довольно зажиточным хозяевам: в комнатах масса различной мебе-
ли, кровати, на которых высятся горы подушек.
Один раз нам случилось обмеривать дома квартала, близкого к центру (на
центральных улицах нам работать не приходилось). И я там встретился со своим
товарищем, с которым мы проучились с первого по седьмой класс. Помню его
фамилию - Хитрово. Он сидел за каким-то низеньким столиком посреди комна-
ты, обложился кругом учебниками и готовился к экзаменам в институт.
А год спустя в порядке исключения (мне все еще было 15 лет) по просьбе
отца меня приняли в ФЗУ на отделение судомашинистов. В училище готовили
также токарей и фрезеровщиков.
Началось обучение. Оно состояло из производственного и теоретического.
Для первого использовали методику Центрального института труда (ЦИТ). Вна-
чале обучали ударам молотком-ручником. Посреди мастерской стояла колода, на
которой был установлен металлический боек. Обычно по нему один раз ударял
инструктор (был у нас вначале такой Сейфуллин), а потом по очереди мы, окру-
жавшие эту колоду. Одновременно учили правильно держать пилу в ходе резки
металла. Инструмент при этом был деревянным. Нужно было двигать взад и впе-
ред по куску дерева этой имитационной пилой, удерживая ее строго горизон-
тально.
Следующий этап. Каждому выдали по листу железа (стали), и нужно было
его, зажав в параллельных или стуловых тисках, разрубить зубилом на несколько
частей. При этом следовало глядеть на острие, а не на боек инструмента и вы-
полнение операции довести до автоматизма.
Потом мы обрабатывали все шесть поверхностей пластинки размером око-
ло 100?100?15 мм. Сначала одну из сторон обрубали зубилом. Вслед за этим
плоскости опиливали под угольник сначала драчевым напильником, а затем бо-
лее мелким. И под конец изделие шабрили, пригоняя на специальной плите с ис-
пользованием краски.
А уже после этого следовало изготовление болта и гайки с обработкой до
образцового состояния, угольника, кронциркуля, циркуля и тисков. Я оказался
по успехам в этой работе не последним. Но некоторые ученики достигали удиви-
тельных результатов. В их числе были Кисарев и Тихонов, которые до ФЗУ уже
работали на судах речного флота. Они закончили программу ранее других, и им
было поручено изготовить какой-то удивительный письменный прибор для ди-
ректора ЦИТ Губеева.
Теоретическое обучение включало такие курсы, как "Паровые машины",
"Паровые котлы", "Парораспределение", которые вел преподаватель Ляпин, а
также и общеобразовательные предметы - математику и русский язык и литера-
туру. Одновременно с производственной специальностью нам предполагалось
дать и среднее образование. Но что-то вдруг изменилось в политике просвеще-
ния, и нас весной 1934 года выпустили из ФЗУ судомашинистами разных разря-
дов. Мне был присвоен третий, а вот Кисарев и некоторые другие получили пя-
тый.
Вначале я очень уставал, тем более что ходить в училище приходилось да-
леко, почти через весь город. Вернусь, бывало, домой после занятий и сижу око-
ло окна, смотрю бесцельно на улицу. Но иногда брал в руки учебник по физике
за седьмой класс и пытался вспомнить то, что уже должен был хорошо знать.
Где-то теплилась надежда, что я продолжу обучение.
Прежде чем перейти к дальнейшей нашей судьбе остановлюсь на атмосфе-
ре в ФЗУ. Все мы были очень дружны. Я не помню драк, кроме товарищеских
потасовок. Так, один раз мой друг Вадим Ковалевский, который не курил, принес
в училище папиросы. И угостил одного из нас, Першина. Тот закурил, затянулся
- и вдруг папироса взорвалась: Вадим начинил ее порохом. Першину опалило
лицо, подгорели брови и ресницы, и он долго гонялся за Ковалевским, горя же-
ланием побить его, но в конце концов отступился.
Помню хорошо и другой случай. После практического обучения и обеда
несколько человек из нас переваривали плотную пищу, лежа на кушетке перед
новым, только что построенным учебным зданием. И видим: идет Виктор Коро-
вин, отличавшийся могучим сложением, толстый, здоровый, веселый и добро-
душный. И вдруг кто-то бросил мысль: "Давайте поставим банки Витьке". Все
сразу согласились и составили план, как это сделать. Едва Коровин поравнялся с
нами, как мы одновременно схватили его, кто за руки, кто за голову, как лилипу-
ты Гулливера, и повалили. Валентин Софронов, прозванный за свое телосложе-
ние "Машкой", задрал Виктору рубаху и, оттягивая кожу на животе, калошей по-
ставил Виктору "банки". Виктор не стал с нами драться, стерпел, но запомнил
всех участвующих в экзекуции, а потом отдубасил каждого в отдельности.
Меня он не тронул. Прежде всего, я был слишком мал по сравнению с ним
и не достоин его внимания. И, кроме того, я пользовался как бы некоторым им-
мунитетом по той причине, что вдруг в ФЗУ сделался наиболее знающим мате-
матику (хотя преподавал у нас тот же самый Николай Андрианович Зубков). Я
всегда выполнял домашние задания и давал всем их списать до начала занятий.
Теперь о материальном обеспечении. Нам платили стипендию (насколько я
помню, 27 рублей), выдавали по 1 кг хлеба на день и кормили бесплатным обе-
дом, при этом к тарелке первого давали еще по 200 г хлеба.
Помню, как после практических занятий все мы наперегонки бежали к сто-
ловой, которая была расположена на довольно высоком холме над затоном, и
брали штурмом высоту и двери. При входе каждому выдавалась алюминиевая
ложка, которую после обеда нужно было сдать. За длинными столами рассажи-
вались по восемь человек, и на это количество приносили одну тарелку с хлебом.
Все мгновенно его расхватывали: прозеваешь - останешься ни с чем. Из общего
бачка разливалось по тарелкам первое, а на второе подавалась каша или карто-
фель.
В начале обучения и обед, и хлеб не играл еще особого значения в бюдже-
те семей. Так, помню, после окончания первого полугодия я пришел с похваль-
ной грамотой и подарком (хлопчатобумажный костюм) и попал дома к празд-
ничному еще довольно обильному ужину. Но вскоре тот тяжелый (килограмм на
пять) круглый каравай, с хрустящей и блестящей коркой, уже пользовался у нас в
семье большим уважением, а обед в училище стал основным источником моего
питания.
Отдельно и более подробно хочется остановиться на производственной
практике зимою и во время навигации на судах - тогда это были в основном па-
роходы, - а затем и на работе после окончания ФЗУ.
Незадолго перед открытием навигации 1933 года меня направили на пас-
сажирский пароход "Уральский рабочий". Для начала велели вычистить мазут-
ный бачок. Из него топливо поступает к топкам котла. На судне он был один. Я
страшно вымазался. Догадался лишь снять верхнюю одежду, повесил ее где-то
около только что выкрашенного борта парохода и вымазал его, за что получил
строгие замечания. В следующие дни мы с одним из кочегаров ремонтировали
специальные бачки для подогрева питьевой воды - пароходные самовары.
Вскоре начался подъем паров: залили котел водою, натаскали с берега дров
и заполнили ими топки. В них, вообще говоря, сгорает мазут, но пока пары не
"подняты", то есть, давления в котле нет, форсунки для распыления топлива не
работают. По ходу нагрева экипаж, обслуживающий машинное отделение - ко-
чегары, масленщики, машинисты, - проверял герметичность арматуры и, если
нужно, исправлял допущенные во время зимнего ремонта ошибки. Но вот нуж-
ное давление достигнуто, включаются форсунки Вагнера, и котел переходит на
подогрев мазутом. "Уральский рабочий" - пароход со "стажем" около тридцати
лет, и предельное давление в его котле, ранее довольно высокое, ограничено
примерно 9-10 атм. Вскоре заработали всякие механизмы, насосы топлива, воды,
пущен движок динамомашины, и мы осветили пароход от внутреннего источни-
ка. Назначили и день выхода в первый рейс. Нам, практикантам, на троих отвели
четырехместную каюту в самом конце кормы нижней палубы.
С непривычки быть на сквозняках я простудился. Поднялась температура,
заболела голова, ломит суставы. Явный грипп. Нужно было бы пересидеть дома,
но отец, предположив, что я хочу избежать работы на пароходе, вместе с мате-
рью, несмотря на ее возражения, провожает меня на пароход.
Вскоре начинается моя вахта - с двух часов ночи до шести утра (на всех
почти пароходах ученики ФЗУ освобождались от ночной вахты, а днем стояли
лишь шесть часов, но у нас механик строгий, и мы работаем, как вся команда). Я
спускаюсь в машинное отделение. Меня знобит. Окружающие видят, что я явно
нездоров, и некоторые посылают меня обратно в каюту, но я пристраиваюсь око-
ло котла и вскоре забываюсь нездоровым сном. Утром в шесть часов еле доби-
раюсь до каюты и забираюсь на свою верхнюю полку. Не завтракая, я снова за-
сыпаю, но когда меня будят в два часа дня на дневную вахту, чувствую себя уже
лучше. Организм переборол болезнь. Этому помогла, очевидно, экстремальность
ситуации. Вечером я уже с аппетитом кушаю пищу, которую готовят для коман-
ды в той же самой кухне, что обслуживает и ресторан парохода. Кормили нас три
раза в день, так что по понятиям того времени вышло неплохо.
Вскоре все входит в строго заведенный режим: четыре часа вахты, восемь
часов отдыха, четыре часа вахты, восемь часов отдыха. И так день за днем. Во
время практики я привык дважды в день, после каждой вахты, ходить в судовую
баню и не просто принимать душ, но и основательно отмываться от грязи и
нефти, которой я за вахту буквально пропитывался.
Обязанности мои как практиканта заключались в основном в следующем:
регулярно следить за смазкой всех частей машины, вовремя набивать тавотом и
поднимать масленки, а также в конце вахты драить до блеска тяжелой шваброй
металлические рифленые стлани двух палуб: одной в машинном отделении и ча-
стично другой, нижней, под ним. Для этого я тащил "моющий инструмент" через
плечо на обнос парохода, опускал на специальной веревке за борт в реку и по-
лоскал. Затем вынимал, тщательно выжимал и чистил заданную площадь. Во
время какого-нибудь ремонта или других работ я должен был подавать гаечные
ключи или другие орудия машинисту или механику. В машинном отделении за
"динамой" стоял большой верстак с набором инструментов. Помню, как еще в
самом начале практики на пароходе я получил указание: "Принеси ключ 22?24!".
Я пошел, но в темноте никак не мог найти нужный размер. После я научился
точно определять его на глаз.
Особенно важна для меня первая поездка на пароходе теми впечатлениями,
которые она оставила. Наш пароход ходил по расписанию рейсом от Перми и до
Горького, тогда еще Нижнего Новгорода, а оттуда обратно. Утром первого дня,
когда я только что сменился с вахты и не завалился еще спать, мне представи-
лась возможность воочию убедиться, что у Камского Устья (еще совсем недавно
Богородск), где Кама впадает в Волгу, камская вода разнится от волжской. Мне
предложили смотреть внимательно за борт вниз. И была ясно видна очень четкая
граница между камской и волжской водой в месте слияния двух рек. Сейчас это-
го уже нет, все поглотило сплошное море от Самарской ГЭС.
В первый приход в Горький я побывал лишь в нижней, портовой части го-
рода да на грузовых причалах. Позже я походил по улицам Перми, и мои впечат-
ления сложились в пользу последней как более обширного и оживленного горо-
да. Но когда я стал бывать и в нагорной части Горького, мое мнение диаметраль-
но изменилось.
Вообще, плавание на пароходе мне очень пришлось по душе. Кроме зна-
комства с реками Волгой и Камой и различными городами на них, ежедневно
приходилось встречаться с новыми людьми. А ехало тогда и с Урала через
Пермь, и из Средней России на Урал полным-полно народа. Обычно, когда мы
приставали к пассажирской пристани, будь то в Горьком или Перми, я часто ста-
рался оказаться на палубе первого и второго класса. И наблюдал, как в борьбе и
подчас в столкновении до побоищ люди устраивались на пароходе, стремясь за-
нять в третьем и четвертом классах ненумерованные места получше.
Дешевле всего можно было разместиться рядом с бочками, мешками, ящи-
ками просто на палубах. Они, как и трюм, всегда были битком набиты грузом. И
когда ночью в два часа я выходил на вахту, то мне стоило труда пробраться к
машинному отделению. Все проходы были завалены спящими людьми. Днем
они сидели и ходили и занимали мало места, а ночью нельзя было пройти, не
ступив на чье-либо тело, на руку, на ногу. После ночной вахты, уже успев сос-
нуть утром, я любил пристроиться где-нибудь втихую в салоне 3-го класса и с
увлечением слушать рассказы и переживать приключения какого-нибудь быва-
лого путешественника, возвращающегося с Урала из Челябинска или Магнито-
горска, из Свердловска или других городов.
Любимой нашей забавой было зазвать, якобы с целью знакомства с ма-
шинным отделением, какого-нибудь представительного мужика, а затем факелом
поджечь предварительно погашенную форсунку. Раздавался сильный хлопок,
нечто вроде взрыва, и любитель техники, как ветер, несся на палубу.
Однажды поймали вора, который что-то украл у одного из членов коман-
ды. Дело было уже поздно вечером, когда стемнело. Прибегает ко мне в машин-
ное отделение кто-то из матросов и требует: "Выруби свет в четвертом классе!".
Я послушался, дернул за соответствующий рубильник и стал невольным со-
участником фактически убийства злоумышленника. Его в темноте избили, выма-
зали лицо каустической содой и заперли в трюм. Дело было на подходе к Горь-
кому. Когда мы причалили и хотели передать преступника милиции, то оказа-
лось, что он у нас скончался. Тогда было возбуждено уголовное дело на членов
команды, но его замяли, и никакого суда не было.
Как-то и меня чуть было не отправили за решетку. Это случилось ранним
утром, кажется, в Набережных Челнах. На берегу в ожидании погрузки был вы-
ложен целый штабель из тюков с мелкими лоскутками хлопчатобумажной ткани.
А у нас не было обтирочного материала для протирки частей машины. И тут ко
мне подходит первый помощник механика, дает мне в руки мешок и говорит:
"Иди и надери из тюков обрезков!". Я пошел. Но едва начал загружать мешок,
как меня схватил за руку охранник, долго потом допрашивал и грозился передать
милиции, но, в конце концов, отпустил.
После первого рейса до Горького меня в родном городе встречали и отец, и
мать, но в дальнейшем, убедившись, что я на пароходе прижился, они перестали
это делать. А между тем моя жизнь на судне, по крайней мере, дважды, была в
опасности. В самый первый раз, когда по окончании рейса в Перми была устрое-
на котловая чистка. Это делалось для того, чтобы убедиться, что пространство
между задними стенками котла и "огненного ящика" не забито накипью. В про-
тивном случае возможна авария. Спустили пары, слили воду, вскрыли люк в во-
дяное пространство. А он был очень маленький. И предложили мне залезть в не-
го, пройти под топкой и посмотреть, что там делается. Нарядили меня в какую-то
робу и дали в руки переносную лампу. Предварительно привязали к ноге верев-
ку. Я залез в котел без особого страха и пополз в тесном пространстве под топ-
кой. Но тут же почувствовал электрические удары от "переноски" и закричал.
Меня вытащили обратно и больше не посылали. Хорошо, что напряжение было
всего 110-120 вольт постоянного тока.
В другой раз, перед концом моей дневной смены, на одной из остановок
меня послали набить тавотом масленки подшипников колеса. Я залез в колесное
пространство через специальную дверь. Вначале, балансируя и держась за пли-
цы, я прошел к наружному подшипнику и заправил одну масленку, затем вер-
нулся к внутреннему и стал набивать другую. И вдруг колесо надо мной начало
вращаться. Я с испугу выскочил на палубу. Оказалось, что пришел сменщик и
стал, готовясь к работе, прогревать машину. А при сдаче вахты механик и мас-
ленщик не предупредили его, что в колесе практикант. Они между собой переру-
гались, а мне едва удалось избежать гибели. Если бы я в это время находился в
середине колеса, то был бы убит одной из плиц (при повороте они меняют свое
положение относительно оси вала), или был бы закручен и потоплен. Один из
моих товарищей по группе, некий Дюнев, в ту практику таки утонул при не вы-
ясненных до конца обстоятельствах.
Палуба над паровой машиной была, как бы, разделена подшипником глав-
ного вала судна на две части. С каждой в машинное отделение вел отдельный
вход, но мы обычно попадали в нужное место, перепрыгивая через вращающий-
ся вал с шатунами. Нам и в голову не приходило, что однажды кто-нибудь из нас
сорвется и будет измолот механизмом, который имел частоту вращения 40 обо-
ротов в минуту. Но однажды, в самые первые дни после назначения нового глав-
ного механика, он заметил меня за одним из этих рискованных прыжков, подо-
звал к себе и строго-престрого заметил: "Еще раз увижу, спишу на берег!".
Вообще, новый главный механик Красильников меня почему-то невзлюбил
и в самый день окончания практики при подходе к нашему городу послал к тому
самому нефтяному бачку, с чистки которого и началась моя работа. Ну и я ему
отомстил: не сдал совершенно новой спецовки (хлопчатобумажный костюм), ко-
торую только что получил. И как он не пытался вытребовать ее у меня обратно
(пробовал отобрать ее через ФЗУ и угрожал обратиться в суд), я так ему и не
возвратил. Позже из этой спецовки мне отец сшил зимние пиджак и брюки, под-
бив их ватой. Несколько раз после окончания практики я заходил проведать чле-
нов команды парохода, когда тот бывал в Чистополе.
Летом лучшим ученикам, а я попал в их число, была устроена экскурсия в
Горький. Были мы в старом и новом Сормово, на Горьковском автозаводе, в ка-
ком-то затоне на другом берегу Волги. Бродили по улицам города. Посещений
каких-то музеев я не помню. Ночевали мы в общежитии грузчиков, которое было
расположено в большой полуразрушенной церкви, прямо на их же кроватях, ко-
гда они работали в ночную смену, и полностью обовшивели. Так что когда я но-
чью приехал обратно в Чистополь, то, едва войдя в калитку, попросил мать вы-
дать мне чистое белье и переоделся прямо на дворе.
В следующую навигацию я работал механиком на землесосе "Камский-6".
Этому предшествовало окончание ФЗУ. Прошло оно без всяких торжественных
собраний, без празднеств. Накануне выпуска в одном из кабинетов училища
встретились мы, ставшие судомеханиками, и главные механики пароходов, зи-
мовавших в нашем затоне. Те выбрали себе наиболее сильных и здоровых ребят.
Нас же, тридцать шесть человек, не взяли. Некоторых, и меня в том числе, отста-
вили, видимо, потому, что нам еще и семнадцати лет не исполнилось. А, как я
узнал позже, на работу в качестве членов команды парохода имели право прини-
мать лишь с восемнадцатилетнего возраста.
И нас, оставшихся, отправили в затон им. Дзержинского под Пермью. В
день отъезда обнаружилось, что с выставки, открытой незадолго до этого в зда-
нии ФЗУ, пропали (были украдены) все образцовые, отлично выполненные экс-
понаты слесарных работ учеников: тиски ручные, параллельные и стуловые,
плоскогубцы, угольники, циркули и пр., и пр. В суматохе отъезда искать и допы-
тываться, кто украл, не стали.
И мы отбыли. Сначала до Казани на санях (дело было зимой). Поскольку
на тридцать шесть человек было выделено лишь шесть санных подвод, стало
очевидно, что до места назначения часть пути придется идти пешком. Поэтому в
день отъезда у нас в доме состоялось совещание, что надевать мне на ноги. Ка-
кая-то знакомая нашей семьи посоветовала: "О, лапти!". И рано утром я прибыл
в ФЗУ в лаптях, чем вызвал насмешки над собой. Но вот во время движения мне
уже стали завидовать. Я прошагал три дня, ни разу не присев на сани, в то время
как некоторые, быстро натерев ноги, почти всю дорогу с саней не слезали. Лишь
утром четвертого дня, когда Казань, вся в огнях, была уже хорошо видна, я сме-
нил совершенно изношенные и разбитые лапти на сапоги. В Казани я захо-
дил к тетке, Черановой Марии Сергеевне, и та заочно попеняла моей маме, что
такого юного она отпустила в далекие, чужие края.
Затем железной дорогой ехали через Свердловск в Пермь, а оттуда приго-
родным поездом добирались до затона. Свердловск поразил нас пестротой
окраски домов. Какого только цвета не были здания! До поезда в Пермь было
много времени, и мы прошлись по главной улице города вплоть до Дома печати,
а затем свернули к студенческому городку, который рассматривали с какой-то
эстакады или перехода над железнодорожным полотном. Успели побывать в ки-
но недалеко от вокзала с одноклассником Сергеем Ургенчинским. Шли "Марио-
нетки". Были там и смешные моменты. Публика дружно хохотала. Сергей же не
совсем понимал суть юмора, и только получив разъяснения от меня, невпопад
заливался смехом.
Прибыв, мы сразу побежали смотреть затон и, убедившись, что там много
пассажирских пароходов, успокоились: всем нам не хотелось попасть на грузо-
вое судно. Нас, человек пятнадцать, поместили для начала в одной комнате в ка-
рантинном бараке. И тут неожиданно обнаружился весь набор пропавших перед
отъездом инструментов. Он оказался в чемодане у одного из учеников. На каран-
тине нас продержали дней десять и затем сводили в мужскую баню. К нашему
удивлению, ее обслуживали женщины, и мы долго не решались до конца раз-
деться, пока они этого не заметили и со смехом не стали нас вениками загонять в
моечное отделение. Лишь после этого мы переселились в обычный барак.
Мы, учившиеся в ФЗУ в одной группе, жили вшестером: Маштаков, Ют-
манов, Ильин, Ургенчинский, Евстафьев и я. Вскоре нас и распределили.
Маштаков (он был татарин и посильнее нас) получил направление на пассажир-
ский пароход "1 Мая", Ютманов и Евстафьев были назначены на буксирные па-
роходы, мы с Ильиным - на землесос "Камский-6", а Ургенчинский попал на
землечерпалку.
Эти наши два судна начинали работать на реке довольно поздно, когда
спадала вода и появлялись мели и перекаты. Так что конец этой зимы и начало
весны мы прожили вместе весело и дружно. Не помню ни одной ссоры. Ходили
на курсы радистов, что нам не потребовалось, так как на землесосе рации или
приемника не оказалось. Ездили тогда в Пермь, где во множестве покупали бан-
ки баклажанной икры, очень нравившейся нам. Обедали в заводской столовой,
где часто готовили грибной суп. И всегда - не знаю, по какой причине, - когда
нас кормили этим грибным супом, в столовой обязательно играл духовой ор-
кестр.
Весной я начал прогулки по берегу Камы и обязательно, следуя вниз вдоль
реки в сторону строящегося бумажного комбината, доходил до дома отдыха, ко-
торый был недалеко. Я шел и с тоскою думал о доме, ведь мне только-только ис-
полнилось семнадцать лет, а в день рождения я не получил от родителей ни по-
сылки, которую очень ждал, ни даже письма, хотя сам я писал регулярно и отцу с
матерью, и своим бывшим друзьям по ШКМ.
Но вот пароходы начали покидать затон и уходить в рейсы. В бараке нико-
го, кроме нас троих - Ильина, Ургенчинского и меня, - не осталось. Нам пред-
ложили выселиться, отобрали наше постельное белье и забили помещение. Но
мы пробирались в свою комнату через окно. Об этом, конечно, знали, но не
оставлять же нас прямо на улице. Скоро Ургенчинский перебрался на житель-
ство на свою землечерпалку, а мы с Евгением Ильиным жили еще какое-то время
в бараке. Наконец и на землесосе затопили котел и нас определили в каюту,
находящуюся на нем как раз под самой всасывающей трубой, так что позже в
ходе работы мы все время слышали громкое шуршание вымываемого песка, а
иногда и грохот камней или скрежет каких-нибудь предметов, попадавшихся на
дне Камы.
Машинное отделение землесоса оказалось очень небольшим. В нем стоял
вертикальный двигатель мощностью 100 л.с., приводивший в действие два насо-
са: большой центробежный и вакуумный - первый сосал грунт, а второй обеспе-
чивал начало его работы - да еще некоторые агрегаты. Все это оборудование за-
нимало нижнюю часть землесоса и палубную надстройку. Работа была неслож-
ной: тот же уход за машиной, поддержание чистоты в помещении. Привод насо-
са смазывался в основном не тавотом. Поэтому в конце вахты нужно было та-
щить сосуд с отработанным маслом к установленному в надстройке машинного
отделения бачку. Слитая в него смазка после фильтрации поступала вновь в ра-
боту.
Стояли мы вахту не как на пароходе по четыре часа, а по шесть, зато и от-
дых был двенадцатичасовый. Это было легче. Много времени уходило на щипа-
ние "шкурки" - обтирочного материала, которым нас не снабжали. Для этого
старые канаты рубили на куски, которые расплетали на пряди, а вот уже их-то и
нужно было щипать, чтобы получить мягкую, отличную "шкурку" для обтирки.
Работал наш землесос в верховьях Камы, выше Перми, на перекатах Чер-
моза, Усолья, Березников и Соликамска, близ верхневолжского Орла, который
удивил нас колокольным звоном маленькой церквушки. Как-то, выбирая грунт
на перекате недалеко от него, мы решили съехать на берег и сходить в городок
купить картошки (надоела уже казенная пища). Но, пройдя его из конца в конец,
мы не встретили на улице ни души, все дворы добротных домов были наглухо
закрыты, и никто на стук не отзывался. Не лаяли даже собаки. Такое было впе-
чатление, что Орел вымер. Так ни с чем мы и вернулись обратно.
Бывали мы в Чермозе, и в Березниках, и в расположенном через реку от
них Усолье, и в Соликамске, а на землесосе поднимались вплоть до устья Више-
ры. И видели, как там на базе одиночного лесосплава связывают поленья и от-
правляют их далеко вниз по Каме, чтобы ниже Перми уже объединить их в пло-
ты. Чермоз был родиной одного из наших кочегаров, Сергея Попова, высокого
худого белокурого парня, очень хорошего и дружившего с Ильиным.
Березники всегда были окутаны различными газами, и стоило нам побыть
там несколько часов, как с непривычки заболевала голова. Еще запомнился мне
этот город тем, что его ближайшая к Каме улица (за чертой центральной и завод-
ской части) называлась улицей Кобылиных. На ней стояли добротные, крепкие
деревянные дома, и почти на каждом была железная пластинка со своего рода
визитной карточкой: Иван Васильевич Кобылин, Петр Павлович Кобылин, Фома
Кузьмич Кобылин и т. п.
Березники - это город-первенец советской химии. Если случалось наблю-
дать его ночью, при электрическом освещении, то было видно, как по многочис-
ленным трубам в реку льются потоки самых различных цветов и, конечно,
отравляют Каму.
Усолье, расположенное напротив Березников, было в то время небольшим
захолустным городком. Отравляющие газы в него через Каму не проникали. Раз-
ве что при сильном ветре в направлении поперек реки.
Соликамск, город шахтеров, стоял не на берегу Камы, а невдалеке от нее.
Хлеб мы покупали в первой же булочной при входе в город. Окраина его была
застроена чистыми, белыми одноэтажными домами-бараками. До центра мы не
добирались: не хватало времени между вахтами. Пока катер отвезет к берегу
около Соликамска, пока идешь пешком в него мимо мощной электрической под-
станции, пока возвращаешься обратно... Так что остались неполные впечатле-
ния.
Это был единственный известный нам город, где была налажена беспере-
бойная свободная продажа хлеба, хотя и по очень дорогим по тому времени це-
нам. Буханка белого стоила 3 рубля и ржаного 1,5 рубля. Зато с каким аппетитом
мы поглощали, возвратившись на землесос, этот хлеб, особенно если еще удава-
лось подкупить к этому четверть молока. Это бывало обычно после получки. За-
рабатывали мы вместе с премиальными до 150 рублей в месяц. А как-то нам с
Евгением удалось купить целую кринку замечательного душистого меда. Вот
устроили мы пиршество!
В лесах по берегам Камы все было покрыто мхом, как ковром. Идешь, и он
под ногами прогибается. Везде полно голубики и морошки. И мы иногда ходили
по ягоды. Но в полной мере этим пользовалась "верхняя" команда: понтонщики,
матросы, которые жили часто с семьями на брандвахте, все время на приколе у
берега, и весь руководящий состав экипажа - начальник, главный механик и пр.,
- обитавшие там же. Рабочие, обслуживающие машину, относились к "нижней"
команде.
Экипаж, особенно "верхняя" команда, был самый разношерстый. Попада-
лись беспаспортники, но их не трогали, ведь работать-то кому-то нужно. Были
наверняка преступные элементы. Среди матросов даже ходил слух, что кто-то
болен сифилисом.
И на землесосе я попадал в ситуации, когда смерть была рядом. Первый
такой случай относится ко времени опробования машины. Пустили первый пар
для проверки герметичности. И заперся сальник одного из штоков цилиндра вы-
сокого давления. Механик предложил мне его подтянуть. Я принялся за дело.
Первый помощник между тем стал прогревать цилиндр низкого давления, пере-
пуская туда пар через специальный пускатель, который употреблялся для того,
чтобы сдвинуть двухцилиндровую машину с мертвой точки, в которую она ино-
гда попадала. Старший было остановил своего помощника: "А вдруг машина
провернется?!" - "Ничего, - ответил тот, - в прошлом году она, хотя и прирабо-
талась, и была в работе, с трудом начинала двигаться при старте с пускателя". Но
едва я успел подтянуть сальник и слез с кривошипа, стоя на котором выполнял
операцию, как машина провернулась. Никто ничего не сказал, но первый по-
мощник побледнел: меня могло перемолоть кривошипами.
В другой раз где-то ближе к шести утра я вышел на палубу и стал полос-
кать швабру, наклонившись через металлические поручни, не заметив, что опи-
раюсь как раз на ту их часть, которая раскрывается, чтобы можно было подать
трап. Вдруг поручни распахнулись, слетев с крючка, которым удерживались. Я
свалился за борт и, не замеченный никем в этот ранний час, непременно бы по-
тонул, так как плавать не умел. Но хорошо, что под руками оказалась другая
швабра, свисавшая за борт до воды и укрепленная на палубе. За нее я и ухватил-
ся, а затем и взобрался на борт. Быстро сбегав в каюту переодеться, продолжил
вахту.
Третий случай, хотя и не грозил мне смертью, но окончился для меня
очень неприятными последствиями. Рано утром я по вертикальной лестнице за-
брался с отработанной смазкой к бачку для ее сбора. Лампочка над ним не горе-
ла. И я на ощупь стал переливать масло. Но сделал это неумело, много его про-
лил, и оно потекло с надстройки на палубу. Я набрал протирочного материала и
отправился, было, все высушивать. Но в это время масляное пятно на палубе за-
метил первый помощник начальника землесоса, стоявший на вахте. Он набро-
сился на меня и грубо стал ругать всякой площадной бранью. Я обиделся и не
стал протирать. Это было приказано сделать одному из матросов. А вскоре со-
звали общее профсоюзное собрание, где меня, как следует, проработали. Я во
время этой "проработки" не сказал ни одного слова в свою защиту или оправда-
ние, что было сочтено за грубое высокомерие, и мне единогласно объявили стро-
гий выговор. Никто не узнал истинной причины моего отказа.
К осени я и Ильин ужасно соскучились по дому. Нам было еще только по
семнадцать лет, и мы все время жили посреди реки. Другие хоть на брандвахте
жили и постоянно имели связь с землей, с ближайшим населенным пунктом, а у
нас ничего этого не было. Словно в тюрьме, даже в лес мы попадали по случаю.
Может быть, именно поэтому, в тоске по "воле", кочегар землесоса Фирюлев при
каждом удобном случае, когда мы выезжали на кратковременную побывку в ка-
кой-нибудь город, не возвращался вовремя к катеру, а позже, пропустив вахту,
приплывал после попойки на какой-нибудь лодке, явно украденной у кого-
нибудь из жителей.
И вот мы решили уволиться с землесоса. Подали заявления об увольнении
и стали ждать истечения положенного срока. Но на наши бумаги начальник Ни-
кольский не обратил ровно никакого внимания. С нами никто даже не поговорил.
И вот тогда мы отважились на крайний шаг - не выходить на вахту. Первая оче-
редь выпала на мою долю. Утром, когда в шесть часов стали будить, я ответил,
что на вахту не пойду. Немного позже, когда я вышел на палубу, а жили мы в
кубрике, я увидел прямо перед лестницей броский плакат: "Кудряшов-
масленщик - злостный прогульщик". Через шесть часов настала очередь Евгения
Ильина. И он не вышел. И плакат заменили: "Кудряшов и Ильин масленщики -
злостные прогульщики". Срочно из кочегаров двое, в том числе и Фирюлев, бы-
ли назначены масленщиками, а на их место были переведены двое старших мат-
росов. Нам сразу отказали в довольствии на кухне, но повара нас подкармливали.
Дня через два-три нас вызвали на брандвахту к начальнику. В его кабинете
сидел какой-то мужчина в защитной гимнастерке. Нас стали сначала уговари-
вать, а после пустили в ход и угрозы. Но мы стояли на своем: "Хотим домой к
семьям!". Уже много позже я сообразил, что человек в гимнастерке был из орга-
нов НКВД. Долго допытывались, сколько нам лет. Но об этом было написано в
наших расчетных книжках. Прошло еще пару дней. Начальство приняло решение
уволить нас как злостных прогульщиков, что и записали в наших расчетных
книжках (тогда трудовых книжек еще не было). Более жестких мер к нам приме-
нить не дерзнули. Все-таки нам еще не было 18 лет, и по закону мы не должны
были быть допущены на работу масленщиками.
И вот как-то под вечер нас с Ильиным "рассчитали" (насколько правильно
- это на совести Никольского), посадили в лодку вместе с нашими пожитками и
высадили на остров пониже Чермоза. Местность нам была совершенно незнако-
ма, остров обширный. Но с нами поехал, презрев санкции со стороны начальства,
кочегар Сергей Попов. Выше я уже писал, что он был уроженец Чермоза и знал
всю местность вокруг как свои пять пальцев. Он и вывел нас к узенькому проли-
ву между островом и берегом. Было уже совсем темно. Далее мы двинулись са-
мостоятельно.
На дебаркадере Чермоза дождались очередного парохода и, купив билеты,
уехали на нем в Пермь. Мы побывали в затоне, получили подтверждение, что мы
уволены "за злостный прогул", и на очередном пароходе поехали вниз по Каме, я
в свой городок, а он в Спасский затон.
Когда я пришел домой и предстал перед отцом, который, как обычно, си-
дел на катке и шил, то он, взглянув на меня, первым делом рассмеялся. Обрадо-
вался отец, конечно же, и моей внешности: я возмужал, поздоровел и стал с лица
очень полным. Вскоре пришла с работы и мать. Она была чем-то озабочена и не
подала и виду, что обрадовалась моему появлению. Время было трудное, и мама
поступила инструктором кройки и шитья в детский дом глухонемых. Она
похудела.
И я, побыв некоторое время в бездельничанье (разве что делал кое-что в
огороде), встал в резерв при дебаркадере городка. Начальником по кадрам ока-
зался первый помощник парохода "Уральский рабочий". Он не обратил внима-
ния на грозную и уличающую меня запись в расчетной книжке: "Уволен как
злостный прогульщик" и вскоре предложил мне место кочегара на пассажирском
пароходе "Николай Отвинцов". Я сходил на судно, спустился в машинное отде-
ление, но обстановка показалась мне неподходящей. Там было три котла. Об-
служивали их молодые крепкие ребята. Что-то они весьма не приглянулись мне.
И я отказался.
Спустя некоторое время я получил направление машинистом на рейдовый
буксир "Висляна". Возможности познакомиться с рабочим местом и с командой
у меня не было, так как судно находилось в это время в Соколках, и мне пред-
стояло поехать туда пассажирским пароходом.
Я явился на буксир и представился капитану и главному механику. Оба
они были добродушными, приветливыми людьми. Пароходик был очень не-
большой, мощность машины всего 35 л.с. Но по скорости он не уступал, как
вскоре я убедился, многим другим судам. Мне отвели отдельную каюту в самом
дальнем углу кормового кубрика. Койка, столик у иллюминатора, шкаф в углу да
еще табуретка - вот и вся мебель каюты. Выдали и матрацы, постельное белье.
До конца навигации ждать оставалось уже не долго. Наступили холодные
осенние дни. Нам, членам нижней команды, было легче, чем матросам. Работали
мы в машинном отделении, в тепле. Дождь и ветер нас не пронизывали. Закон-
чишь вахту - и к себе в каюту. Там чего-нибудь читаешь. Разве что только сбега-
ешь за завтраком, обедом да ужином в камбуз. Правда, в затон нас поставили то-
гда, когда для остальных судов навигация закончилась. Даже поздней осенью,
когда по Каме шло уже "сало", для нас всегда находилась работа. Она заключа-
лась в том, чтобы иногда перевозить начальство по всяким оперативным делам,
иногда срочные грузы, вроде бочек с пивом и пр., да иногда буксировать не-
большие баржи. Особенных впечатлений от этой навигации не осталось, да и
грустно вспоминать про осенние дни на реке.
Верхняя команда, за исключением капитана, первого его помощника да
двух-трех матросов, которые остались, чтобы заняться окраской судна, разъеха-
лась по своим родным местам. Нижней команде работы было больше, и нас всех
оставили на пароходе. Прежде всего, нужно было перенести в заводские мастер-
ские часть механизмов, которые удобнее было ремонтировать в тепле и при
наличии разнообразного инструмента. Кочегары демонтировали из котла дымо-
гарные трубы, чтобы очистить их от налета сажи внутри и накипи снаружи, это
делалось так называемым "обстукиванием", из-за чего в специальном помещении
затона стоял все время невыносимый грохот. А затем эти трубы вновь вставляли
на места, развальцовывали и чеканили.
Некоторые масленщики и помощники механиков начали ремонтировать
вспомогательные механизмы: насосы, приводы динамомашины и пр. А под при-
смотром главного механика два его помощника (иногда привлекали и нас, мас-
ленщиков) занялись переборкой главной машины. Внутреннюю часть судна,
трюм очищали специальные бригады женщин, которые под непристойные при-
баутки выполняли эту грязную и тяжелую работу.
Жил я эту зиму дома. Сестренки росли, одной уже было девять лет, она хо-
дила в школу, а другой еще только четыре года. Отец и мать целый день, не по-
кладая рук трудились на рабочих местах, а приходя домой, занимались хозяй-
ством. У матери был шестичасовой рабочий день, но ей нужно было и присмот-
реть за детьми, и приготовить поесть. Питание было скудное. Я обедал и ужинал
в заводской столовой. Немало помогал семье и мой килограммовый паек хлеба.
Кое-что давала и корова, но за ней требовался дополнительный уход, в котором и
я участвовал. Несколько поддерживал нас и картофель, и капуста, и сахарная
свекла со своего огорода. В то время в продаже совершенно не было сахара.
Мать нарезала свеклу ломтиками и в горшке парила ее в печке. Получались
очень вкусные и сладкие "паренки", с которыми мы пили чай. Когда удавалось
достать крупы, то делали кашу с тыквой. Тоже пальчики оближешь.
Весной приехали обратно матросы и штурвальные, и наша "Висляна" пер-
вой открыла навигацию 1935 года.
Свободное время я проводил дома, читая уже более серьезные, чем ранее,
книги: "Детство и отрочество" Льва Толстого, "Анну Каренину" его же, некото-
рые произведения Джека Лондона, в том числе удосужился прочесть и его "Же-
лезную пяту", которая была по сравнению с другими довольно скучным произ-
ведением.
Меня все время не оставляло желание продолжить свое образование. Как-
то еще в затоне при одной поездке в Пермь я купил на рынке выпуски "Самооб-
разования на дому" (не помню, сколько их было в комплекте) по специальности
электротехника. И теперь я с какой-то тоской брался за физику уже восьмого
класса и за свою "электротехнику на дому".
Иногда ходил в клуб затона на фильмы или смотрел их в других кинотеат-
рах города. В клубе, чаще всего по субботам, устраивались танцы. К нам прихо-
дили девушки, большей частью со своими юношами, но танцевали они со всеми,
а их сопровождающие стояли у стен. Ссор не возникало.
По Каме еще шел лед, плыли бревна, и мы не раз ломали плицы об "топля-
чок". Их заменяли не сразу, а лишь тогда, когда накопится несколько сломанных.
Но вскоре начался лесосплав, и нас послали на один из резких поворотов Камы,
около города Лаптева. Здесь ведущим караваны пароходам требовалась помощь,
чтобы развернуть в новом, нужном направлении плот. Мы пришвартовывались в
его хвост и помогали разворачивать. В перерывах между караванами мы стояли у
пристани Лаптева. Но в городе ни разу не были. Он находился на холме, угады-
вался, прежде всего, по куполу церкви. Лишь позже, проживая в Казани у сест-
ры, я как-то съездил в Лаптев. Он оказался как раз на берегу разлившегося к
этому времени Волжско-Камского водохранилища. Другого берега моря из него
видно не было. Городок небольшой, я в тот приезд исходил его вдоль и поперек.
Вскоре период спуска с верховьев Камы прошел, и мы стали вновь выпол-
нять рейдовые задачи. То отвозили начальство с одной пристани на другую, то
камских начальников на какой-нибудь пикник, чаще всего в Берсут, известный
своими прекрасными домами отдыха, то еще куда-нибудь, я уж и не знал для че-
го. Бассейн нашего плавания простирался от Казани на Волге до Набережных
Челнов на Каме и до Котельнича на Вятке.
Большое впечатление произвело на меня так называемое "соловьиное гор-
лышко" на Вятке. Не помню, где оно было расположено. Но когда плывешь в
этом месте, особенно летом, когда река мелеет, то чуть ли не касаешься обоими
бортами тальника, растущего и справа и слева.
Раз мы приняли участие в тушении пожара в Свиногорье, недалеко от Со-
колок, где мы стояли. Увидели разгорающееся пламя и почти тотчас получили
приказ плыть туда, чтобы этот пожар потушить. Когда мы на скором ходу при-
были в Свиногорье, он был в самом разгаре. Пылала, чуть ли не целая улица.
Фейерверком сыпались огненные искры, летели с треском головешки. В селе же
не было хорошо подготовленной и организованной команды пожарников. Мы
быстро протянули водяной пожарный рукав (горело недалеко от воды). Часть
наших людей бросилась с баграми и топорами в один и другой конец охваченной
огнем улицы. Растащили крайние, только что загоревшиеся дома по бревнышку
и успешно справились с пожаром. Конечно, в тушении принимали участие и все
жители села от мала до велика.
Как-то раз нам поручили перевезти бочки с пивом по какому-то адресу. И
вот случилось подсудное дело. Я стоял как раз на вахте с двух часов ночи. Вдруг
по металлическому трапу спускается один из кочегаров, свободный от дежур-
ства, и передает другому, вахтенному, ведро с пивом. А очень скоро начался шум
и крик. Оказывается, злоумышленник ухитрился просверлить в бочке отверстие
и через него нацедил целое ведро. Пришел было за следующим, но сопровожда-
ющий груз проснулся, заметил происходившее и поднял тревогу. Наутро нача-
лось расследование. Быстро выловили виновников (лишь скрыли, что в воров-
стве участвовал и один помощник механика). Но дело в суд передавать не стали,
а лишь уволили двух кочегаров.
В эту навигацию, я очень подружился с первым помощником механика.
Давал ему уроки по русскому языку и математике. А началось все наоборот. Еще
в прошлом году, тотчас или вскоре после прихода моего на буксир, в каюте вто-
рого помощника механика собралась группа из нижней команды. В том числе и
я. Пришел и первый помощник. И тут я на какую-то его безобидную шутку, ко-
торая, однако, задела меня, ответил площадной и далеко для его должности не
лестной прибауткой. Он обиделся и, сказав: "Молокосос!", ушел. Но он оказался
не из тех людей, которые долго таят обиду, особенно на сопляков, вроде меня. Я,
правда, ходил к нему извиняться, но он уже не таил зла. Мы разговорились, и вот
так началась наша искренняя дружба. К сожалению, не помню его фамилию и
имя. А вот отчество у него было Александрович. И так мы все его и звали.
Но он же и заставил меня впервые в жизни выпить водки. Как-то после
котловой чистки я иду к себе. И в открытую дверь одной из кают вижу: сидят
Александрович и Тимофеевич, пожилой кочегар, и пьют водку. Слышу: "Борис,
зайди-ка!". Это зовет меня Александрович. Я зашел. "Выпей-ка!" Александрович
наливает полстакана водки и протягивает мне. И как я ни отказывался, ссылаясь
на то, что никогда не пил, не помогло. "Ты что, не уважаешь меня?!" Последний
довод оказался неотразимым.
Однажды послал он меня через верхний лаз проверить, нет ли сильной
накипи между задней стенкой котла и огневым пространством. Я с трудом про-
тискивался между труб, было очень тесно. Но доползти до места назначения
Александрович мне не дал. Он испугался, что я там где-нибудь застряну, и при-
казал мне вернуться обратно.
Как-то во время котловой чистки все ушли в город (мой родной), а меня
оставили перебирать сальники на главной машине. Было обидно.
Самое приятное впечатление у меня осталось от следующей картины. Мы
плыли по Волге, мимо проходили пассажирские и буксирные пароходы с барка-
ми, а у нас на носу буксира настоящий бал: под баян третьего помощника (или
старшего механика) вся команда танцует, ведь плавали на пароходе с семьями.
В какой-то жаркий день мы устроили на судне массовое обливание. Поли-
вали друг друга и из ведер, и из шланга, невзирая на ранги. Я умудрился намо-
чить капитана. Он прятался в рубке парохода. И вот я взобрался тихо на нее, и
едва он вышел, как окатил его сверху из ведра. Он, конечно, рассердился на ме-
ня, но "меры" никакие принимать не стал.
Капитан был у нас замечательный, бывалый моряк, окончивший школу
плавания. У него была жена, как говорили, официальная, из какого-то заведения
в Японии. И был сын глухонемой и, наверное, от этого очень злой. Зимой он
обучался в каком-то интернате в Казани, а летом гостил на пароходе у своего от-
ца. Этот мальчишка лет десяти-одиннадцати прекрасно плавал и нырял. Как-то
он прыгнул в воду с крыши дебаркадера в Лаптеве. Капитан приревновал сына и
решил показать, на что способен. Он залез туда же, откуда нырнул сын, и бро-
сился вниз головой в Каму. Но заметная тучность да отсутствие тренировки под-
вели капитана, и он плюхнулся в реку прямо животом. Наверно, изрядно его от-
бил.
Однажды я едва не погиб из-за собственной глупости. По-настоящему пла-
вать я не умел, но мог выплыть, спасаясь от утопления. И вот как-то мимо наше-
го парохода, стоявшего где-то на протоке, река несет поленья (стволы). Один из
моих приятелей подзадорил меня, сказав, что мне до них не доплыть. Тогда, за-
быв самую элементарную осторожность, я бросился в воду и все-таки добрался
до сплавляемого леса (наверное, было метров двадцать, не более) с расчетом от-
дохнуть и после плыть обратно. Но не учел, что поленья-то следуют по течению,
и меня вместе с ними унесет Бог знает куда. Соображать было некогда. Я прыг-
нул в воду обратно, но меня стало относить от парохода, и я лишь успел ухва-
титься за борт лодки, привязанной позади него. Все следили за мной. Я же, с
трудом взобравшись в лодку, а из нее на борт парохода, с сильно бьющимся
сердцем ушел в кубрик, в свою каюту, и лег успокоиться. До меня дошло, что из-
за собственного безрассудства я мог легко утонуть.
Так бы мы и плавали до новой зимы, да вдруг уже в конце навигации в га-
зете "Красный Татарстан" мне попалось на глаза объявление, что при Казанском
авиационном институте открываются вечерние и дневные курсы для подготовки
к поступлению лиц, не имеющих среднего образования, но со стажем работы не
менее трех лет. И хотя столько я еще не трудился, но решил попробовать. Рас-
сказал об этом первому помощнику механика и попросил меня уволить. Он воз-
ражал, горячо доказывал неразумность такого поступка, обещался перевести ме-
ня к себе в помощники, но вскоре сдался: "Я не буду становиться тебе поперек
дороги!". Увольнение было оформлено быстро. И вот в очередной приход в го-
род я списался с парохода. Провожали меня очень тепло и по-дружески.
ГОДЫ СТУДЕНЧЕСКИЕ
Казань. Подготовительные курсы при Казанском авиационном инсти-
туте (КАИ). - Зимние каникулы. Переход на лыжах Казань-Чистополь и его
последствия. - Триумфальная сдача вступительных экзаменов в КАИ. -
Первый курс. - Первая сессия, успехи, неудачи. - Каникулы. Пешком из Каза-
ни в родной город. - Вступление в комсомол. - 1937-й, волна репрессий. Дра-
матические последствия в КАИ. - Уважаемый преподаватель. - Дерзкая
шутка. - Неординарные студенты. - Некоторые события общественной
жизни. - 1940 г., производственная практика в Тушино. - Война приближа-
ется. - В поисках заработка. - 1941 г., Казань, завод 27, работа мастером зу-
бошлифовальной группы
В то время требовались для поступления на курсы три характеристики
членов партии. Одну дал мне директор ШКМ, другую преподаватель математики
ФЗУ Николай Андрианович Зубков. Третью я рассчитывал получить у нашего
инструктора Ивана Ивановича Отопкова, но оказалось, что он находится на гра-
ни исключения из партии (он не сказал мне точно, по какой причине, но она бы-
ла важная, политического характера). Взамен он пообещал, что напишет о моем
деле частную записку бывшему директору ФЗУ Губееву, который в это время
был уже директором фельдшерско-акушерской школы (ФАШ) в Казани. На том
и порешили.
Нужно было подумать и о том, где жить на новом месте. Мама написала
письмо тетке - жене маминого брата, который погиб в гражданскую войну, - той
самой, к которой я заходил перед поездом в Свердловск по пути в затон им.
Дзержинского два года тому назад. Дома сборы были недолги. Мать подготовила
мне несколько рубашек и пар нижнего белья, дала два махровых полотенца. И я
со своим баулом (у меня все еще не было чемодана) отправился в Казань. Когда
покупал билеты в предварительной кассе, встретился с Олегом Юшмановым. Мы
вместе и в ФЗУ учились, и были в затоне им. Дзержинского. Он тоже ехал в Ка-
зань поступать в гидромелиоративный техникум. Провожать меня на пристань
пошел отец. Договорились в самый последний момент, что он будет присылать
мне по тридцать рублей в месяц. Он зарабатывал в то время ежемесячно около
трехсот рублей.
По приезде я сначала явился к тетке Марии Сергеевне Черановой. Жить
мне показалось у них совершенно невозможным. Представьте себе комнату пло-
щадью не более двадцати квадратных метров. От нее отделен деревянными пере-
городками небольшой входной коридор. Напротив двери из сеней в коридор сто-
ит сундук. Направо что-то вроде кухни, где пища готовится на примусе. Осталь-
ная часть комнаты разделена на две неравные части. В левой, меньшей, спит Ма-
рия Сергеевна, в правой живут ее дочь и мать. Дочь зовут Тасей (по отчеству
Николаевна). Она учится в восьмом классе. Имени теткиной матери уже не пом-
ню. Ее всегда называла Мария Сергеевна мамой, а Тася бабкой.
Но и мне нашлось место. Спать меня определили на сундуке в коридоре.
Заниматься же я мог днем за столом в большой комнате, когда Тася была в шко-
ле, а вечером шел на курсы. Помню, что у Черного озера я сразу купил три репы.
Так был голоден.
Пошел в ФАШ к Губееву. Он оказался на месте. Принял меня очень ра-
душно. Быстро написал характеристику, секретарша отпечатала, Губеев подпи-
сал, поставили печать. Вот и все документы у меня были в порядке. Однако не
хватало стажа.
Я отправился в Казанский авиационный институт. Тогда это было одно не-
большое строение. А теперь КАИ имеет достаточно учебных корпусов, несколь-
ко общежитий. Не нарушая стиля, к старому зданию пристроили еще одно, сде-
лали аэродинамическую трубу и пр.
Директором подготовительных курсов был тогда профессор Муштари.
Очень доброжелательный человек. Заполнил я анкету. Не зная отличия белой
гвардии от обычной царской армии, написал, что мой отец служил белогвардей-
цем. Секретарь комиссии всполошилась, порасспросила меня, и пришлось пере-
делать все заново. Дня через два я был зачислен на вечернее отделение подгото-
вительных курсов.
Теперь нужно было подыскать работу. Это оказалось непросто. Только что
кончилась безработица. Я пытался устроиться чертежником на завод, но меня не
приняли. Какой чертежник из масленщика? Никому же не докажешь, что я мог
неплохо чертить, но, конечно, многих тонкостей черчения не знал.
В первые же дни я познакомился близко с одним из курсантов Виктором
Васильевичем Корниловым, который был из Ульяновского детдома. Однажды, в
очень скором времени после приезда в Казань и поступления на курсы, он сооб-
щил, что по какой-то причине (возможно, позднее объявление в газете) на днев-
ном отделении оказался значительный недобор. Мы с ним вновь пошли к Мушт-
ари и без излишних проволочек были переведены на дневные курсы. А это уже
стипендия 90 рублей! Все устроилось как нельзя лучше.
Занятия начались с 1 ноября. Довольно много было татар, но все они хо-
рошо говорили на русском языке. Запаса знаний у меня не хватало, как и всем,
по сравнению со мной другим даже наверняка более. Большинство окончило се-
милетнюю школу, а у некоторых образование было на уровне одного-двух кур-
сов рабфака.
У меня за плечами осталось ФЗУ, которое вначале было рассчитано на
среднее образование. Поэтому там преподавали и математику ("Никанзуб" дал
нам порядочно знаний), и русский с литературой. Вот физику почему-то не пом-
ню, а немецкий язык помню отлично, так как на нем мы вечно вытворяли фоку-
сы. Так, заболел у нас однажды Крисапов (фамилия-то какая!), и я им назвался.
Преподаватель уже несколько раз вызывала меня и привыкла ко мне. Но вот
Крисапов выздоровел, и когда она в очередной раз назвала его фамилию, то вме-
сто меня поднялся он. Это повергло ее в изумление.
В общем и целом, надо было упорно заниматься. Для этого у меня были
все условия. Никого я в Казани не знал, никуда не ходил, лишь вечером на кур-
сы. Они хоть и назывались дневными, но занятия все равно проводились по ве-
черам в здании средней школы, так как специального помещения у нас не было.
С большим интересом я изучал математику. Выполняя домашние задания из
учебников, очень быстро перерешал все задачи по математике средней школы.
Выучил назубок все теоремы по тригонометрии, хорошо ориентировался в гео-
метрии (у меня всегда отмечали отличное пространственное воображение). В
решении алгебраических уравнений был пунктуален и освоил все тонкости.
Иногда ходил гулять в центр города на улицу Баумана. Плохи были два об-
стоятельства: у меня не было нескольких зубов, да ботинки, обыкновенная лет-
няя обувь, подчас промокали. Зима была теплая, с частыми оттепелями. Вскоре
по какому-то случаю приехал в Казань отец и привез мне лыжи. И я стал по
утрам ходить на них за городом. Вставал очень рано, иногда затемно.
Очень многие ребята писали мне письма, и я регулярно отвечал им. Посла-
ния приходили так часто, что однажды Мария Сергеевна даже спросила: "Борис,
неужели у тебя так много друзей?".
Отпустили нас где-то в середине февраля на неделю на зимние каникулы.
И я в свой город из Казани пришел на лыжах за три дня. Первую ночь провел в
Пестрецах. Закончил переход в тот день поздно вечером и, подходя на "огонек" к
этому населенному пункту, каким-то образом в темноте очутился на берегу реки
Мещи и чуть было не свалился в овраг. По улице Пестрецов проходила ватага
парней. Я обратился к ним и спросил, не скажут ли они, где мне можно перено-
чевать. Один из них направил меня в крайнюю избу, где жил его отец. Семья
оказалась "в достатке", встретили меня радушно. Хозяин обо всем расспросил. И
об учении в Казани, и где живу, и кто мои родители. Хорошо меня накормили
ужином, и утром хозяйка угостила блинами. Но вот когда я стал на дорогу, то
почувствовал, что просто не могу идти дальше. Невыносимо с непривычки боле-
ли ноги. Но не оставаться же на полпути. И я потихоньку двинулся, постепенно
разошелся и вскоре боль уже не чувствовал. Но последствия длительного пере-
хода сказались позже.
Ко второму ночлегу в Рыбную Слободу я пришел уже совсем ночью. По
старой памяти (я был там, когда мне было лет десять) я нашел дом Татьяны Ни-
колаевны, сестры мамы. Дом был недалеко от реки, двухэтажный. Родственники
еще не спали, а играли в карты. Мне, конечно, было не до развлечений. Я наско-
ро закусил хлебом с молоком и уснул в каких-то перинах.
На третий день было идти уже легче. Я спустился к Каме, и все время шел
по дороге, которая пролегала по льду реки. Домой прибыл поздно вечером. Все
очень удивились, что я добрался на лыжах. Несколько дней провел в родной се-
мье, ходил по друзьям, на каток, и несколько дней пролетели.
Обратно меня отправили на санях со знакомыми студентами мединститута.
В пути запомнились два случая. Первый - это ночевка в избе бедного татарина,
который все время ходил в нижнем белье. Когда мы уселись поужинать, то уви-
дели, что из щелей сбитого из досок стола торчат тараканы. Они же часто спры-
гивали прямо с потолка.
Ехали мы на трех санях. И вот перед Казанью наша лошадь стала прихра-
мывать и отставать от других. Тогда наш возница остановился перед винной лав-
кой, купил четвертинку и силой влил ее в пасть лошади. После этого она пере-
стала хромать и проявила такую прыть, что оставила позади двое саней.
Но самое главное проявилось позже, после возвращения в Казань. Через
короткое время у меня появился нарыв в паху, который все рос и рос. Пришлось
обратиться к врачу. Он едва только взглянул на опухоль и тут же спросил: "Вы
повреждали где-нибудь ноги в коленном или голеностопном суставах?". Я рас-
сказал о своем лыжном походе, признался в том, что у меня сильно болели ноги,
особенно после первого дня. "Вот Вам и причина! Произошло воспаление где-то
в голеностопном суставе. А поскольку Вы все время двигались, то продукты
нагноения отложились не там, где они образовались, а были перенесены потоком
крови выше и сосредоточились в более спокойном месте". Я с трудом двигался.
Раз гнойник (очень большой) прорвался, но вновь возник. И только после второ-
го прорыва все зажило.
И во втором семестре, я продолжал занятия очень настойчиво и, букваль-
но, не зная отдыха. Насколько я был отрезан от мира сего, показывает следую-
щий случай. Как-то раз уже весной, под лето, утром, как всегда, чтобы не мешать
женщинам собраться на работу и в школу, я вышел из дому и присел на ограду
палисадника. Мимо проходила молоденькая симпатичная девушка с молоком на
базар. Я привлек чем-то ее внимание. Она остановилась, разговорилась со мной и
в конце разговора предложила придти вечером в городской сад. Был в то время
такой себе скверик Карамзина, в котором стоял его бюст. Но я, конечно, не по-
шел. И обстановка не позволяла где-то вечером шляться, да и сам я не хотел.
На курсах мы все лучше узнавали друг друга. Старостой был у нас Степан
Захаров. Где-то в самом конце класса сидел Корнилов, и все время щупал свою
соседку. Был у нас и "феномен" Каримов, недавно демобилизованный из армии
крепыш. Он устраивал представления. Зазывал всех в соседний пустой класс, об-
нажал свой живот и ложился на стол. Каждый по желанию, положив около два-
дцати копеек, мог ударить его, сколько хватит сил, по животу. Многие пробова-
ли, а ему хоть бы что. Он говорил, что в армии были случаи, когда его ударяли
обухом топора в живот. Не знаю, правда ли это, но, во всяком случае, близко к
истине. Учился он неважно, мне приходилось не раз помогать ему в решении за-
дач, растолковывать многие правила арифметики.
Но вот курсы окончены. Я получил высокие оценки по всем предметам.
Ненадолго съездил домой на пароходе, а затем вернулся обратно на экзамены в
Казанский авиационный институт. Жили мы в это время в полупустом общежи-
тии. Летом оно выглядело нежилым. Но я сумел пробраться в душ, где была
лишь холодная вода, и принимал его ежедневно, умудрившись не простудиться.
Стоит заметить, что именно в этом году появились в свободной продаже и хлеб,
и сахар, и некоторые другие продукты. Жить стало легче и сытнее.
Эти экзамены стали моим триумфом. Первой была письменная работа по
геометрии и тригонометрии, для меня совершенно простая. Я, не спеша, но и не
мешкая, решил все задачи, которые, по моему мнению, были совсем несложны-
ми. Первым закончил задание и понес под устремленные на меня взгляды других
абитуриентов свои решения в экзаменационную комиссию. Ее возглавлял Шеве-
лев (к сожалению, не помню его имени и отчества). Он было пытался остановить
меня и вернуть на место, чтобы я еще раз проверил, все ли правильно, нет ли где-
нибудь ошибки. Но у меня была совершенная уверенность, что все сделано как
надо. Сразу ответа о верности решения задач экзаменаторы не давали.
Следующий экзамен - письменная работа по алгебре. Все повторилось, как
и в предыдущий раз. Я сдал работу первым. На этот раз Шевелев не пытался уже
вернуть меня обратно.
И вот заключительный экзамен по математике. Шевелев (принимал именно
он) "гонял" меня по правилам геометрии, по законам тригонометрии. И я, не за-
думываясь, четко формулировал ответы, которые заранее, нет, не вызубрил, а с
пониманием сути запомнил, не раз повторяя, помню, как сейчас, в садике на
Черном озере. Не было ни одного вопроса, на который я бы не ответил с исчер-
пывающей полнотой.
И вдруг совершенно неожиданно экзаменатор стал проверять меня на счет
в уме. Ну, тут уж я показал себя. Недаром еще в школе первой ступени отличался
у Федора Ивановича этим счетом! Это, видимо, окончательно убедило Шевелева
в том, насколько хорошо я знаю математику. И он, обмакнув перо в чернила,
размашисто, я сказал бы, со смаком поставил мне три пятерки: по геометрии,
тригонометрии и алгебре. (Тогда так было принято.)
Настала очередь экзамена по физике. Тут уже фортуна буквально подыгра-
ла мне. Достался билет, первым вопросом которого были паровые котлы и паро-
вые машины. Я отошел к своему месту и наметил план ответа. Помню, что вто-
рой и третий вопросы мне были менее приятны. Но моими познаниями по пер-
вому вопросу преподаватель буквально был ошеломлен. Я рассказал и об огне-
трубных и водотрубных котлах, о прямых и обратных, об их оборудовании, о
форсунках Шухова, Вагнера, Александрова, Кертинга. Кроме того, описал ин-
жекторы последнего, а также Стирлинга и Фридмана, рассмотрел машины про-
стого действия, двойного и тройного расширения, упомянул о золотниковом и
клапанном парораспределении, о кулисах Стефенсона и Джойля, построил диа-
граммы паровой машины и пр. Преподаватель в конце концов не выдержал и,
сказав: "Хватит", - поставил мне жирную пятерку, лишь спросив на прощание: -
"Откуда только Вы это знаете?". Я ответил, что работал на пароходах.
Так же успешно прошли экзамены и по русскому языку и политэкономии.
Я торжествовал. Послал домой телеграмму: "Все экзамены сдал на пятер-
ки. Я - студент". И вслед за телеграммой, взяв с собой и Тасю, выехал домой.
Там с друзьями мы организовали вылазку за Каму, жили в палатках. Все оста-
лись очень довольны, в том числе и двоюродная сестра.
Вот я и студент. Нас, первокурсников, нуждающихся в общежитии, посе-
лили около Казанского кремля в четырехэтажном здании во весь квартал. В нем
находились краеведческий музей, общежитие медицинского института и гидро-
мелиоративного техникума. В последнем жил Юшманов, который перешел уже
на второй курс, и я не раз заходил к нему. Там же размещалось большое обще-
житие нашего КАИ, книжный магазин и еще много всяких контор.
Меня поместили в самую обширную, на одиннадцать человек, комнату.
Помню братьев Рыбаковых, Шакирова. Все мы жили дружно, а вот с соседом
Чумаковым из Вятки я умудрился поссориться. Мне он казался здоровым пар-
нем. Как-то мы с ним ввязались в борьбу, почти что в драку. Но я как-то ловко
за него ухватился и стал пригибать его голову к полу, прихватив ее из-под мы-
шек, и заставил, прямо-таки под угрозой сломать ему позвоночник, сказать, что
он больше никогда не будет со мной связываться. Вокруг бегал Степан Захаров
(он остался у нас старостой курса) и всячески уговаривал прекратить борьбу. Но
я отступился лишь после того, как добился своего.
Но это не столь важно. Если так отвлекаться, можно далеко зайти. Сначала
нужно сказать о занятиях. Учебный год открыл профессор по математике Евге-
ний Иванович Григорьев, который читал теорию. Был он уже пожилой, очень
полный, с животом, поэтому, наверно, его и звали "параболой". Лекцию профес-
сор начал коротким вступлением, обращением к нам, студентам. Было оно не
столь знаменательным, так что вскоре позабылось. Сначала я сел было за первый
стол. Но уже в следующий раз пересел подальше. Евгений Иванович был добро-
душнейший человек, но из-за старческого возраста не совсем управлял собой, и
подчас непроизвольно слюна из его рта летела на студентов, сидевших перед ка-
федрой.
Был у него и сын, тоже математик, доцент. Этот был маленький, с выщерб-
ленными зубами, сам какой-то ущербный, и известно было, что попивал. Не
помню, как его звали, так как среди студентов все его называли "штрих", имея в
виду производную.
Профессор физики Столов (или Столбов) всю науку свел к длинным и
нудным рассуждениям о размерностях. Физики из-за этих размерностей совсем и
не чувствовалось. Ассистентом был у нас Воинов. С ним мне пришлось познако-
миться в начале второго семестра, так как в физике я перестал что-либо пони-
мать, и в результате по окончании первого семестра получил двойку, и был вы-
нужден пересдаваться.
Следующим предметом, определяющим для студентов первого семестра,
было черчение. Формально его вел Сибгатуллин (имя и отчество не помню), но
все листы, а их было в первом полугодии, помниться, шесть, все формата А1,
проверял и принимал профессор Сергей Федорович Лебедев. Это была замеча-
тельная личность. Его выслали из Москвы по политическим мотивам, и он не
имел права въезда в столицу, где у него училась дочь. Сергей Федорович не был
женат, и ни для кого не было секретом, что он живет с молодой симпатичной ан-
гличанкой (преподавательницей английского языка). Этот наш преподаватель
раньше имел отношение к текстильной промышленности (я видел какую-то его
брошюру о ней). Докторской степени у него не было, и получил он ее уже
намного позже, после того как мы закончили все его курсы: черчение, начерта-
тельную геометрию, детали машин и грузоподъемные машины. Отличался еще
старой, дореволюционной воспитанностью. На лекции всегда приходил со спра-
вочником Хютте и импровизировал, частенько огорошивал нас латинскими из-
речениями, которые тут же и переводил. Был большой насмешник, но и очень
снисходительный. Мы все его очень любили. О нашей любви к нему скажу чуть
позже подробнее.
Я решил готовить предметы по очереди. Вначале принялся за черчение.
Только то и делал, что чертил. Пропускал лекции (Захаров по дружбе еще с кур-
сов прощал мне это и отмечал "присутствие"). Чертил и по вечерам, и в воскре-
сенье. Но так как я относился к этому, вообще говоря, второстепенному предме-
ту, как к искусству, и каждый чертеж подготавливал как художественное произ-
ведение, то выполнение всех шести чертежей заняло у меня очень много време-
ни. И в этом в немалой степени был виноват Сергей Федорович. Он с самого
начала отметил мои успехи, чем я очень гордился и все более старался.
Так, каждый чертеж я выполнял по следующей технологии. Прежде всего,
начерно: с переходом линий далее им положенного расстояния, с ошибками. Все
это делалось без нажима мягким карандашом. Затем твердым обводил нужные
контуры. После этого все стирал и снова обводил оставшиеся резкие линии очень
мягким черным карандашом. И в заключение покупал булку белого хлеба, кро-
шил ее мякиш и "чистил" работу этими крошками. В результате чертеж, выпол-
ненный карандашом, выглядел так, словно был сделан тушью.
Профессору Лебедеву это очень нравилось, и случалось, что когда к нему
во время просмотра моих чертежей заходил кто-нибудь из старшекурсников
(около него всегда было много студентов), то он, показывая мою работу, спра-
шивал: "Чем, Вы думаете, выполнен этот чертеж?". Спрашиваемый, как правило,
ошибался и говорил, что тушью. И Сергею Федоровичу это было приятно, а мне
лестно. Часто, когда я в своей комнате в общежитии чертил, несколько одно-
курсников следили за моей технологией, но, насколько я знаю, никто мне не сле-
довал: дело было хлопотное и отнимало много времени. Во всяком случае, я пер-
вым на курсе задолго до сроков сдал все чертежи на пять.
Такая тактика в обучении мне обошлась дорого. Увлекшись чертежами, я
запустил другие предметы. Не ходил на практические занятия по математике, не
вел конспекты по физике и совершенно перестал ее понимать. По математике я
стал усиленно заниматься самостоятельно. Один учебник для меня оказался
наиболее понятным. Его я тщательно прочел от корки до корки. Когда пришла
пора сдавать зачет по практическим занятиям, которые у нас вел Шевелев, то
уже к этому времени математика мной была основательно проштудирована по
нескольким книгам.
На зачете я получил задание вывести какую-то формулу, второстепенную,
которой в лекциях не было. В одной из книг мне этот вывод встречался и пока-
зался простым. Но здесь я долго возился с ним, а преподаватель все ходил и за-
глядывал в мои записи. В конце концов, мне показалось, что я все сделал пра-
вильно. Так или нет, а только Шевелев оценил мою самостоятельность, и поста-
вил мне зачет.
На экзамене я отвечал плохо, но Евгений Иванович Григорьев потихоньку
поглядел в какой-то список и поставил мне отлично. Так я и получил к концу
курса круглую пятерку по математике. Это совершенно незаслуженно, и мне
стыдно до сих пор.
Физику сдавали в последний день перед каникулами. Профессор Столов
(или Столбов) уже поздно вечером, когда у него сидело еще полно студентов,
предложил тем, кто не хочет или не готов сейчас отвечать, придти после кани-
кул. Но я, имея в активе одни пятерки, рискнул. Здесь мои грошовые знания пол-
ностью обнаружились, и я получил заслуженную двойку. Чтобы покончить с
этим, замечу, что после сессии я пересдавал физику уже не Столову, а его асси-
стенту Воинову. Тот раскрыл газету, закрылся ею и углубился в чтение, бросив:
"Списывай!". Это несколько задело мое самолюбие, так как на этот раз экзамена-
ционные вопросы я знал хорошо.
Домой я решил на этот раз отправиться пешком. Из-за безрассудства и ка-
кого-то задора. Я вышел из Казани рано утром. До родного города было по пря-
мой около ста тридцати километров. Часа через два я догнал девушку. Мы с ней
разговорились, и оказалось, что она работает в Казани прислугой и идет пешком
к себе в деревню Русский Ошняк. За первый день она прошла всего километров
пять-десять, сегодня второй день в пути. Стали шагать вместе. И никто мне не
верит, и многие никогда не поверят, что в этот день мы с ней одолели восемьде-
сят пять километров. Она шла в валенках, и дорогой они начали натирать ей ик-
ры вверху. И я, недолго думая, предложил немного укоротить голенища, что и
сделал с ее согласия. Совсем уже ночью мы миновали Карнаухово (оно было
очень близко от дороги, светилось огнями: там был расположен спиртовой за-
вод). Ночевали в Рыбной Слободе, хотя Русский Ошняк расположен совсем ря-
дом с ней.
Но на второй день, когда начало светать, пришлось отправиться в путь од-
ному: девушка, имя не помню, лежала на печи и, видимо, не могла даже встать. Я
дошел до родного города не совсем ночью. Дома еще не спали. Отец и мать уди-
вились еще более чем в прошлый раз моему приходу на лыжах.
В один из дней к моим сестрам пришла молоденькая пионервожатая из
школы, десятиклассница Галя Морозова. Она была так привлекательна, румянец
играл на ее щеках. Вечером я пошел ее провожать. И тут Галя призналась, что
болеет туберкулезом. Мне бы как-то проявить к ней участие, подбодрить ее, но я
этого не сделал. А на следующий год мне сообщили, что она умерла.
Дома я начинал утро с того, что выходил на крыльцо в одних трусах и та-
почках и обтирался снегом. За полгода ежедневный холодный душ в общежитии
так закалил меня, что обтирание снегом проходило без всяких простуд. С сест-
рами катались на коньках в парке по покрытым льдом аллеям. Также милиция
устроила для молодежи сюрприз в виде катка во дворе своего отделения. Ходили
кататься и туда. Встречался и со своими друзьями по ФЗУ, в том числе и с Пав-
лом Бухарьевым, он работал слесарем в затоне. Последующее свидание с ним, я
еще напишу об этом, было печальным.
Возвращался в Казань на автобусе. На заднем сиденье на своих узлах сиде-
ла какая-то бабуся, и, когда подбрасывало на ухабах, она все время стукалась го-
ловой о крышу. И вот приехали в Казань, стали все выходить, а бабуся все сидит.
Оказалось, от ударов она потеряла сознание. В те годы стояли очень теплые зи-
мы. Вот и сейчас помню, что тот день был какой-то по-весеннему теплый, и я
шел, и мне было хорошо и радостно.
В институте меня приняли в комсомол. И вскоре я "отчудил хохму". На
одном из комсомольских собраний, когда зачитывали резолюцию, у меня на ру-
ках оказался очередной номер "Правды". И я вскоре заметил, что резолюция спи-
сана практически слово в слово из передовой статьи этой газеты. Я возмутился.
Поднял руку и заявил: "Эта резолюция не наша!". - "Как так не наша?!" - разда-
лись крики и голоса из президиума собрания. "Потому что она списана из пере-
довой "Правды""! - "Ну и что из этого, разве передовая "Правды" не отражает
наши мысли?" - авторитетно и грозно предупредили меня из президиума. "От-
ражать-то отражает, но эти же мысли мы могли бы изложить и своими словами",
- парировал я. В конце концов мое выступление исхитрились как-то замять и ин-
цидент был исчерпан.
В это время начались по всей стране репрессии. Еще в начале года ректо-
ром КАИ был Гудзик. Человек, безусловно, авторитетный. Я помню, как перед
его появлением на работе в вестибюле института скапливались партийные, ком-
сомольские и профсоюзные деятели, некоторые другие сотрудники. У каждого к
нему было какое-нибудь дело. Но вдруг Гудзик исчез. Скоро нам стало известно,
что он арестован. В начале репрессий не было в ходу слово "враг". Просто аре-
стован. Через некоторое время стали говорить, что снят с работы и арестован
первый секретарь обкома, ряд членов райкома партии и даже отдельные руково-
дители комсомольских райкомов.
А с начала 1937 года разразился настоящий "шабаш". Ежедневно через час-
два после учебы назначались комсомольские собрания, на которых рассматрива-
лись дела родственников репрессированных. У одного из студентов был аресто-
ван отец, у другого дядя. На комсомольском собрании разбирался и был вынуж-
ден оправдываться профессор Нужин. Всем предъявляли одно и то же обвинение
- потеря бдительности к врагам народа. Все по мере сил отбивались. Профессора
Нужина как-то оправдали. Если мне не изменяет память, тот же путь прошел и
профессор Муштари.
Я, несмотря на то, что стал членом ВЛКСМ, был чужд этой кампании, как-
то отстранился от нее и в разбирательства не вмешивался. Но вскоре меня избра-
ли членом комитета комсомола и поручили военную работу (на самом деле все
сводилось к переписыванию и редактированию протоколов заседаний). Секре-
тарь же нашей организации Г.В. Средин - будущий первый заместитель началь-
ника Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского
Флота в звании генерал-полковника - заметил во мне какие-то организационные
способности. Он не раз выдавал мне билеты на районные комсомольские конфе-
ренции, которые обычно проходили в юридическом институте (позже это здание
отошло к КАИ). Я садился в конце зала. Внимательно слушал, но ничего не по-
нимал в существе тех прений, которые жарко разгорались на заседаниях.
Дела о пособничестве врагам народа имели два результата. С особо резки-
ми обвинительными речами и крайне жесткими предложениями выступал тогда
председатель профкома Абдурахман Галеев. И вот вдруг на одном из комсо-
мольских собраний слово берет студент выпускного курса Охаприн и говорит:
"Я обвиняю Халида Галеева в пособничестве врагам народа. Поясняю. Халид Га-
леев был инструктором аэроклуба, и именно ему вдруг враг народа Гудзик раз-
решил взять институтский самолет У-2 и слетать на родину. Далее. Бывший сек-
ретарь райкома комсомола (такой-то), ныне враг народа, был очень дружен с Га-
леевым, и они не раз после заседаний райкома вместе шли домой. Дорогой они
все время беседовали. О чем можно беседовать с врагом народа?". Видимо, это
выступление было заранее продумано старшекурсниками. Они выступили в под-
держку выступления Охаприна. Нашлись и другие, кому уже осточертел этот Га-
леев своими нападками и разоблачениями. Единогласно постановили признать
Галеева Абдурахмана врагом народа и исключить из комсомола. Долго после
этого Галееву пришлось ходить по всем инстанциям и оправдываться. И когда он
вновь появился в стенах института, то более на собраниях уже не выступал.
Другой результат касался всех тех, у кого нашлись в родственниках враги
народа. Таких насчитывалось человек пятнадцать-двадцать. Всех их исключили
из комсомола и перевели в Казанский институт коммунистического строитель-
ства. Отлично помню тот поздний вечер, когда мы провожали переведенных сту-
дентов на их новое место учения. Собралось нас не так-то и много. Но проводы
прошли с песнями, по-дружески.
Интересная была эпопея с Сергеем Федоровичем Лебедевым, который два
года читал лекции по курсу деталей машин. А когда пришло время, рискнули
сдавать ему экзамены всего четыре-пять человек, остальные не решились, так
как первых экзаменуемых С.Ф. Лебедев беспощадно "зарезaл".
Я готовился очень основательно. Чрезвычайно понравилась мне теория
смазки, и я перечитал по ней кучу литературы в университетской библиотеке.
Для меня как будто весь курс заключался в этом предмете. Он действительно
был сложен, но остальные вопросы, довольно простые, я подготовил плохо. В
билеты эту мою любимую теорию не внесли, и" блеснуть своими глубокими по-
знаниями" мне не удалось. Экзамен мной, как и многими прочими, был прова-
лен. И после этого я ходил пересдавать детали машин еще дважды, и другие дис-
циплины не раз.
Несмотря на это Сергей Федорович пользовался у нас большой любовью и
авторитетом. И вот мы узнали, что, кажется к годовщине Октября, преподава-
тельский состав будет премирован, а его обошли. Тогда мы решили преподнести
ему подарок от курса. Купили в складчину прекрасный портфель. Прикрепили к
нему металлическую пластинку с дарственной надписью. И после того как был
зачитан официальный приказ о награждении преподавательского состава, при-
гласили С.Ф. Лебедева в свою аудиторию. Там уже собрался весь курс. Для
нашего любимого преподавателя все это было совершенно неожиданным. Ка-
пышев, как один из лучших и очень трудолюбивых и серьезных студентов, "дер-
жал" поздравительную речь. Ответил и Сергей Федорович. Полностью его слова
я не помню, но смысл отлично запечатлелся в моей памяти. Он говорил, что лю-
дей связывают различные нити. Есть нити материальные, когда преследуют
лишь выгоду, а существуют и духовные. И вот последние и протянулись и
крепнут между нами. Все, кроме Галеева, встали и зааплодировали, а тот упорно
не вставал. Тогда сидевший рядом с ним Федоров, студент атлетического тело-
сложения, поднял за шиворот и его. Конечно, этот инцидент так не прошел. Всех
нас вызывали в профком и внушали, что поднятием с мест и аплодисментами
приветствуют только вождей. Но этим дело и ограничилось.
Уж раз разговор зашел о студенческих не относящихся к учению делах,
расскажу и о следующем. Где-то уже на четвертом курсе среди нас, студентов,
начали проводить занятия армейской подготовки. Дежурный по курсу (ввели
должность такого) выходил навстречу очередному лектору, приказывал всем
встать и отдавал рапорт о том, сколько студентов присутствует и кто отсутству-
ет. После приветствия преподаватель разрешал всем садиться. Особого протеста
это у нас не вызывало.
На лекциях пожарного дела, которые читал брандмейстер г. Казани, оде-
тый в военную форму, все как можно громче приветствовали его дружным
"Здраствуйтт!". Брандмейстер был доволен. Но от этого дружного вопля в сосед-
ней аудитории, где изучали металлургию, преподаватель вздрагивал, терял нить
рассказа, и несколько минут шагал по комнате, приходя в себя. Но вскоре он
нашел выход: не начинал читать лекцию, пока из нашей аудитории не прогремит
приветствие.
Сначала этим все и ограничивалось. Потом невинная шутка начала приоб-
ретать скандальные очертания. Рапорты превращались в комедию. Причем один
студент старался перещеголять другого. И однажды нашему уважаемому доцен-
ту Максимову, человеку очень гуманному, спокойному и доброжелательному,
был отдан рапорт, который, мне помнится, начинался словами: "В неделе семь
дней, сегодня суббота...". После этого Максимов, обращаясь к нам, с укором
сказал: "Это вы меня так приветствуете, зная, что я человек не мстительный, а
вот попробовали бы вы такой рапорт отдать декану Одинокову!".
И тут Николай Николаевич Рекшинский, мой хороший товарищ, с которым
мы жили в одной комнате и сейчас дружим и переписываемся, сказал: "Давай
спорить, что тебе слабо отдать Одинокову рапорт в стихах". Мы поспорили на
незначительную сумму. Рекшинский тотчас же начал сочинять стихи к рапорту.
И вот наступил день лекции декана, который читал расчет самолета на
прочность - курс сложный и очень трудный. Я встал, вышел навстречу Юрию
Георгиевичу и начал:
Товарищи, встать!
Дружно стоять!
Дайте декану мне
Рапорт отдать.
Полностью стихотворение я теперь позабыл, но конец мне врезался в па-
мять:
Весь курс стоит перед Вами,
К занятиям готов.
Рапортовал стихами
Дежурный Кудряшов!
Пока я декламировал, Одиноков стоял, вперив в меня глаза и как бы гипно-
тизируя. Временами я чуть было не забывал выученный короткий стих. Но все
же отдал рапорт до конца и пошел к своему месту. Нагнувшись и спрятавшись за
спиной впереди стоящего, Рекшинский протягивал мне приз. Одиноков в разду-
мье ходил некоторое время по аудитории. Затем сказал: "Садитесь, товарищи!
Начнем лекцию". Я приготовился к тому, что после первого часа декан вызовет
меня к себе. Но он ушел, не сказав ни слова. Также закончилась и вся лекция. Он
вышел, но вдруг вернулся и сказал: "Товарищ Кудряшов, зайдите ко мне!".
В кабинете он, стоя за своим столом, спросил: "Что это такое было, товарищ
Кудряшов?" - "Шутка", - глупо улыбаясь, ответил я. "Ну, так вот, за эту шутку я
даю Вам строгий выговор". И в этот же перерыв на доске приказов появилось
распоряжение: "...объявить строгий выговор".
Но этим дело не кончилось. В это время я увлекся книгой В.П. Глушко
"Топливо для жидкостных реактивных двигателей". И я читал ее, как это было
принято в школе, на всех лекциях, в том числе и на одиноковских, надеясь поз-
же, как я это часто делал, изучить предмет по чужим конспектам. Но на этот раз
моя затея успехом не увенчалась. Хотя я начал по конспекту готовиться к экза-
мену заранее, а ночь перед сдачей провел в стенах института, стараясь еще хоть
что-то наверстать, но не удалось. На другой день на вопросы билета, среди кото-
рых, я помню, был и такой, как расчет шасси самолета на прочность, я или отве-
чал очень плохо, или совершенно не мог ответить. Получил, естественно, двойку.
Перед тем как поставить оценку, Одиноков, улыбаясь, сказал: "А Вы бы стихами,
Кудряшов, стихами!".
Несомненно, самым знаменитым среди нас был в то время студент вы-
пускного курса Римка Карпов. Он носил титул чемпиона Татарии в тяжелом весе
по боксу. Так сложилось, что почти все боксеры-чемпионы в Татарии обучались
в КАИ. Среди них был еще один Карпов, Александр, и другие. Этот Александр
часто демонстрировал нам на дворе института переворот в воздухе, прямо на ас-
фальте двора.
Оба Карповых (однофамильцы) учились отлично, только Римка обладал
необузданным характером, а Александр был очень уравновешенным человеком.
Они были друзьями и частенько устраивали драки то со студентами-медиками
(те оборонялись человеческими костями), то с химиками-технологами, которые
только что перебрались в новое прекрасное здание своего института.
Бывали стычки и в городе. Однажды настоящее побоище произошло в ре-
сторане "Татарстан". Группа студентов КАИ, в том числе и наши боксеры, зака-
зали столик или два. Стали рассаживаться, и не хватило одного стула. Не долго
думая, его взяли за соседним столом из-под посетителя, который на минутку
встал. Тот, у которого забрали стул, возмутился, за него вступились собутыльни-
ки. Каивцы тоже не спустили, и началась потасовка. Шла стычка без применения
какого-либо оружия или других предметов, так сказать, "по-джентльменски".
Победа досталась нашим ребятам. Когда страсти немного улеглись, стали знако-
миться. И тут выяснилось, что наши боксеры дрались с борцами из цирка.
Странная манера была у Римки Карпова готовиться к экзаменам. Он заби-
вался с конспектами за сцену в зале института и там зубрил. Сдавал только на
пятерки. Зимой и летом ходил в какой-то распахнутой хламиде и майке под ней.
Но его похождения закончились печально. Как-то он побил какого-то со-
вработника. Тот подал в суд. Состоялся показательный процесс прямо в зале ин-
ститута, и Карпова осудили. Не могу вспомнить судебную формулировку, но его
сослали на несколько лет на строительство одной из гидроэлектростанций на
Волге.
Вернулся он из заключения года через три. Сразу же об этом разнеслась
весть по институту. Его товарищи давно уже окончили учебу, а он снова пришел
на последний курс. Носил все ту же хламиду. Отрастил бороду, которую вскоре
оригинально и остриг. У нас была своя парикмахерская. И вот Римка продал би-
леты желающим посмотреть, как он будет лишаться бороды, которая придавала
ему романтический вид. Уселся в кресло "дяди Вани", который побывал позже
на войне, лишился ноги, и снова вернулся к нам на прежнее место работы. Кру-
гом столпились любопытные с билетами и без. Дядя Ваня остриг ему бороду.
Римка аккуратно ее свернул и уложил в табакерку. Был он, вообще, добродуш-
ный человек, если не впадал в буйство. После окончания института, как мне ста-
ло известно, работал не по специальности, а на радиозаводе.
Кстати, что касается человеческих костей у студентов мединститута. Дол-
жен привести случай с моей двоюродной сестрой Тасей, которая тоже стала сту-
денткой-медиком. Как-то они с подругой изучали связки верхних конечностей и
взяли для этого детскую руку из анатомички. Прозанимались до позднего вечера,
а, так сказать, учебный экспонат Тася спрятала в печке. Утром ее бабка открыла
заслонку топки, и можно себе представить состояние старой женщины, когда она
увидела отрезанную руку.
Уж раз я начал вспоминать бабку, то не могу умолчать о некоторых случа-
ях, связанных с нею. Еще когда я был курсантом, она однажды пришла домой
ужасно расстроенная. Дело в том, что бабка поскандалила с кем-то в магазине.
Стали спрашивать, как ее зовут, а она и фамилию свою позабыла. В другой раз
пришла из бани прямо-таки убитая. Оказывается, с ней случилась действительно-
таки удивительная вещь. Стала бабка в шайку воды набирать, и вдруг из крана
выскочила рыбка и начала плавать у нее в тазу. Кругом собрались женщины, и
давай ей предсказывать: "Это твоя смерть выскочила, бабка!". Но, слава Богу,
старушка жила еще долго. Я много думал, выдумала ли это она, или действи-
тельно такое могло случиться. И пришел к выводу, что это вполне вероятное со-
бытие: где-то прорвало фильтр, и из Волги через препятствия и краны проскочил
какой-нибудь малек.
Хочу остановиться еще на двух замечательных событиях, происшедших во
время моего учения в институте. Во-первых, это первомайская демонстрация,
особенно торжественная и знаменательная для КАИ. В тот год коллективом Ка-
занского авиационного института был сконструирован самолет "КАИ-1". Макет
его и вынесли на демонстрацию. Все были в белых костюмах. Шли долго, так
как путь пролегал от института мимо Черного озера по всей улице Баумана и от-
туда на площадь перед трибунами, которые тогда были установлены на месте
нынешнего театра оперы и балета (его строили лет десять, не менее - был зало-
жен еще до войны, а закончен после). Но бодрый дух, веселость, какая-то ра-
дость, ощущение лучшего в будущем не покидали нас.
Что касается нашего самолета. Однажды в институте побывал Герой Со-
ветского Союза летчик Мазурук. Его свозили на институтский аэродром. Пока-
зали наш "КАИ-1". И летчик, едва окинув его взглядом (аппарат был очень неве-
лик), произнес: "На этот самолет я бы никогда не сел!".
Помню эпопею первых выборов в Верховные Советы (ВС) СССР и Татар-
ской АССР. В законодательный орган страны был выдвинут от Казани тогда
знаменитейший полярник Герой Советского Союза Отто Юльевич Шмидт, а в
ВС автономной республики заменивший Лепу на посту первого секретаря Татар-
ского обкома Алемасов. Последнего предлагал наш институт. Как сейчас, стоит
он перед моими глазами в военной гимнастерке, только что демобилизованный
командир подводной лодки.
И вот назначена встреча с кандидатами в депутаты на площади Свободы.
Под вечер вся она и примыкающие улицы были забиты народом. Вначале прихо-
дили колонны от организаций, и коллектив КАИ оказался первым у трибуны. За-
тем начала прибывать и неорганизованная публика. Сжали так, что я начал не-
много побаиваться за свою жизнь. Но все обошлось, хотя и пришлось выдержать
сильнейший нажим.
Ждали Отто Юльевича часа два. А его все не было. Но наконец-то он по-
явился. Такой, каким все его и представляли: рослый, с развевающейся бородой,
непокрытой головой, жизнерадостный, энергичный, подвижный. А за ним и це-
лая группа других людей. Но все смотрели только на Шмидта.
Выборы на нашем участке проходили в комнатах нижнего этажа общежи-
тия КАИ. Я участвовал в кампании агитатором. В домах всюду встречали меня
приветливо. Но Г.В. Средин, который в то время был членом избирательной ко-
миссии, по секрету мне рассказал после, что много было бюллетеней с вычерк-
нутыми фамилиями кандидатов, особенно Алемасова, и с непристойными надпи-
сями.
Не могу и умолчать о войне с Финляндией. От Казанского авиационного
института нашлось шесть человек добровольцев. Все они погибли при штурме
какого-то острова. Одно время в проходе в актовый зал были вывешены их порт-
реты в траурных рамках. Приезжал к нам и Герой Советского Союза, получив-
ший это звание в только что прошедшей войне. Фамилию его не помню. Простой
русский паренек, крепкий, небольшого роста. В честь его был устроен банкет, на
который были приглашены лишь избранные.
Помню первый при нас выпуск из института. Это были очень энергичные
ребята. Перед окончанием они добились ассигнований для выпускников одно-
временно от министерства (в то время КАИ принадлежал Министерству авиа-
ции) и от заводов, куда они были направлены. Купили для всего курса путевки в
дом отдыха на Черное озеро (это уже за городом Казанью) на две недели с уго-
вором, что они будут отдыхать десять дней, а ресурсы остальных четырех адми-
нистрация сконцентрирует и устроит для выпускников и приглашенных банкет.
Мне как члену комитета комсомола поручили курировать это мероприятие.
Все прошло хорошо. Уже была зима, когда состоялся банкет. Пригласили
большую часть преподавательского состава и администрации. От обкома комсо-
мола присутствовала симпатичная молодая женщина Шамсеева. Но вот в чем бе-
да. Водка была запрещена, и на столах ее не было, а только легкие сухие вина да
бочка с пивом. Но в некоторых бутылках оказалось кое-что и покрепче. Это
спиртное втихаря поглощали "достойные люди", и вскоре многие перепились.
Когда это стало заметно, Шамсеева встала и уехала. Меня же разбирали в коми-
тете комсомола, но дело замяли, и я отделался замечанием. Много еще можно бы
рассказать о студенческих годах, но хватит и этого.
Наступили последние экзамены. К ним готовились тоже не без всяких вы-
думок. Так, пожарное дело мы осваивали коллективно за ведром пива, распевая
сочиненную Рекшинским песню:
Мы особенно не тужим,
Про пожар за пивом учим и т.д.
Затем нужно было сдавать гидравлику, лекции по которой я слушал от
случая к случаю, потворствуемый в этом все тем же Захаровым, неизменным
старостой курса. Экзамены были назначены на третье мая. До первого мая я не
считал нужным заниматься. Затем была демонстрация и, естественно, я в ней
участвовал. После была маевка за городом, и там я не мог отсутствовать. Не смог
отказаться поехать за город и второго мая. Спохватился лишь под вечер.
Пришел в общежитие, достал конспект и под храп товарищей и бешеный
ход стенных часов (стрелки бежали очень быстро, после того как я передвинул
винтом балансир маятника, чтобы в шутку создать иллюзию, будто можно сде-
лать несколько суток из одних) начал зубрить. Но вскоре понял, что всю муд-
рость гидравлики мне не запомнить. Тогда я написал по каждому вопросу шпар-
галки, рассовал их по разным карманам, составил список, какие ответы, где у
меня лежат, и отправился на сдачу экзамена, не поспав ни минуты.
Первым взял билет и, пока другие, окружив преподавателя, стояли в оче-
реди, по своей справочной бумажке уже нашел нужные шпаргалки, сел и стал их
переписывать и осмысливать. Вопросы оказались легко усвояемыми. Я с уверен-
ностью пошел к экзаменатору. Ответил блестяще. Тогда преподаватель предло-
жил мне отыскать в справочнике необходимый насос. Это оказалось несложно. Я
получил пятерку. По пути в общежитие, куда я сразу же отправился отоспаться,
навстречу мне попался Рекшинский. Он готовился к экзаменам, как всегда, осно-
вательно, и удивился, что я сдал на отлично. Сам же он получил четверку. Вот
таково студенческое счастье.
В 1940 году после четвертого курса я проходил производственную практи-
ку на заводе в Тушино и видел, как производили "русс-фанера" - пикирующие
бомбардировщики. Самолеты были действительно из фанеры, только подмотор-
ные рамы из металлических труб. А фюзеляж и крылья делали из фанерного
шпона, который слой за слоем накладывали на болванки соответствующей фор-
мы и склеивали какой-то эпоксидной смолой. Затем плоскости и корпус снимали
с болванок и термически обрабатывали.
Уже в это время чувствовалось дыхание приближающейся войны. Еже-
дневно мы читали об успехах немцев на западном фронте. Все эти сообщения не
внушали нам оптимизма. Ухудшилось и внутреннее положение. Исчезли из про-
дажи и масло, и колбаса (в Москве эти продукты еще можно было купить). Сту-
дентам якобы по их просьбе отменили стипендии, и пришлось искать источники
заработка. Занимаясь в институте, я подрабатывал и ранее чернорабочим на
стройке. Сейчас же надо было подумать о постоянном источнике существования.
Мне удалось поступить преподавателем черчения старших классов средней
школы № 6. Не буду подробно останавливаться на этой работе, которая продол-
жалась немногим более года. Запомнился лишь конфликт, который едва не за-
кончился дракой, с одним из учеников восьмого класса, рослым, здоровым пар-
нем. Этот юноша сидел на одной из задних парт и часто нарушал дисциплину,
чтобы вывести меня из себя. И однажды, когда я сделал ему какое-то язвитель-
ное замечание, он вскочил со своего места, подбежал ко мне, встал напротив и
явно готовился меня ударить. Но я хладнокровно повернулся к нему, руку ни для
удара, ни для защиты не поднял, а внутренне приготовился дать ему сдачи и
устроить порядочную трепку. Но он вовремя опомнился и, вдруг расплакавшись
(почему, я так и не понял), вернулся обратно за свою парту.
На другой, 1940-й, год я стал преподавать на курсах чертежников при за-
воде 27. Здесь оплата была выше, и дело приходилось иметь не с учащимися
средней школы, а с более взрослыми людьми. В ходе обучения я более всего
нажимал на основы начертательной геометрии. Нужно было бы включить в про-
грамму и основы допусков и посадок, но я был в этом не силен, так как и сам в
институте изучал эту дисциплину, нужно сказать, очень плохо, а это одна из
важных, хотя и не очень сложных наук.
Далее, когда полугодичные курсы кончились, я поступил на кафедру чер-
чения института лаборантом. В мои задачи входило организовать показательный
кабинет различных деталей и узлов самолета. Тут пригодились мои навыки в
слесарной работе, которые я получил в ФЗУ. Из конструкций самолетов я выре-
зал ножовкой очень много частей, которые были пригодны для изображения.
Кроме того, собирал по всему институту всяческие задвижки, подшипники и
другие детали.
Самостоятельная хорошо оплачиваемая работа, особенно преподавание на
курсах чертежников, подняла мой уровень жизни. И мы втроем - Рекшинский,
Торопцев и я, - жившие долго в одной комнате, стали частенько обедать с пивом,
после заходить в погребок и "пропускать" по двести грамм какого-нибудь вина.
Жили очень дружно, много занимались и вечерами шли вместе прогуляться по
центральным улицам Казани, в основном по Чернышевского (потом ее назвали
именем Ленина).
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
Начало Великой Отечественной. - Труд в тылу в военное время. - Пе-
реживаем горечь поражений. - Перелом в ходе войны. - Победа! - Заводские
дела и люди. - Детдомовцы
С 1 июля мы должны были отправиться на преддипломную практику на
самолетостроительный завод 124 в Казани. Но тут я сделал неосмотрительный
шаг, который круто изменил всю мою дальнейшую судьбу. Леонид Трубачев
предложил мне поступить на пару месяцев мастером в зубошлифовальную груп-
пу завода 27. Подразделение только организовывалось, уже назначен начальни-
ком Георгий Евстафьевич Мигун, но работы почти не было. И сам завод еще
только находился в процессе становления. Соблазнившись возможностью не-
много подработать, я в начале мая 1941 года оформился на должность. А через
месяц поступил и на завод 124 на практику. Мне отвели стол. Принес я туда хо-
рошую готовальню, логарифмическую линейку, на этом дело и кончилось.
Не прошло и двух месяцев, которые мне положили отработать мастером на
заводе 27, как наступил роковой день 22 июня 1941 года. Как и все, мы были
озадачены с утра тем, что по радио непрерывно передавались музыка и песни,
сердце тревожно сжималось. В середине дня все стало ясно. Выступил по радио
В.М. Молотов. Голос его был неуверенный, дрожал, речь прерывалась. Чувство-
валось, что он очень взволнован.
В этих условиях уходить с завода уже не представилось возможным. Прав-
да, где-то в сентябре месяце я получил было отпуск для дипломного проектиро-
вания, но через некоторое время понял, что дипломный проект мне не по плечу:
для проектирования самолета у меня под руками не было материалов, а сделать
технологический проект механического цеха моторостроительного завода мне
оказалось тоже не под силу, так как весь профиль предыдущего обучения был у
меня по самолетостроению. И я отступился. Досрочно вернулся из отпуска и
принялся за освоение зубопрофильных станков "Мааги", "Гиргрейдинг", а позже,
когда к нам на производство эвакуировали моторостроительный завод 16 из Во-
ронежа, и прибывших с ним станков "Орнут" и "Найлс".
Вместо Мигуна назначили в группу Федора Кузьмича Колесникова. В от-
личие от прежнего начальника, который был человек образованный, собирался
делать диссертацию, этот был грубый, неотесанный мужик, вряд ли имевший
даже среднее образование. Но неоспоримое его преимущество - он был воро-
нежцем, а они заняли все руководящие посты на заводе. Уволился и через неко-
торое время (вероятно, через год) и Трубачев. Не поладил с новым начальником
и мастер по подготовке производства нашей группы (не помню его фамилию, но
его лицо, как сейчас, стоит передо мной).
В начале войны судьба еще раз чуть было не повернула мой путь. Одна-
жды мне предложили пост секретаря комитета комсомола завода (с подачи сек-
ретаря райкома, бывшего студента КАИ, знавшего меня по институту). Но я,
не отличаясь аккуратностью, за полгода или более задолжал членские взносы,
особенно в связи с работой на заводе. И в этом, вместо того чтобы утаить такой
неприятный факт, простодушно признался: "Я за неуплату членских взносов
должен быть исключен из комсомола!". Все несколько смутились. Особенно не-
удобно почувствовал рекомендовавший меня товарищ, и моя кандидатура отпа-
ла.
В начале войны жизнь не стала хуже. Из западных районов непрерывно
вывозили продовольствие. В магазинах появилась в изобилии битая птица, раз-
личные вина, в том числе шампанское, деликатесы. Но все это довольно быстро
кончилось. Ввели карточное распределение продуктов. На руках оставались
лишь карточки на хлеб, а на крупу, масло, сахар их часто вырезали, передавали в
заводскую столовую, и там нас три раза в день кормили.
Перешли на двухсменную работу по двенадцать часов. Жил я все там же, в
студенческом общежитии. Завод же был расположен за городом километрах в
десяти. Вначале транспорт (трамвай) работал нормально, но после стал ходить с
перебоями. С наступлением зимы в наших жилых комнатах стало подморажи-
вать, и вскоре многие батареи лопнули. Были приняты какие-то чрезвычайные
меры. Трамваи стали ходить регулярно, хотя и с выбитыми стеклами, особенно в
задних тамбурах. Батареи заварили, в здании стало тепло.
Но был период, когда я совсем ослабел. На завод и обратно в то время при-
ходилось добираться пешком. В цехе вначале тоже было холодно. Но однажды
"Мааги" замерзли и перестали работать. И тогда нашу группу отделили от всего
цеха шестерен перегородками, установили нам особое отопление, и сделалось
тепло. Вот тут-то я и сдал. Как-то вечером не было трамвая. Идти пешком я был
не в состоянии и забрался в калориферную переночевать. Но бдительный Колес-
ников обнаружил меня, расспросил и устроил жить в общежитии в соцгороде не-
далеко от завода. Комнаты там были большие, в одной нас проживало человек
двадцать, не менее. Но вскоре рядом построили еще один корпус, общежитие для
ИТР среднего звена, и мы, четыре мастера - сменный нашей группы Василий
Иванович Гришин, контрольный не нашей Гаврилов (не помню имя), еще один и
я - стали жить там вчетвером в одной комнате.
Да, шла Великая Отечественная война. Жестокая, неумолимая, кровавая. И
все, что ни происходило в нашей тыловой жизни, все озарялось этой битвой, за-
ревом пожарищ на родной территории. Ошеломленные первыми сообщениями о
нападении гитлеровской Германии, мы все надеялись на перелом в ходе войны в
самом начале. Но сводки с фронта, которые читал Левитан, мало обнадеживали,
хотя все еще ждали: вот-вот что-то произойдет. Но уже оставляли наши войска
город за городом, очень скоро были заняты и Литва, и Латвия, и Эстония, и Бе-
лоруссия, и Украина. Началась блокада Ленинграда, а вскоре враг появился
вблизи Москвы. Где-то в первой декаде октября в сводке появилось сообщение,
что "положение на фронте осложнилось". Мы не жаловались друг другу, ни на
кого не сваливали вину за это поражение, но каждый чувствовал: настает крити-
ческое время. Пришла зима 1941-1942 гг. Сообщения стали скупыми. Локальное
контрнаступление под Ельней прошло как-то незаметно и не взбодрило нас. Все
думали: "Неужели конец?" - и не могли поверить этому.
В то время приезжала ко мне с сестрой мать, и я поделился с ней своим
намерением уйти с завода на фронт. Мама было стала уговаривать меня не де-
лать этого, но после моих слов: "Нам с немцами не жить!" - сказала: "Так-то оно
так, но все же..." - и замолчала.
Но вот однажды в морозный день - а зима была суровая, - направляясь
пешком утром на работу (трамваи не ходили), я встретил своего товарища, иду-
щего навстречу мне в город после ночной смены. Он меня остановил и радостно
сообщил: "Немцы разбиты под Москвой!". И рассказал некоторые подробности.
Настроение у меня поднялось. На работе не нашлось возможности прослушать
очередную сводку, зато после работы, в общежитии, когда в очередной раз заго-
ворил Левитан, я залез на кровать и приникнул к репродуктору, чтобы не пропу-
стить ни одного слова. И в ближайшие дни все новые сообщения успокаивали
душу. Именно в это время я стал ходить почти ежедневно в университетскую
библиотеку. Там на стене была вывешена громадная карта Советского Союза, и
флажками на иголочках отмечалась линия фронта.
Но наступление наше закончилось. Надеялись, что оно возобновится, но
надежды не оправдались. Подошло лето 1942 года, и начался настоящий кошмар.
Нашествие немцев на Сталинград. Враг рвался к Волге, и вскоре бои переросли в
сражение за город. До нас помимо сводок доходили слухи о том, что жители не
выдерживали немецких бомбардировок и сходили с ума. Мы сами безмерно
удивлялись стойкости наших бойцов и подчас с ужасом ждали, что Сталинград
падет. А немцы были уже и в Крыму, и на Кавказе.
Но вот в один из прекрасных зимних дней Левитан торжественно объявил,
что в районе Сталинграда окружена 330-тысячная группировка немцев. Это было
поразительно! И снова началось наше контрнаступление. Немецкие армии стали
отходить от Сталинграда, все силы бросив на прорыв окружения. Позже немцы
покатились и с Кавказа. Вторично Ростов-на-Дону перешел к нам в руки. И все
мы вздохнули с облегчением, когда Левитан сообщил о разгроме под Котельни-
ковом немецких соединений, которые пытались выйти к своим.
И вновь продвижение советских войск было приостановлено. Наступило
длительное затишье. Происходили лишь незначительные стычки. Все ждали,
что будет. Неужели и в этом году немцы возьмут реванш и смогут возобновить
наступление?
Но вот разразилась Курская битва. Уже из первых сводок стало ясно, что
дела на фронте поворачиваются не так, как в прошедшие два года. В каждом со-
общении говорилось о сбитых 100-150 самолетах. Ранее ничего подобного не
было. Постоянная битва в воздухе, теперь наши всегда успешно противостояли
немцам. Враг был отбит, и летом мы впервые стали наступать по всему фронту.
Советскими войсками были заняты Орел и Белгород. По этому случаю по
приказу Верховного Главнокомандующего прозвучал первый артиллерийский
салют. Я в этот час отдыхал после смены в Верхне-Ленинском садике Казани. С
каким воодушевлением слушали по радио казанцы этот салют! В каком все они
были восторге! Не могу вспомнить более мощных волнующих переломных мо-
ментов, чем битва под Москвой, разгром немцев под Сталинградом и начало
наступления под Курском. Не забыть первый победный салют в честь взятия Ор-
ла и Белгорода. В дальнейшем ходе войны такой подъем чувств вызвали разве
что прорыв блокады Ленинграда, форсирование Днепра и освобождение Киева.
А далее наши войска вошли в зарубежные страны, и уже запомнились
штурм Кенигсберга, упорная битва за Будапешт и взятие Варшавы. Затем была
перейдена граница Германии. "Пух и перья вьются над дорогами Германии... "
- писал в то время в "Правде" Илья Эренбург. Но его вскоре одернули. И.В. Ста-
лин заявил: "Гитлеры приходят и уходят, но народ немецкий, государство
немецкое остается...". В 1944 году, наконец-то, открылся второй фронт, но это
на фоне нашего наступления осталось как-то не особенно заметным.
А вот начало Берлинской операции всех нас воодушевило. 1 мая 1945 года
наши овладели Берлином, над рейхстагом взвилось советское знамя. Мы не-
сколько даже недоумевали: "Как так? Берлин пал, а Германия еще не капитули-
ровала". Но вот пришла весть и о полной победе. Услышали об этом из репро-
дукторов ночью с 8 на 9 мая. Я был в это время в ночной смене. Рабочие ушли
обедать. И вдруг прибегают и кричат: "Кончай работать! Победа! Сегодня празд-
ничный день!". Скоро пришла команда и от администрации прекратить работу и
идти торжественно отмечать великое событие. Быстро привели в порядок станки,
сдали все оборудование главному механику Борису Александровичу Чевеко.
(Позже я с ним встречался, когда он приезжал к нам на Урал опробовать первую
серию жидкостных реактивных двигателей. Он был уже директором завода, а я
начальником испытательного отдела.)
Чуть-чуть светало, когда я добрался до нашего общежития мастеров. Там
меня уже ждали. Откуда-то появился спирт, соленые огурцы, квашеная капуста
(невозможная по тем временам роскошь). Провозгласили тосты, умеренно выпи-
ли и отправились в центр города. Вся улица Баумана была запружена толпой ли-
кующих людей. И они по праву могли гордиться. Ведь это и их руками прибли-
жалась Победа!
Позже, когда уже чуть ли не в каждом доме появилось телевидение, я
смотрел, как пленные немцы проходили по улицам Москвы, а за ними шли поли-
вальные машины и смывали их следы, и парад Победы на Красной площади, ко-
гда к Мавзолею Ленина бросали бессчетное количество немецких знамен и
штандартов.
На этом эпическом фоне вряд ли заслуживают большого внимания наши
личные, обыденные дела. Но все же упомяну о некоторых из них. Об оборудова-
нии, на котором мы работали, я уже немного писал. На станках "Мааги", швей-
царских, выполняли шлифовку методом обкатки, с высокой точностью. На аме-
риканских и английских "Орнут" и "Гиргрейдинг" очень точно обрабатывали
зубья профильно заточенным камнем. Шаг отшлифованной шестерни должен
был отличаться от идеального не более чем на 8-10 мкм. Особенно хороши были
в этом отношении станки "Мааги". "Спарка" ведущих шестерен двигателя была
возложена на мастеров. Уточнять, что такое эта операция не имеет смысла, так
как это уже глубоко механические сведения.
В каждой смене было человек по пятнадцать рабочих-зубошлифовщиков
различной квалификации. В моей работал Костя Варфоломеев, здоровый, высо-
кий парень. Было любо смотреть, как он управлялся с установкой и шлифовкой
большой редукторной шестерни (модуль числа зубьев Z = 44). Вот Николай Оси-
пов, застенчивый, стройный. Этот отлично шлифовал малую редукторную ше-
стерню (Z = 26). Петр Долгов, коренастый паренек, молчаливый, очень добросо-
вестный. Петр Галактионов, долговязый, неразговорчивый парень, отшлифовы-
вал приводы. Джин Верн выполнял предварительную обработку на "Гиргрейдин-
ге", рассудительный, умный человек. Иван Логинов, безалаберный мужчина, ча-
сто делал брак. Ходили слухи, что он ставленник МГБ. Однажды уснул перед
электрической печкой, во сне упал и схватился за электрическую спираль, после
чего долго болел. Иван Шиликов и Александр Волостанхин работали на "Гир-
грейдингах", очень похожие друг на друга, деревенские в недалеком прошлом
парни. Волостанхин отличался тем, что при отменном здоровье всегда имел по-
вышенную до 37,2-37,3 градуса температуру. Мусеев, не особенно грамотный
татарин. Ему обычно поручали малоквалифицированную работу. Александр Ко-
валев из Орла (что под Ленинградом), детдомовец, здоровый паренек, золотые
руки, работал мастерски на "Орнутах". Дважды арестовывался милицией за кра-
жу в общежитии. Первый раз его удалось отстоять (он украл партию одеял) и
оставить на работе, второй раз взять на поруки не удалось.
Работали женщины, девушки и даже девочки. Маша Иванова, всегда при-
ветливая, улыбчивая. Тася, малоквалифицированная работница. Роза Вахитова,
тихая, безответная симпатичная татарочка. Валентина Кирцикина и Надежда Ку-
рочкина, еще несовершеннолетние, а последняя совсем еще молодая девчонка
(она, как и Ковалев, была эвакуирована из детдома в Орле, что под Ленингра-
дом).
Вторым сменным мастером у нас был Василий Иванович Гришин, худой,
тихий молодой человек из Воронежа. Если моя смена состояла в основном из
жителей Казани, кроме Ковалева, Галактионова, Кирцикиной и Курочкиной, то
его смена состояла из воронежцев. Помню лишь двух из них, Ивлиева и Волосо-
вина.
В моей смене в различное время также трудился Иван Стежкин, немного
безалаберный парень. Где-то в самом начале войны он заявил мне, что завтра
пойдет на базар, попадет в облаву, документов не предъявит (было категориче-
ски запрещено брать в армию работников завода) и станет бойцом. И на самом
деле он больше на заводе не появлялся.
Одно время были мобилизованы неработающие женщины и девушки. Ко
мне попала одна бывшая учительница. Чем-то она провинилась, и Федор Кузь-
мич так на нее накричал, что под ней быстро выросло мокрое пятно. Более на ра-
боте ее не видели. Другая, Лариса Першина, очень симпатичная девушка. Не
помню, по какому случаю, но она уволилась, проработав в группе с год.
Однажды перевели мне откуда-то из другого цеха молодую, разбитную ев-
рейку. Не помню ни имени ее, ни фамилии. Она сразу стала нагло игнорировать
рабочий режим. Я ее редко загружал: слишком уж часто эта работница делала
брак. Тогда она становилась возле кого-нибудь и начинала рассказывать вуль-
гарные и сальные анекдоты. Не оставила в покое и меня: подойдет во время ра-
боты и "травит" непристойности. "Доверительно" называла меня "Бобочкой".
И вот случился серьезный инцидент. Эта станочница нарушила технологи-
ческий процесс. Я официально отстранил ее от работы. Тогда она схватила мас-
ленку и облила меня маслом. Тут что-то сорвалось внутри меня, и я, хотя всегда
старался не выходить из равновесия, не выдержал, повалил ее на пол, нанес ей
несколько ударов и лишь после того опомнился. Она продолжала нарушать дис-
циплину. Тогда я вызвал по телефону охранника и удалил ее с завода (мастерам
было дано такое право).
Нарушительница тут же пошла жаловаться на меня дежурному по заводу.
В эту ночь это была замдиректора по кадрам Малова. Вскоре, уже под утро, ко
мне пришел дежуривший по цеху Труфанов и показал мне записку от нее: "Раз-
беритесь с фактом избиения мастером Кудряшовым работницы такой-то". И по-
том предложил мне задержаться после смены до прихода начальства. Но едва я
сдал смену, в смятении чувств, как ушел с завода в общежитие, для того чтобы
привести себя в порядок.
Когда я вечером вернулся на завод, на доске приказов уже висело распо-
ряжение начальника цеха: "За учинение драки с мастером Кудряшовым Б.А. зу-
бошлифовальщицу такую-то перевести в уборщицы". Оказалось, что в процессе
разбирательства факта этого "избиения" выяснилось, что эту еврейку и перевели
ко мне лишь потому, что она так же безобразно вела себя и на прежнем месте ра-
боты. Позже ее поставили контролером в одну из кабин проходной завода. И как
раз мой пропуск оказался у нее. И не однажды, когда я получал его, она проде-
лывала одну и ту же манипуляцию: сделает вид, будто выдает мне пропуск, а са-
ма в последний момент отдергивает руку. А после она и совсем исчезла с глаз.
Незадолго до конца войны появился у меня в группе сын одного из
начальников цехов Михаил Кутузов. Мать его работала в заводской столовой, и
он щедро снабжал нас талонами на обед. Но вскоре, побуждаемый каким-то по-
движническим чувством, ушел в армию. И прошло совсем немного времени, как
к нам в группу пришел его отец и со слезами на глазах сообщил о гибели сына.
Это, пожалуй, все, что я могу вспомнить и сообщить о своих подчиненных
на работе. Разве что добавить, что в один из дней, когда у нас была пересменка, я
и Гришин были приглашены то ли Шиликовым, то ли Волостанхиным к ним в
деревню на какую-то свадьбу. Мы пошли. Добирались пешком.
Помню лишь, что его сестра оказалась незамужней молоденькой учитель-
ницей - отсюда стала ясна и цель нашего приглашения. Вечер изобиловал (по
тому времени) и водкой, и закусками. После начались танцы. Но мы с Гришиным
оказались плохими кавалерами: танцевать не умели. А на вечере, к нашему удив-
лению, оказалась немало молодых людей, штатских и военных, очевидно, ране-
ных, с орденами и медалями на груди. Ночевали на полу в горнице избы. Я
проснулся довольно рано, так как прямо по нам скакали молоденькие беленькие
симпатичные козлята.
Теперь нужно описать цеховых и заводских руководителей. Начальник це-
ха Боев на каждодневных утренних оперативках, по словам очевидцев, основа-
тельно распекал начальников групп. Особенно доставалось Цыганкову из группы
сборки шестерен (в ней как-то организовали тогда модную поточную линию и
ввели туда "Орнут", станок не очень чувствительный к изменению температуры,
а также "Мааги"). Передавали, в частности, следующий "обмен любезностями"
между Боевым и Цыганковым. "Не знаю, чем только забита твоя голова, не иначе
как г..." - обращается к нему начальник цеха. "Все равно моя голова тяжелее,
чем твоя", - парирует тот.
Одно время Цыганкова сняли и вместо него назначили меня. Но вскоре в
цехе начались новые преобразования - укрупнение участков. Руководить одним
из них предложили было мне, но я категорически отказался, потому что уже до-
статочно вкусил прелестей начальствования группой, чтобы желать дальнейшего
служебного роста. Вскоре после начала моего руководства группой была прове-
дена ревизия, и обнаружилась большая недостача заготовок. Хотя было ясно, что
она образовалась еще до меня, их стоимость вычли из моей зарплаты.
Как раз в год моего начальствования цех выполнил и перевыполнил план.
Помню, в ночь на 1 января (кажется, 1944 года) ко мне в помещение сборки ре-
дукторных шестерен зашел начальник цеха и вопросил: "А почему начальник
группы не пьян?". Но мне было не до пьянства. Склады сборочного цеха к этому
времени были забиты редукторными шестернями, и чуть ли не месячная их вы-
работка была оставлена в группе на ответственное хранение. Но об этом словно
забыли, и в дальнейшем, когда выполнение месячного плана срывалось, недо-
стачу дополняли из "сэкономленного" запаса. Я понимал, чем такое может гро-
зить в случае разоблачения, и предпочел отмежеваться. Кроме этого, меня заде-
вали и карикатуры, часто появлявшиеся в цеховой стенгазете. То я был изобра-
жен ехавшим на осле задом наперед, то еще что-то.
Были и другие печальные моменты моего пребывания на должности
начальника группы. Так, у одной из работниц, не надевшей на голову повязку и
склонившейся к двигателю станка, маховик передачи захватил волосы, намотал
их на себя и в полном смысле снял скальп. Правда, нечто подобное произошло у
нас ранее и в зубошлифовальной группе. Из станка "Мааги" выступал хорошо
отшлифованный маховичок. Обычно он использовался для того, чтобы перевести
станок в другое рабочее положение вручную. Вообще, он был совершенно без-
обиден. Но однажды к нему подошла девушка-контролер (не помню уже ее фа-
милии). Видимо, у нее оказалось очень шершавое платье. Маховичок захватил
платье, быстро намотал его на себя, и платье разорвалось как раз в талии. Как
сейчас, вижу эту девушку, стоящую в растерянности около станка в оторванном
по талии платье и в красных трусиках. Трубачев, тогда он еще работал, не расте-
рялся и, сняв свой халат, набросил его на незадачливую работницу. Но она так
близко приняла к сердцу это "полураздевание" станком, что через несколько
дней перевелась в другой цех.
И я вернулся в свою зубошлифовальную группу уже мастером по подго-
товке производства, которого долгое время в группе не было, а не сменным.
Особенной колоритностью и оригинальностью отличался первый замести-
тель начальника цеха Вячеслав Загребельный (позже он стал главным инженером
завода). Здоровенный, долговязый верзила, он прославился тем, что вызывал по
вечерам провинившихся мастеров к себе в кабинет и избивал их. Я сам однажды
из приемной начальника цеха подслушал, как происходило это наказание.
Однажды в ночь, когда была моя смена, а дежурным по цеху был Загре-
бельный, я в чем-то не угодил ему, и он походя бросил: "Вот двину тебя по фи-
зиономии, тогда будешь знать!". Я, конечно, ни по росту, ни по физической силе
не шел ни в какое сравнение с ним, но в запальчивости ответил: "Только попро-
буй!". Загребельный остановился, пристально поглядел на меня, как бы примеря-
ясь, как лучше меня двинуть, по-видимому, раздумал, с презрением плюнул в
сторону и пошел дальше.
До Боева начальником цеха был Губаревский, он и установил жестокие по-
рядки в цехе. Позже он попал под машину и был изуродован, а заведенный им
порядок сохранился. Уже позже, когда я ушел с этого места работы, в городской
или в республиканской газете появилась статья под заголовком: "Кулачная дис-
циплина в цехе". Было судебное разбирательство, но не знаю, чем оно кончилось.
С объединением заводов 27-го и 16-го директором единого завода № 16
был назначен Сухоруков. Несколько месяцев завод не выполнял план, за что ди-
ректор был снят и отправлен на фронт, кажется, в штрафной батальон. Но, как
мне известно, он не был убит на войне.
После него руководить заводом пришел Макар Михайлович Лукин, буду-
щий министр авиационной промышленности. В то время директора имели звание
генералов и почти неограниченные полномочия. Рассказывали случай, как Лу-
кин, проходя с ревизией по цехам, остановился около одного квалифицированно-
го рабочего, шлифовальщика шеек коленвала, и стал делать ему какие-то заме-
чания. Рабочий слушать не стал, а лишь бросил: "Пошел ты, знаешь куда..." - и
пустил директора матом. И тот ничего не ответил на это, а пошел далее.
Уже после войны, где-то в году 1958-м или около этого, я был в Москве,
возвращаясь из командировки с Урала, и увидел Колонный зал Дома союзов в
траурных лентах и в нем тело нашего бывшего директора Макара Михайловича
Лукина. И я зашел, чтобы проститься с ним и выразить мое уважение.
Еще несколько слов о нашем начальнике группы Федоре Кузьмиче Колес-
никове. Говорил он отрывисто, хриплым, осипшим голосом. После того как ушел
Мигун, Трубачев и мастер по подготовке производства, начал наседать Колесни-
ков и на меня. Но и я уже имел на него зуб.
Я заметил, что своим "воронежцам" он дает дополнительные талоны на
хлеб, и однажды, не помню, с чего это началось, мы с ним схватились. И я, дол-
жен сказать, проявил свой характер, который приобрел еще раньше на парохо-
дах, резкий, непримиримый, и в выражениях был беспощаден. Стычка происхо-
дила в разгаре моей смены прямо на виду рабочих. И что же? Это повлияло. С
тех пор мы стали если и не друзьями, то находили всегда взаимопонимание. Те-
перь он всегда обращался ко мне достаточно уважительно и не позволил себе бо-
лее выступить против меня, насколько помню, ни разу. И приказания отдавал как
бы в виде просьб. Я и сам придерживался такого же порядка в обращении со
своими подчиненными: "Прошу Вас..." - и далее следовало распоряжение, а по
форме просьба.
И еще об одном. На завод был эвакуирован детдом из г. Орла, Ленинград-
ской области. Его воспитанники были практически во всех группах цеха. Жить,
конечно, они не умели. Хотя работали и зарабатывали неплохо. Например, тот
же Ковалев получал до трех тысяч и более рублей, в то время как я, мастер, око-
ло одной. Всю норму хлеба за месяц многие бывшие детдомовцы съедали уже в
первую декаду, а после ходили и побирались. Один из них в нашей цеховой сто-
ловой облизывал все тарелки, после того как из них покушали. Наиболее злост-
ным расточителям карточки выдавались только на декаду, а иногда даже только
талоны на следующий день.
Они попадали на завод и выходили из него помимо проходной, по каким-
то подземным канализационным ходам. Некоторые жили в "термичке" (термиче-
ском цехе) в какой-то яме. Иногда не выходили на работу. Особенно прослави-
лась этим девушка по фамилии Маноха. Над ней (несовершеннолетней) был
устроен в цехе показательный суд, и ее осудили и куда-то сослали (надеюсь, что
не уничтожили).
И вот с этим детдомом произошел удивительный случай. На завод в один
прекрасный день пожаловал министр снабжения Англии Гамильтон (кажется, не
ошибаюсь в его фамилии). Перед его приездом последовала команда удалить на
время с завода всех детдомовцев. Их разыскали с охраной и удалили. Но они по
своим подземным ходам возвратились на завод и во время прохождения по це-
хам делегации ради любопытства где-то собрались, в своей рваной одежде, не-
мытые и грязные, и в таком виде предстали перед высокопоставленными гостя-
ми. Вот был-то срам!..
В нашей группе они также побывали, и тоже произошел курьезный случай,
правда, в смене Гришина. Накануне прибытия делегации была дана команда по-
красить все тумбочки столов. Но я в свою смену этого сделать не успел. Выпол-
нила распоряжение уже новая смена непосредственно перед появлением гостей.
С ними, как мне рассказывали, посетил нашу группу директор. Он подошел к
Волосовину, обнял его и сказал: "Вот мой кадровый рабочий!". Действительно,
тот был квалифицированным специалистом, работал зубошлифовальщиком на
"Орнуте", где особенно нужен был высокий класс и сноровка. Да и внешним ви-
дом он отличался: всегда подтянутый, высокий, здоровый, под стать Варфоломе-
еву. В это время кто-то подошел к одному из верстаков и взял в руки отвертку.
Отвертка была самодельная, просто заточенный кусок проволоки с загнутым
концом вместо ручки. Взял, оглядел со всех сторон и положил. А одна из жен-
щин (они входили в свиту министра) случайно прислонилась к тумбочке, только
утром покрашенной. Так у нее и остались полосы краски на спине.
Кстати, еще о детдомовцах. Они ходили оборванные не потому, что их
плохо одевали. Раз или два в месяц они все направлялись в санпропускник и, ко-
гда приходили из него и собирались около кабинета начальника цеха (это было в
так называемой зоне расширения - цех был просторный, и часть его не была за-
полнена оборудованием), им предлагали одеть все новое, в том числе телогрейки
и штаны, а всю старую одежду тут же сжигали. Но уже через несколько дней они
все с себя продавали, покупали где-то старое и вновь становились оборванцами.
Когда я работал начальником группы, был у меня один из этой категории.
Выполнял он элементарную работу - снимал фортункой (шлифовальный камень
небольшого размера, насаженный на ось ручного электропривода) заусенцы с
зубьев шестерен. Звали его почему-то Коля-Ваня. Хватишься, бывало, его ночью,
а его нет как нет, хотя шестеренок скопилось уже немало. Вот и отправляешься в
термичку, которая называлась у нас "теплицей". Ходишь от печи к печи (а у
каждой из них по два-три человека сидят, и так, пригревшись, спят десятки этих
ребятишек) и при печном свете разыскиваешь своего Колю-Ваню. Найдешь, раз-
будишь и гонишь на работу.
Кстати, он однажды появился с медалью, латунной, большого размера. На
одной стороне была выгравирована бутылка водки и закуска, а на другой
надпись: "За оборону Ташкента". Колю-Ваню изловили, и медаль у него отобра-
ли. Но вскоре на его груди появилась настоящая медаль "За отвагу". Отобрали у
него и эту.
Но вот, как я уже писал, пришла и на нашу улицу Победа. Завод перешел к
работе в одну смену, и все равно загрузка была малой. После обеда мы позволяли
себе пойти и полежать, даже соснуть в траве на заводском дворе. Никто за это не
преследовал. Начали переходить на освоение воздушно-реактивных двигателей,
лодочных подвесных моторов. Вскоре наводнили ими всю страну (конечно, вку-
пе со многими другими заводами).
Был составлен график отпусков. Моя очередь оказалась где-то в конце. А
мне ужасно хотелось поехать к родным. И вот я написал письмо домой, и вскоре
пришла телеграмма, заверенная врачом (им оказалась хорошо знакомая мне
женщина), о плохом состоянии моего здоровья. И меня отпустили. Но еще до
этого я фактически перешел на новую работу.
ПЕРВЫЕ ШАГИ В РАКЕТНОЙ ТЕХНИКЕ
Трудоустройство в "шарашку" по разработке жидкостных реактив-
ных двигателей (ЖРД) в ОКБ-СД. - Первая встреча с В.П. Глушко. - Работа
на испытательной станции ЖРД. - Несчастный случай на стенде
Но все по порядку. Еще шла война. На нашем заводе действовало ОКБ, в
котором работали две группы заключенных конструкторов. Одна разрабатывала
воздушно-реактивный двигатель (ВРД), а другая жидкостный (ЖРД). Я уже пи-
сал выше, что, будучи фантазером от природы, я мечтал о межпланетных путе-
шествиях. Были эти мечты весьма отвлеченными, пока я не прочитал две книги, а
именно: "Полет в межпланетное пространство как техническая возможность"
Вилли Бранда и, особенно, "Топливо для жидкостных реактивных двигателей"
В.П. Глушко.
И вот в конце войны один из заключенных, Николай Сергеевич Шнякин,
начал интересоваться моими планами на послевоенное время. Вот от него я
неожиданно и узнал, что В.П. Глушко в качестве главного конструктора жид-
костных реактивных двигателей и работает, в числе таких же осужденных, в осо-
бом КБ у нас на заводе.
Нужно сказать, что эти конструкторы ходили по заводу с так называемыми
"свечками", то есть в сопровождении конвоиров, которые обычно шли шагах в
двадцати сзади. А жидкостный реактивный двигатель, да и другого типа, содер-
жал много шестеренок. В частности, ЖРД Глушко имел шестеренчатый насос,
который приводился в движение от обычного двигателя внутреннего сгорания, и
спаренные двойные на одной оси шестерни насоса подавали в двигатель топли-
во: азотную кислоту (в качестве окислителя) и керосин (горючее).
Кроме того, подчас приходилось шлифовать эти детали и для конструкто-
ров-заключенных. В ночное время, когда начальства нет, быстро перестраиваешь
один из станков "Мааги", который в это время не загружен, а ждет подачи "ле-
вых" шестерен, в темпе прошлифуешь, а к утру станок налаживаешь на плано-
вую работу. За это обычное вознаграждение - сто рублей, которые позже полу-
чаешь в особой кассе для заключенных на заводе 22 (бывший 124).
А иногда у какой-нибудь шестерни, стоящей на станке, и на которой вдруг
выявлен дефект, скапливались несколько специалистов со "свечками". Чаще все-
го к нам приходили Михаил Александрович Колосов (позже он был освобожден
и назначен главным конструктором на какой-то завод в Ленинграде), Георгий
Николаевич Лист (бывший главный инженер одного из заводов в Горьком). Этот
последний изобрел какую-то гиперболоидную передачу, и мы вместе пытались
ее прошлифовать на "Мааги". Но ничего не получилось: поверхности зуба при-
жигались, поскольку приходилось шлифовать без обкатки.
Г.Н. Лист был седой долговязый мужчина. Очень часто этот инженер "по-
домашнему" располагался у нас в группе: снимал шинель, просил подключить
шланг от пылесоса, который как непременная принадлежность входил в кон-
струкцию станка "Мааги", и принимался ее чистить. Еще он привлекал наше
внимание тем, что частенько приносил в кармане сахар и кормил им приблудив-
шуюся к нашей группе собачонку. И это в то время, когда мы давно уже отвыкли
от этой пищи!
Вскоре я узнал, где расположена на заводе лаборатория жидкостных реак-
тивных двигателей. Оказалось, в пристройке цеха 30 для испытания обычных
поршневых моторов. Я отправился туда, нашел начальника Константина Адамо-
вича Рудзкого (одного из авторов книги "Авиационные двигатели", по которой
мы их изучали), объяснил, где работаю, сказал, что очень хочу заниматься жид-
костными двигателями, и попросил разрешения приходить после смены (ведь мы
перешли на восьмичасовой рабочий день) в лабораторию и помогать штатному
персоналу испытательной станции. Мне позволили, и каждый день, кончив рабо-
ту в своей группе, я шел к этим конструкторам.
Но вскоре это оказалось мне не под силу. Я стал очень уставать. Тогда я
решил перейти на постоянную работу в ОКБ двигателей. Подал начальнику цеха
пространное заявление. Конечно, меня без особого ущерба могли отпустить из
зубошлифовальной группы, тем более с моей должности мастера по подготовке
производства. Но мне отказали под тем предлогом, что и на основном производ-
стве намечается переход на выпуск реактивных двигателей. Но делать собира-
лись воздушные, а это далеко не то, что жидкостные, которые только и можно
применить в межпланетном полете.
Тогда вот я и ушел в отпуск по фиктивной справке. А был в то время такой
закон, разрешающий без согласия администрации покидать завод для обучения в
институте. И чтобы обеспечить себе поступление в ОКБ-СД (так называлась эта
организация), я подал заявление в Казанский авиационный институт для оконча-
ния учебы. Был зачислен всего лишь на третий курс. Около трех месяцев я про-
учился в КАИ. Это время вспоминается мне, как дурной сон. Я оказался старше
своих однокурсников лет на восемь. А тут еще в начале третьего курса была
назначена военная практика. Затем всех нас приказным порядком отправили на
барже в один из колхозов на уборку урожая. Вначале администрация обещала
нас вернуть в институт, если мы завершим сенокос на одном из островов посреди
Волги, но не тут то было. Нас после этой работы перевезли на материк и заста-
вили убирать уже покрытую первым снегом свеклу. А после того как мы выпол-
нили и это задание, нас пытались использовать еще и в других местах.
И мы всем курсом забастовали. Перестали выходить на работу. Срочно
прилетело из Казани наше начальство с военной кафедры. И вот, когда после
обеда (от питания нас не пытались отлучить) мы все лежали в каком-то зале,
вдруг раздалось властное: "Встать!". Мы открыли глаза, вгляделись. Наверху при
входе в помещение (туда нужно было спускаться по лестнице) стояла группа лю-
дей в военной форме, и пытался нами командовать заведующий кафедрой. Ни
один человек не встал, все продолжали лежать, притворившись спящими. Ничего
не добившись, военные удалились. И через пару дней всех нас, опять же баржой,
вывезли в Казань. Скандал был так велик, что его замяли. А наш курс, на кото-
ром оказался бывший фронтовик (он и организовал нас всех), вдобавок к про-
шедшей забастовке провалил комсорга на выборах. Фронтовик через некоторое
время исчез. Боюсь, что его репрессировали.
Скоро стало понятно, что жить на одну стипендию невозможно. Тогда, за-
ручившись обещанием, что меня примут в ОКБ-СД, я перевелся на вечернее от-
деление института и вновь вернулся на завод, но уже в это конструкторское бю-
ро. Зачислить меня обещал Доминик Доминикович Севрук, читавший в то время
лекции по топливам ЖРД в Казанском авиационном институте. Однако против
моего поступления возражал начальник лаборатории К.А. Рудзкий на основании
того, что я перестал у них работать. А ведь официально меня с ними ничто не
связывало. Но Д.Д. Севрук был начальником научно-исследовательских лабора-
торий (НИЛ), в том числе и К.А. Рудзкого, и его голос оказался решающим.
Назначили меня всего-навсего техником. По сравнению с прежней работой
на заводе я потерял 400 рублей. Нужно отметить, что в первый мой приход в
ОКБ-СД в лаборатории находился и Валентин Петрович Глушко, который и ре-
шал мою судьбу. Он спросил меня: "Где Вы желаете работать: в конструктор-
ском отделе, на испытательной станции или на производстве?". Я однозначно
стремился на станцию, так как меня очаровало испытание двигателя, при кото-
ром из него с большим грохотом изливается поток огня. Возможно, я поступил
опрометчиво, ведь имел склонность к вычислениям. А начальником расчетной
группы был у него Николай Алексеевич Желтухин, и он со своими сотрудниками
разрабатывал, в частности, методы сравнения эффективности топлив.
Позже я нашел принципиальную ошибку в одной методике, применив ко-
торую В.П. Глушко сделал совершенно неправильный вывод, что "водород как
топливо для жидкостных двигателей абсолютно не имеет никакого будущего". И
позже мною был разработан совсем иной способ оценки топлив. На эту тему я
даже выполнил, но не защитил, диссертационную работу, а ее два экземпляра -
один в Казанском авиационном институте, а другой во ВНИИкриогенмаше - бы-
ли, к сожалению, уничтожены за истечением срока хранения секретных доку-
ментов. Если бы я пошел в конструкторский отдел и попал в расчетную группу,
то моя судьба, возможно, сложилась бы иначе, более благоприятно.
Я с энтузиазмом принялся за работу. Вначале мне поручили оформлять
протоколы по пуску ЖРД РД-IV-3. Кроме того, имея связь с инструментальным
складом завода (еще в должности мастера), я обеспечивал испытательную стан-
цию кое-каким инструментом. И конечно, участвовал в подготовке к испытанию
двигателей.
Вспоминаю два важных случая за этот период. Помню, как впервые был
поставлен на испытания двухкамерный двигатель РД-2 тягой 600 кгс. На стенде
присутствовал Д.Д. Севрук с группой студентов из КАИ. Обращаясь к ним, он
изрек: "Вы присутствуете при рождении нового двигателя!". Прозвучали сигна-
лы. Пуск - и новинка разлетелась на части.
И еще. Я подписывал все протоколы в качестве исполнителя. Это не по-
нравилось инженеру М.Я. Полонскому, моему начальнику. И он заявил мне:
"Что это Вы подписываете протоколы. Еще их подписала бы Фая" (наша убор-
щица). И вскоре мы вошли с ним в конфликт. И опять М.Я. Полонский отнесся
ко мне весьма высокомерно. Он сказал: "Мы с тобой, Борис, не сработаемся! Так
что давай увольняйся!". На что я ему парировал: "Если ты считаешь, что мы не
сработаемся, то давай ты увольняйся, а я не собираюсь". Он пожаловался Д.Д.
Севруку. Последний вызвал меня к себе в кабинет, расспросил, в чем наши раз-
ногласия, попросил повторить, что я ответил М.Я. Полонскому, и, улыбнувшись,
оставил его жалобу без последствий.
Вскоре нам двоим приказали испытывать исследовательский двигатель РД-
50 с камерой сгорания, рассчитанной на 50-килограммовую тягу. Стенд для этого
построили по указанию М.Я. Полонского без соблюдения правил техники без-
опасности. Пульт управления установили в помещении, из которого можно было
попасть к испытуемой камере не прямо, а лишь через проходную комнату. Ви-
деть двигатель из пультовой было невозможно. С моим начальником, который
наблюдал за работой камеры, связывались лишь сигналами.
И вот в одно утро мы пришли на стенд. М.Я. Полонский разделся, остался
только в одной майке. Носки снял, постирал и повесил сушить. Подробности
случившейся далее трагедии я восстановить не в состоянии. Он дал мне сигнал
включить двигатель, который работал на азотной кислоте и карбиноле (две жид-
кости, при контакте самовоспламеняющиеся). Я запустил его и отработал поло-
женный срок.
А тем временем произошли страшные события. При пуске загорелся про-
литый на стенде карбинол. Пламя перекинулось на стоящий неподалеку резерву-
ар с этим горючим. И М.Я. Полонский очутился между двух огней. С одной сто-
роны работал двигатель, с другой горел карбинол в сосуде. Когда я закончил ис-
пытание и выскочил на огневой двор, мой начальник уже получил ожоги боль-
шой поверхности кожи. Обгорели ступни ног, голые руки и лицо. Ему оказали
первую помощь в лаборатории и отправили в больницу, где он вынужден был
провести довольно длительное время. Несколько раз навещал его и я, и другие
сотрудники. К этому времени я женился.
1946 г., ГЕРМАНИЯ. КОМАНДИРОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
НЕМЕЦКИХ РАКЕТ
Перед отъездом. В столице. - Перелет в Германию, первые дни на
немецкой территории. - Впечатления. Берлин, Лейпциг в развалинах. - Ис-
пытательная станция в селении Шмидебах. - Стенды, оборудование. -
Начало работы. - Снабжение продовольствием и промтоварами. - Чрезвы-
чайные происшествия. - Первые встречи с С.П. Королевым. - Освоение
немецкой ракетной техники. - Международные осложнения из-за наших
стендовых пусков. - Последние работы, демонтаж стендов. - Попытка ди-
версии. - Операция по вывозу немецких специалистов. - Вечер самодеятель-
ности в немецкой школе. - С эшелоном ракет и оборудования на Родину.
Путь через Германию и Польшу
В это же время начали формировать бригаду для освоения непосредственно
в советской оккупационной зоне Германии немецкой ракетной техники. Мы уже
знали, что двигатель, сконструированный немцами и примененный на так называ-
емой ракете Фау-2 при обстреле Лондона, имеет тягу в 25 тонн-сил. Это впечат-
ляло при сравнении с нашими РД-1 и РД-2 с тягой 300 и 600 кгс. Добился вклю-
чения в эту группу и я. И вот где-то в августе 1946 года мы выехали из Казани в
Москву. От нашей лаборатории, кроме меня, были Георгий Васильевич Лисеев
(наш старший) и Николай Николаевич Светушков.
Из последних дней перед отъездом память сохранила только два эпизода.
Во-первых, мальчишник командированных, на который мы все собрались у Ни-
колая Сергеевича Шнякина. Пили, вели всякие разговоры, спорили, пели. Во-
вторых, поздний вечер перед отправлением, когда мы с Г. В. Лисеевым, опазды-
вая (куда, сейчас мне никак не вспомнить), мотались на его мотоцикле: он за ру-
лем, я за его спиной на багажнике.
В Москву добирались поездом. В пути познакомился ближе с Иваном Ива-
новичем Шершенковым, технологом. С ним мы встречались на заводе еще во
время моей работы в зубошлифовальной группе.
В столице пробыли дней десять. В министерстве заполняли многочислен-
ные анкеты, письменно излагали автобиографии и пр., и пр. Почти всегда в ка-
бинете одного из заместителей министра можно было застать В.П. Глушко, ко-
торый все что-то писал.
Жили мы на квартире у семьи, близко знакомой И.И. Шершенкову. Устро-
ились вчетвером: он, Г.В. Лисеев, Н.Н. Светушков и я. Спали на полу на каких-
то старых тюфяках и одеялах. Хозяйка, пожилая женщина, при бомбардировке
Москвы потеряла одну кисть и вместо нее носила железный протез-крючок.
Но вот наступил и день отъезда. Нам обменяли паспорта на какие-то крас-
ненькие удостоверения личности и выдали некоторое количество денег в марках.
Ко времени командировки меня вновь произвели в инженеры-экспериментаторы
с окладом 1100 рублей - эти деньги без меня должна была получать Вера, жена, а
в Германии, кроме того, мой заработок составлял, кажется, 2200 марок.
В Германию собирались вылететь из Тушино, как раз с аэродрома того за-
вода, где в 1940 году я проходил технологическую практику по строительству
фанерных пикирующих бомбардировщиков. На этом предприятии, как я знал,
все еще работал мой бывший однокурсник Саша Козлов. Адрес его у меня был, и
я с моим немудреным багажом поехал к Саше. Оказалось, что он - секретарь за-
водской комсомольской организации, и свое "командное" положение не преми-
нул показать: повел меня в столовую для руководства завода, причем не через
проходную, где нужен был пропуск, а через какую-то специальную комнату,
небрежно бросив охране: "Этот товарищ со мной". Вечер и ночь я провел у Коз-
ловых (у него была жена и дочка). Жили они далеко не в привилегированных
условиях: втроем занимали комнату в бараке.
На другой день, кажется, это было 26 августа, рано-рано утром он прово-
дил меня до самолета - тогда для пассажирских перевозок почти повсеместно
использовались американские "Дугласы".
На рассвете взлетели. Остановку, очень кратковременную, сделали в Бре-
сте и под вечер - было еще совсем светло - приземлились на какой-то взлетно-
посадочной полосе близ Берлина. В ожидании автобуса, который должен был нас
отвезти в город, мы обошли летное поле. В некоторых местах стояли какие-то
совсем не аэродромные сооружения: мощные газгольдеры и, похоже, аэродина-
мические трубы. Близко подходить к ним было нельзя: со всех сторон предупре-
ждали плакаты: "Осторожно! Заминировано!". Видимо, аэродром принадлежал
какому-то исследовательскому авиационному институту.
Приехал за нами (а нас было человек 20-25) не автобус, а крытый военный
грузовик. Уже затемно прибыли мы в какой-то район Берлина, не тронутый бом-
бами. Остановились то ли у ресторана, то ли у столовой для военнослужащих
Советской Армии. Там свободных мест не было, и мы должны были обождать.
Вдруг набежали немецкие ребятишки и стали нас куда-то приглашать (наверное,
к каким-нибудь девицам). Нам, конечно, было не до того. Мы боялись немцев и
из грузовика не вылезали. После ужина нас отвезли в гостиницу. Меня с И.И.
Шершенковым поместили в номер, который состоял из спальни с двумя крова-
тями, включал гостиную с письменным столом, креслами, диваном и прочей ме-
белью, имел большую кухню и другие бытовки. Для нас это было совсем не-
обычно. Гостиница находилась где-то в районе Шпрее-Зее - озера на реке
Шпрее. Я выходил на его берег. На улицах было пустынно, но висело много ав-
томатов по продаже сигарет. Не помню уже, работали они или нет.
Следующий день или даже два подряд (сейчас уже не помню) были насы-
щены новыми впечатлениями. С утра, после завтрака, привезли нас в штаб одно-
го из подразделений советской оккупационной армии. Генерал объяснил нам по-
рядок поведения в Германии, особо предупредив, чтобы мы опасались попасть в
оккупационные зоны других держав (США, Англии, Франции). Нам же предсто-
яло поехать в какое-то место, непосредственно примыкающее к территории, ок-
купированной американцами.
Здесь же объявили новость, для всех нас неприятную: нам не присвоят,
как мы надеялись, воинских званий и не выдадут офицерского обмундирования,
как предыдущей группе командированных. Для некоторых из нас, в их числе и
для меня, это было не особенно страшно: я захватил с собой американское кожа-
ное пальто. Но многие, в расчете на то, что их оденут в военную форму, приеха-
ли налегке, в летних старых костюмах, а несколько человек даже просто в ру-
башках. Все неприятности, связанные с этим, проявились очень скоро.
Несколько дней было затрачено на наш инструктаж и на экскурсии по
Берлину. При этом свободно переезжали районы, занятые союзниками. Соб-
ственно говоря, нам пришлось пересекать границу лишь советской и американ-
ской оккупационных зон.
А в первый день пребывания в Германии нас после инструктажа повезли в
центр Берлина. Прокатили, видимо, специально по улицам той части города, ко-
торая наиболее пострадала от бомбардировок. Представьте себе: проезжие части
полностью расчищены, а вокруг с той и с другой стороны не то что нет ни одно-
го целого здания, а просто никаких, и громоздятся горы битого кирпича, покоре-
женных балок, и среди всего этого нет-нет да и встретятся два-три человека,
ищущих чего-то в этих развалинах.
Побывали в самом центре Берлина, у рейхстага. Посмотрели на подписи,
оставленные на его колоннах. Вход в здание был уже закрыт, потому что, как
нам сказали, внутри оно было уже до предела загажено. Около рейхстага были
разбиты уже кем-то огороды, росла картошка. Не раз подходили к нам какие-то
немцы и немки и предлагали купить то часы, то чулки, то какие-то порнографи-
ческие открытки, то еще что-то. Проходили мы и мимо входов в Берлинскую
подземку. Это просто туннели с лестницами, наподобие наших подземных улич-
ных переходов, без каких-либо наружных сооружений.
То ли в этот же день, то ли на другой посетили Берлинский парк отдыха.
Это что-то вроде нашего парка им. Горького. В нем очень многие аттракционы
действовали. Неприятное впечатление осталось от так называемых американских
горок. До войны мне приходилось кататься на таких в Ленинграде. Там все было
сделано солидно, прочно и не вызывало никаких опасений за безопасность. Дух
захватывало лишь от быстроты да неожиданных смен направления пути вагон-
чика: он несся то вверх, то резко вниз. Здесь же все обстояло по-другому. Ат-
тракцион был смонтирован на каких-то легких ажурных фермочках. Все это со-
оружение, в то время когда ты стремительно мчишься в открытом вагончике,
приходит в движение, начинает трястись, вибрировать и раскачиваться. И не-
вольно кажется, что вот-вот ты с большой высоты вместе с вагончиком, а может
быть, и со всей этой неустойчивой конструкцией грохнешься на землю.
Впервые увидел там американского солдата и был свидетелем его обраще-
ния с немцем, обслуживающим аттракцион, схожий с гигантскими шагами. Аме-
риканец качался, а служащий-немец пытался получить с него плату. Многократ-
но американец приближался к служителю и делал вид, что хочет заплатить бу-
мажной купюрой. Но едва тот делал попытку взять деньги, как солдат "улетал"
от него на канате.
Побывали также на берегу Берлинского моря. Осмотрели его замечатель-
ные пляжи, тогда совершенно безлюдные. Вообще же улицы немецкой столицы
в местах, где они не подверглись бомбардировкам, были очень чисты, прибраны.
На них часто попадались автоматы для продажи сигарет, открыток и др.
Дня через три-четыре нас повезли к месту нашей будущей работы куда-то в
Тюрингию. Путь лежал через Потсдам, Галле, Лейпциг, Заафельд. Помню только,
что Лейпциг был разбит, но мы проезжали по его окраинам, где были не так за-
метны разрушения, но на въезде стояло множество каких-то лачуг. То ли это были
временные жилища людей, то ли, может быть, постройки наподобие домиков
наших садовых кооперативов. Вначале нас всех вместе везли на нескольких гру-
зовиках с открытым верхом, а в конце группами разъехались в разные места на
легковых машинах. В Тюрингию, в город Леестен направлялись мы уже только
втроем: Г.В. Лисеев, Н.Н. Светушков и я.
В первый день поездки шел дождь, не особенно сильный, и мне, в кожаном
пальто, он был нипочем. А вот товарищам в костюмах да в рубашках было не
особенно весело. Да и весьма непривлекательной была вся эта картина: русские
оккупанты на открытых машинах прикрываются от дождя газетами и какими-то
мешками. Особенно неприятно мы себя чувствовали, когда проезжали через
населенные пункты и становились объектом многочисленных любопытных
взглядов немцев.
Все дороги в Германии с обеих сторон обсажены ровными рядами фрукто-
вых деревьев: груш, яблонь, слив. Как я узнал позже, вся выручка от продажи
урожая этих посадок предназначается в пользу бедных. Мы же, русские победи-
тели, распоряжались фруктами по-своему. Шофер подгонял машину прямо под
облюбованное дерево. Один или два человека залезали на него, трясли ветви, и
плоды падали в кузов. Действие занимало очень мало времени. Правда, как пра-
вило, оно не оставалось незамеченным, и обычно к нам бежал и махал руками
немец, которому было поручено охранять эти деревья и ухаживать за ними. Но
что он мог поделать с большой компанией, да притом на машине?! Мы быстро
уезжали.
До места назначения добирались два дня. В конце первого остановились
переночевать в какой-то немецкой деревне. Здесь мы стали свидетелями удиви-
тельной сцены. Комендант, наш советский майор с какой-то украинской фамили-
ей (оканчивалась на о), с нагайкой в руке, собрал группу хозяев домов и стал
распределять нас на ночлег. Некоторые пытались возражать, и тогда в ход шла
нагайка. Нигде и никогда я больше этого не встречал, да и читать о таком обра-
щении с немцами не приходилось. Но что я видел собственными глазами, то ви-
дел. Майор и выглядел страшно: лицо у него было основательно, очевидно, во
время войны, изуродовано.
На ночлег нас поместили вместе: Г.В. Лисеева, Н.Н. Светушкова, И.И.
Шершенкова и меня. (Неточность. Выше и далее речь идет только о троих. -
Ред.) Мы впервые ночевали в частном доме. Хозяин, очевидно, довольно зажи-
точный крестьянин (у него было пять или шесть коров, лошади; полы в коровни-
ке, конюшне и на дворе были цементированы, в помещения для скота подведено
электричество), отвел нам довольно большую комнату в своем вместительном
жилище. Ставни, по крайней мере, в нашей комнате были закрыты. Мы, не меш-
кая, заперли и внутреннюю дверь к нам: все-таки для начала принимали меры
против возможного нападения на нас - победивших врагов.
Однако все это было напрасно. Немцы были очень законопослушны. И раз
их страна капитулировала, то они беспрекословно подчинились всем правилам
оккупации. За все время пребывания в Германии нам довелось услышать лишь о
двух случаях применения оружия против наших. Один раз был якобы обстрелян
автомобиль с советскими офицерами. А еще на одной из железнодорожных стан-
ций в поезд с ракетой Фау-2, предназначенной для испытания у нас на станции,
была брошена граната. Но один из русских солдат сумел вовремя ее схватить и
отбросить в сторону. Никто не пострадал.
Вскоре к нам в комнату постучали. Мы с не особой охотой открыли. При-
шел хозяин. Отчасти словами, отчасти жестами стали общаться. Оказывается,
этот немец воевал, дошел с фашистской армией до Москвы, но в это время умер
его отец, и, как единственного сына, его демобилизовали, чтобы он вел роди-
тельское хозяйство. Вот такие были у них порядки. Да, наверное, немцы иначе и
не могли. У них же не было колхозов, где и женщины могли трудиться сами, без
мужчин.
На другое утро мы поехали дальше. Некоторое время следовали по дороге,
пролегающей вдоль низменного берега реки Заале. Миновали и небольшую гид-
роэлектростанцию на ней. Живописнейшие места! Въехали в Тюрингский лес и
пробирались по дорогам, проложенным в горах, сплошь заросших деревьями.
Поздно ночью прибыли к месту нашего назначения, на испытательную
немецкую станцию двигателей ракеты А-4 вблизи деревни Шмидебах, находя-
щейся всего в двух-трех километрах от американской оккупационной зоны.
Устраиваться на постоянное проживание было некогда, и нас на два-три дня по-
местили здесь же в гостиницу для испытателей. Н.Н. Светушкову и Г.В. Лисееву
отвели комнату на двоих. И меня поселили в такой же номер, но вторым посто-
яльцем здесь оказался немец, который в то время еще не пришел.
Нужно признаться, что я оказался не храброго десятка и опасался остаться
на ночь в одной комнате с побежденным врагом. Поэтому заперся и лег спать. Ко-
гда же где-то около полуночи появился мой сосед по комнате и начал стучать в
дверь, я ему не отпер. Он пошумел, поругался по-своему, по-немецки, в коридоре
и отправился спать куда-то в другое место. То же самое я проделал и на другой
день. В третий раз он пришел раньше, запер комнату и меня не пустил, прочитав
через дверь какую-то нотацию по-немецки. Пришлось идти к Г.В. Лисееву с Н.Н.
Светушковым. Они пустили меня, посмеялись, и я лег спать на одной кровати с
Георгием Васильевичем.
Слава богу, как раз на следующий день вопрос с жильем решился более
основательно. Г.В. Лисеева устроили на квартиру в городе Леестене - это кило-
метрах в пяти от места нашей работы, - а Н.Н. Светушкова и меня в доме быв-
шего управляющего шиферными рудниками, на территории которых и была по-
строена испытательная станция. Здесь до нас квартировал комендант всего этого
района Виталий Леонидович Шабранский, который приехал сюда несколько ме-
сяцев тому назад и успел получить звание оберст-лейтенанта (подполковника).
Ему подчинялись и все русские специалисты, и наш военный гарнизон Леестена
и Шмидебаха.
Дом был расположен на самой окраине деревни Шмидебах на горке, как
раз над котлованом рудников. Сам бывший управляющий перед приходом совет-
ских войск сбежал в американскую зону оккупации. А его отец с матерью, жена
Грета и сын с дочкой остались. Сыну, Вольфу, было лет двенадцать, а дочери лет
девять-десять.
Нам отвели хозяйскую спальню с двумя рядом стоящими кроватями. Вече-
рами мы также пользовались вместе с Гретой двумя гостиными: маленькой, где
стоял приемник "Телефункен", и иногда более обширной, где находились пиани-
но, книжный шкаф, большой обеденный стол и еще что-то. В других комнатах на
нашем этаже жила Грета с детьми, а в мезонине старики родители ее мужа. Была
также обширная прихожая, кухня и небольшая комната, полностью забитая раз-
личной посудой: эмалированными ведрами, кастрюлями, сковородками,- и чего-
чего там только не было. Шкафы для постельного белья, которого было полным-
полно, стояли прямо в коридоре. В полуподвальном помещении размещались
прачечная, баня и мастерская.
В первое время мы побаивались немцев, все опасались нападения местных
"партизан". Но наши страхи оказались пустыми. Рассказали нам про такой слу-
чай. Несколько русских девушек-специалисток остановились ночевать в немец-
ком доме, где была лишь одна пожилая хозяйка. Постояльцы, также как и мы,
боялись, как бы ночью на них не напали, и попросили у офицера, который их
привез, оставить на ночь пистолет. Он оставил (очевидно, разряженный). И вот
ночью около туалета столкнулись одна из девушек с пистолетом и хозяйка. Обе
перепугались и подняли такой крик, что была вызвана полиция. Но совершенно
напрасно. Так что вскоре мы совсем перестали опасаться немцев.
Очень хорошо сложились и наши отношения с хозяевами. Нам они дали по
ключу от дома, и мы могли приходить домой в любое время, никого не беспокоя.
Различные семейные праздники - дни рождения и пр. - мы встречали вместе.
Немцы всегда приглашали нас к своему столу. И хотя мы понимали, что, может
быть, этого делать бы не следовало (все-таки это наши еще в недавнем прошлом
смертельные враги, соотечественники которых убивали, травили в душегубках и
расстреливали русских, сдирали с них кожу), как-то само собой получилось, что
старенькую хозяйку мы стали называть "мути" - мать. Может быть, это было со-
всем неправильно. Но она была такая заботливая, такая внимательная...
Нам предстояло научиться работать на испытательной станции и освоить
двигатели Фау-2. Как я уже отметил, она была расположена вблизи селения Шми-
дебах в округе Заафельд на территории заброшенных шиферных рудников, кото-
рым в том, 1946-м, году как раз исполнялось то ли 200, то ли 300 лет. Ископаемое
из них вывозилось в вагонетках, поднимаемых по рельсам с помощью троса и ле-
бедки. В результате разработки шифера в этом месте образовался большой глубо-
кий котлован. Над ним и были построены испытательные стенды - мощные желе-
зобетонные сооружения.
При немцах их было два. Один для 30-секундного "прожига" камер сгора-
ния, другой для испытания двигателей в целом. Наши специалисты то ли заново
построили, то ли достроили третий стенд - для опробования всей ракеты А-4 в
целом.
В горизонтальные штольнях, пробитых в окружающей котлован породе,
было упрятано все большое хозяйство испытательной станции: кислородный за-
вод, хранилища жидкого кислорода и спирта, компрессорная, мощные батареи
для сжатого азота, употребляемого для подачи топлива путем выдавливания его
из баков, вместительные расходные сосуды для сжиженных газов, а также ма-
стерские и т. д.
Здесь же под землей в непосредственной близости от баллонов с азотом и
топливных баков был установлен пульт управления с регулировочными вентиля-
ми на щитах. Их обслуживали специальные операторы, поддерживая по показа-
ниям манометра заданное давление горючего. Параметры испытания отобража-
лись на осциллографах и регистрировались самописцами (здесь мне впервые
пришлось встретиться с ними).
Вне штолен были расположены: дом руководства испытательной станции
(как его здесь называли, Schwarzhaus - черный дом), мастерские для подготовки
камеры двигателя к испытанию, столовая для сотрудников и многочисленные
склады. Чего-чего только в этих хранилищах не было: тысячи всяких шайбочек,
болтиков, штуцеров, пробников, химическая посуда и различные реактивы, мно-
гие километры различного провода, горы инструмента, конторские книги, бума-
га, мануфактура (и сукно, и вельвет и пр.), различные приборы и т. д., и т. п.
К слову сказать, союзники знали о существовании этой станции и хотели ее
разбомбить. Их воздушная разведка в конце войны долго искала объект, но найти
не смогла. А немцы, чтобы дезориентировать противника, сняли весь этот район
довольно крупным планом и распространили фото в виде открыток по всей Гер-
мании. И конечно, разведчикам не могло прийти в голову, что это изображение
той самой цели, которую они искали. Все дороги туда при немцах были перекры-
ты. Запрещался выезд и въезд на довольно обширной территории вокруг станции.
В окрестностях был расквартирован достаточно большой контингент войск СС.
(Что-то суховато излагаются воспоминания. А ведь столько было тогда но-
вых и совсем необычных впечатлений!)
Прежде всего, поражал особый, не русский порядок в городах, отличные
дороги (довелось нам проезжать и по добротным широким автострадам с много-
рядным движением). Чистота, аккуратность во всех, даже маленьких, городках и
селах, через которые нас везли. В них домики, как правило, двухэтажные, с вы-
сокими крышами, покрытыми или черепицей, или плитками из шифера, который
добывали здесь в Германии как раз в том самом Шмидебахе, где мы теперь жи-
ли. На улицах населенных пунктов движение очень небольшое, людей почти не
видно. Все работают. Аккуратность и какая-то патриархальность - вот, пожалуй,
основное впечатление от этой поездки по Германии к месту назначения.
На испытательной станции мы быстро включились в работу. Вначале и мы,
и немецкие специалисты и рабочие действовали совместно. Единственной нашей
целью было освоить достижения немцев в ракетной технике. Весь советский
персонал состоял из двух, если можно так сказать, подразделений: военных (из
них я могу сейчас припомнить майора Габяша, капитана Шамшина, капитана
Никольского - было и еще несколько человек) и группы штатских работников.
Первые представляли армию, которой в дальнейшем предстояло получить раке-
ты на вооружение. Вторые были представителями ряда ОКБ и институтов, при-
званными создать свою, советскую ракету, на первых порах подобную немецкой.
Как стало известно позже, правительство и лично сам И.В. Сталин поставили за-
дачу: сначала, ничего не меняя в немецкой ракете А-4 (Фау-2), создать в Совет-
ском Союзе ее образец один к одному, без каких-либо изменений.
Осваивали немецкую ракетную технику двумя путями. Прежде всего, ог-
невыми испытаниями на упомянутых выше трех стендах камер сгорания, двига-
телей и иногда ракет целиком. И вместе с тем непосредственно исследовали кон-
струкции всех этих объектов.
Кроме того, изучали переводы документации. При этом двигатели нас ин-
тересовали больше всего, так как мы - я, Н.Н. Светушков и Г.В. Лисеев - были
представителями двигательного ОКБ. Мне поручили заняться техническими до-
кументами на турбонасосный агрегат двигателя. Переводил исследовательские
отчеты в основном я сам, хотя на станции было несколько переводчиков.
Одного из них я хорошо помню. Это был немец лет пятидесяти, выселен-
ный с территории, отошедшей к Польше. Теперь он, очевидно, снимал у местных
жителей общий уголок, так как всегда приходил на работу со всем своим имуще-
ством в рюкзачке. Из нескольких разговоров с ним я понял, что это, хотя и рядо-
вой, но настоящий "наци". Этот фашист был убежден, что проигранная война не
последняя и рано или поздно будет другая. Он говаривал: "Против русских я ни-
чего не имею, но поляков в этой новой войне мы уничтожим полностью".
В отчетах об исследовании и доводке турбонасосного агрегата в основном
все было ясно (описания изучали одновременно с чертежами и схемами агрега-
тов, двигателя и ракеты в целом). Однако встречались и весьма отвлеченные,
чуть ли не философские, обобщения, и они были понятны не до конца.
На станции мы завтракали, обедали и ужинали в столовой, специально
предназначенной для русских. Кормили совсем неплохо. Особенно это ощуща-
лось после моего голодного существования во время войны. К обеду даже пола-
галась бутылка пива. На наше оно походило мало: немцы, как правило, делали
его из каких-то отходов. Мы его называли "деревянным".
Выдавали порой и "шнапс". Его здесь было море разливанное. В двигате-
лях использовался в качестве горючего 85%-ный этиловый спирт, и при каждом
испытании его сжигалось около пяти тонн. И В.Л. Шабранскому ничего не стои-
ло договориться с каким-то ликерным заводиком о нашем снабжении производ-
ства "сырьем". Изредка туда отправляли цистерну со спиртом, а обратно получа-
ли "ликеры" двух сортов: один какой-то горьковатый, а другой сладкий, прият-
ный. У директора столовой (немца) была особая комната-кладовая, где храни-
лись запасы этого напитка. Как-то нам удалось заглянуть в эту "святая святых".
На полу стояли большие бутыли, на многочисленных полках бесчисленное коли-
чество бутылок, и все со спиртным. Получить этот "шнапс" можно было лишь
по записке В.Л. Шабранского.
Частенько следовали пешком из Шмидебаха в Леестен и обратно: нужно
было в кино, в парикмахерскую, за промтоварами и иногда за продуктами. Ото-
варившись, случалось идти из Леестена поздно вечером. Ходил я и один. Дорога,
совершенно пустынная, тянулась вдоль леса, который рос в небольшой низине.
Вначале побаивался, а после привык. Сейчас так бы не пошел!
В наших закрытых магазинах нас регулярно снабжали отрезами тканей из
немецких эрзацев - в этом немцы очень преуспели - очень и очень плохого каче-
ства, бельем, обувью, штампованными часами. Перед отъездом на Родину даже
продали сервиз, очень простой, но для меня в то время это было большое богат-
ство. Отоваривали повидлом, печеньем, рыбой, консервами. Выдавали и сигаре-
ты. Их полагалась пачка на день, а каждая ценилась в сто марок. Я не курил, и в
месяц набегало тысячи три. Вместе с моей зарплатой примерно в 2200 марок по-
лучались немалые деньги.
Обеды и все прочее довольствие стоило нам, что называется, гроши. Нужно
было куда-то тратить наши капиталы. Государственных открытых магазинов что-
то не встречалось, видимо, их и не было. В частном порядке приобрести было ни-
чего нельзя: немцы, как правило, старались ничего русским не продавать. Как-то
увидев на окраине Шмидебаха дом с садом, я позвонил и сказал, что хочу купить
немного яблок. (К удивлению наших домочадцев-немцев уже очень скоро я стал
довольно сносно изъясняться по-немецки.) Хозяин состроил недовольное лицо,
что-то сердито пробормотал и захлопнул калитку прямо перед моим носом.
Больше я уже не пытался сторговаться с частными лицами.
В Леестене был небольшой комиссионный магазин. В витрине на полках
лежали немногие отданные немцами на комиссию вещи: электрические бритвы,
авторучки, подержанное белье и пр. Как правило, продавалось это не на марки, а
менялось на папиросы и сигареты (последние ценились дороже). Так что пра-
вильнее этот магазин было называть не комиссионным, а обменным. Здесь я вы-
менял на несколько пачек сигарет электровентилятор с подогревом для сушки во-
лос (Haartrockner по-немецки, а сейчас он называется у нас феном) и еще какую-
то ерунду. А пачки сигарет все копились и копились, и набралось их у меня до
шестидесяти.
И вот однажды мне предложили поехать в Лейпциг. Получив отпуск на два
или на три дня, мы, как помню, собрались в поездку вчетвером: два механика,
один из которых, Михаил Пискарев, возглавлял нашу экспедицию (отец его был
вторым, военным директором типографии в Лейпциге), я и капитан (сейчас не
помню уже его фамилии). Цель поездки была одна - купить что-нибудь стоящее
в знаменитом городе. До железнодорожной станции в каком-то городке нас под-
везли, кажется, на грузовом автомобиле. Там нам пришлось переночевать. По-
шли в нашу комендатуру с отпускным свидетельством. Нам выдали направление
в столовую и в гостиницу. В гостинице для нас отвели две комнаты, очень чи-
стые, уютные. Постели с пуховыми, как принято в Германии, одеялами. До сих
пор помню, как мой капитан, едва мы вошли с ним в нашу комнату на двоих,
прямо в сапогах растянулся на постели и воскликнул: "Кто нам помешает рос-
кошно жить в Германии?!". Конечно, это была грубоватая шутка. Ни о какой
роскоши, по крайней мере для нас, не могло быть и речи.
Назавтра, почему-то, мне помнится, под вечер, мы выехали поездом в
Лейпциг. В вагоне было темно. Вдруг (наверное, мне не поверят!) распространи-
лась по вагону страшная вонь. "Немец залез в вагон!" - сказал капитан (для рус-
ских в составе были специальные вагоны, в одном из которых мы и находились).
Что греха таить, немцы считали, что сдерживать свои естественные потребности
- вредно для здоровья.
Здесь сразу упомяну и о случае в поезде на обратном пути из Лейпцига.
Ехали на этот раз днем. Где-то на полдороге к нам подсели молодые мужчина и
женщина. Изъяснялись частично на словах, частично жестами. Оказалось, что
это французы (по крайней мере, они так назвались). Мужчина вынимает пачку
фотографий и предлагает их у него купить. Подает кому-то из нас. Тот взглянул,
присмотрелся и тотчас же передал другому. Очередной тоже быстро передал уже
мне. Всматриваюсь: боже мой, да это же та самая настоящая порнография, о ко-
торой я был наслышан, но ни разу до сих пор не видел! Конечно, если бы не эта
молодая женщина, может быть, мы бы и более внимательно все рассмотрели и
даже, возможно, купили бы. Но при ней этого положительно было нельзя сде-
лать. Тут "француз" дал маху. Не учел русской щепетильности и непривычности
к таким делам. А с их стороны, наверное, был и дополнительный тайный замы-
сел, связанный как раз с этой молодой женщиной. Не рассчитывали ли эти моло-
дые люди предложить к порнографическим открыткам, так сказать, и порногра-
фию в натуре? Ничего не рассматривая, мы от покупки отказались. "Французы"
пожали плечами и перешли в другое купе.
Но вот мы и в Лейпциге. Остановились у капитана Пискарева, отца нашего
механика. Он занимал огромную многокомнатную квартиру. Кушали вместе с
ним и его женой, тоже военнослужащей. Сразу нужно заметить, что, к сожале-
нию, увидели мы в Лейпциге немного. Побывали у памятника "Битва народов" -
такой огромный, в немецком стиле, монумент. Насколько я помню, по размеру
он был близок к 12- или даже 14-этажному дому. Можно было подняться на
смотровую площадку, расположенную где-то на вершине памятника, но мы по-
чему-то (видимо, спешили) не поднялись.
После этого капитан повез нас на Лейпцигскую "толкучку", совсем непо-
хожую на те, какие бывают у нас. На одной из улиц прогуливались взад и вперед
люди, немцы и русские. Одни пришли сюда, чтобы продать, другие - купить.
Продавцы (большей частью торговали одеждой) носили свой товар прямо на се-
бе. Едва мы прошли из конца в конец этого "рынка", как вдруг раздался вой си-
рены, промчалась машина, очень похожая на пожарную, тем более что люди в
форме не сидели в ней, а висели прямо на подножке. Это были немецкие поли-
цейские. Они на ходу соскочили, схватили первых попавшихся в их руки немцев
и, запихнув их в машину, также быстро умчались, как и возникли. "Сейчас по-
явится машина из нашей комендатуры, - сказал капитан. - Идемте-ка отсюда!"
Он оказался прав. Когда мы уже уходили, примчалась машина с нашими солда-
тами. Они так же, как и полицейские, в темпе схватили не успевших сориентиро-
ваться русских, военных и штатских, и тоже умчались. Так, оказывается, боро-
лись с "черным рынком".
Ничего на "толкучке" не купив, мы с капитаном задними дворами попали в
какую-то квартиру с подозрительными личностями. Даже стало немного не по
себе: смахивает на притон. Наш провожатый объяснил, за чем мы пришли. Неиз-
вестная женщина быстро сняла со стенной вешалки в прихожей всю одежду, и за
ней оказался тайник. Из него были извлечены несколько отрезов. "Английская
шерсть", - пояснил капитан. Не нужно было быть большим знатоком, чтобы
увидеть, что это как небо от земли отличается от тех эрзацев, с которыми до сих
пор мы только и встречались в Германии. Моих средств хватило на два отреза.
Один черный в белую полоску для мужского костюма, второй коричневый, тоже
в полоску, для женского. Хорошо помню, что отдал за них сорок пачек сигарет, а
вот сколько марок - запамятовал, то ли две, то ли четыре тысячи.
Тотчас по возвращении в Леестен я заказал для себя немецкому портному
тройку, а сапожнику башмаки. Они вышли по-немецки добротные и, наверное,
долго бы проносились, если бы на обратном пути из Германии в Россию у меня
их не уворовали приходившие в вагон поляки. И костюм получился на славу. Ко-
гда я впервые надел его, Грета даже руками всплеснула: "Бурис! Как Вы похожи
на коммерсанта! Как Вам идет!". Носил я его очень долго. Десять лет спустя, уже
в 1956 году, я все еще щеголял в нем в Златоусте, выдернув предварительно из
него все белые ниточки-полоски. С ними он выглядел, действительно, как-то со-
всем не по-советски. Очень хороший костюм сшили и Вере из коричневого отре-
за.
Вечер провели в Лейпцигском цирке. Потому, видимо, что пребывание в
Германии было сравнительно кратким, а совершенно новых впечатлений было
очень и очень много, не все хорошо запомнилось. Вот теперь, когда пытаешься
восстановить подробности ряда событий, оказывается, они начисто исчезли из
памяти. Вот так и с посещением цирка. Что поразило? Прежде всего, его огром-
ные размеры. Помнится, там были и арена, и сцена, как в театре. В отличие от
наших цирков, в которых мне приходилось бывать и где всегда было яркое
освещение, здесь на манеже было темновато. Совершенно не оставили впечатле-
ния чисто цирковые аттракционы. А из всей дальнейшей программы помню
только два номера. Вначале маленький мальчик (видимо, вундеркинд), стоя на
рояле, играл на скрипке. Затем выступали дрессированные собачки. Они пред-
ставляли не совсем приличную сцену из тех, которые, как я уже заметил, так лю-
бят немцы. На арене, в разных концах, в обставленных маленькой мебелью двух
квартирах две собачки - дама и кавалер. Она звонит партнеру. Тот выходит из
квартиры, садится в коляску, запряженную также собачками, и едет к ней. Они
садятся за стол, выпивают, закусывают, а после ложатся в постель, предвари-
тельно пописав в ночной горшок, который стоит у нее под кроватью... Общий
хохот, аплодисменты. Зрители получили полное удовлетворение.
Не зря мы жили у военного директора типографии. Из Лейпцига я привез
несколько изданных там книг: два словаря (немецко-русский и русско-
немецкий), миниатюрный справочник по математике Бронштейна, прекрасно ил-
люстрированные "Записки охотника" И.С. Тургенева и сборник стихотворений
И.С. Никитина. Все эти издания целы у меня и сейчас, кроме "Записок охотни-
ка", которые были приведены в отвратительное состояние. Ну, об этом гораздо
позже, так как связано с тяжелыми переживаниями.
Вечера проводили дома в обществе сравнительно молодой хозяйки Греты
и ее подруги чешки Кати. Вели бесконечные беседы за одной-двумя рюмочками
"шнапса", который доставали то мы с Николаем Николаевичем, то наши собе-
седницы. О чем говорили, сейчас уже и не вспомнишь. Но естественно, что мы
интересовались жизнью в Германии, они - в Советском Союзе. Также частенько
слушали по "Телефункену" советское радио.
Иногда заходил к нам и старик отец скрывшегося в американской зоне
управляющего шиферными рудниками. Он также целенаправленно интересовал-
ся жизнью у нас в стране и нами самими. Узнав, что мы из Казани, старик как-то
появился с каким-то иллюстрированным журналом (видимо, "СССР на стройке"
в немецком издании) и, закрыв подпись под фотографией, спросил, что это за
здание изображено. Я сразу же сказал, что Казанский дом печати. Он расспросил,
что это такое, и ушел в задумчивости. Видимо, проверял и нас, и достоверность
того, что написано в журнале.
Пытался я выяснить круг читательских интересов этой довольно состоя-
тельной семьи. В книжном шкафу нашел лишь какие-то детективы и приключен-
ческие романы. В разговоре с Гретой я с удивлением узнал, что ей не известен ни
Толстой, ни Пушкин. Мало того, ничего ей не говорят и такие имена, как Дик-
кенс и Золя, Мопассан и Бальзак. Удивительно!
Вечерами частенько отправлялись в Леестен на танцы или в кино. И то и
другое по очереди происходило в одном и том же здании. Здесь же иногда пере-
движной немецкий театр ставил пьесы. Вызывала удивление какая-то грубова-
тость нравов немцев. Как-то в этом леестенском клубе приезжие актеры играли
спектакль. Никак не могу вспомнить его сюжета и содержания. Передо мной си-
дела мамаша-немка и рядом с нею две ее симпатичные молоденькие дочки. Дер-
жались они чинно, с достоинством.
Но вот на сцене довольно вульгарный эпизод. Старенький хозяин магазина
заглядывает под юбку своей продавщице, которая почему-то (сейчас уже не
помню почему) лежит на столе и болтает перед лицом хозяина ногами. Что тут
сделалось с этими миловидными дочками! Они залились каким-то истерическим
смехом и бросились в объятия своей мамаши. Этот эпизод оказался самым за-
бавным для всех немецких зрителей.
Однажды случился и переполох. В Леестене окончилось кино, все выходи-
ли из помещения, как вдруг откуда-то появился автомобиль и на полном ходу
сбил несколько человек (к счастью, смертельных исходов не было). Машина, как
заметили по номеру, принадлежала одному из немцев. Однако расследование по-
казало, что она была угнана русским лейтенантом, который ухаживал за какой-то
немецкой девушкой и из ревности решил задавить машиной своего соперника,
который был в этот вечер в кино. Но наехал не на него, а на других людей. Лей-
тенант был немедленно арестован и выслан в Советский Союз, а там, очевидно,
осужден.
Вспоминается мне и другой случай. Я и Николай возвращаемся с Гретой и
Катей из кино. Вдруг впереди раздается женский крик. Мы видим, как наш сол-
дат лупит немецкую девушку. Понимая, что дело может для меня плохо кон-
читься, я все же бросился вперед, чтобы прекратить избиение. Но Николай, Грета
и Катя силой удержали меня, а Грета объяснила, что это плохая девушка, она
"награждает" русских солдат "дурной" болезнью. Вот и этот бьет ее за то, что за-
разился. Конечно, аргумент против защиты жертвы нападения был сомнитель-
ный, но и солдат уже отступился, и девушка убежала.
По воскресеньям мы совершали специально организованные для русских
специалистов экскурсии по окрестностям, а иногда и дальше по Германии. Езди-
ли смотреть какие-то замки высоко в горах. Были в Заафельде, близ него спуска-
лись в известные подземные гроты. Сильное впечатление всегда оставляли по-
ездки по автомобильной трассе вдоль реки Заале. Она небольшая и протекает в
удивительно живописных местах. И все кругом такое благоустроенное, природа
ничем не осквернена. Конечно, у нас в России очень много и более привлека-
тельных пейзажей, но здешние очень своеобразны.
Теперь нужно вернуться к нашей работе - основной цели нашей команди-
ровки в Германию. Выше я писал, что на стендах испытывали камеры сгорания,
двигатели и полностью ракеты. Агрегатами в отдельности мы занимались вместе
лишь с немецкими специалистами. Когда же испытывали ракету Фау-2 (А-4) це-
ликом, к нам прибывала большая группа советских конструкторов и технологов,
работавших в конструкторском бюро в Бляйхероде и на подземном заводе в
Нордхаузене. Дни таких испытаний были особенными праздниками для нас. То-
гда приезжал и ставший впоследствии главным конструктором космических ра-
кет Сергей Павлович Королев. Здесь на стендах Шмидебаха я с ним и познако-
мился.
Вначале будущего легендарного СП только увидел. Первая наша встреча
была не из приятных. В один из своих приездов на дворе испытательной станции
он рассказывал группе военных о конструкции заправщика перекиси водорода.
Поскольку Сергея Павловича Г.В. Лисеев знал, то мы решили, что и нам можно
послушать. И мы втроем - Г.В. Лисеев, я и Н.Н. Светушков - подошли. С.П. Ко-
ролев резко прекратил объяснения и спросил грозно и неприязненно: "А вам что
здесь нужно?". Тон вопроса не предвещал ничего доброго, и нам пришлось рети-
роваться.
В другой раз, дожидаясь окончания заправки баков ракеты во время подго-
товки к очередному испытанию, я стоял у металлического барьера, ограждающего
котлован стенда. Подошел С.П. Королев. Сделав несколько замечаний по ходу
подготовки испытаний, он неожиданно спросил: "Вы Циолковского читали?". -
"Читал", - ответил я. "Помните, как у него: "Земля колыбель человечества, но не
вечно же жить в колыбели?.." Мне почему-то показались неуместными в его устах
эти слова. Он выглядел грубоватым и очень приземленным, если можно так ска-
зать. Да и во мне еще жила неприязнь к нему за случай около заправщика переки-
си водорода. Я промолчал. А зря. Следовало бы воспользоваться моментом и за-
вязать разговор. В то время я не мог предполагать, что это будущий создатель
космических кораблей, и даже не знал, что он уже назначен главным конструкто-
ром ракетостроительного КБ. Мне С.П. Королев был известен как заместитель
В.П. Глушко по летным испытаниям двигателей на самолетах.
После, оценивая этот эпизод, я пришел к выводу, что Сергей Павлович уже
собрал обо мне некоторые сведения и "прощупывал" меня, так как именно в это
время подбирал себе будущую команду. Знай я, что он прирожденный энтузиаст
межпланетных полетов, я бы ответил ему, и тогда моя дальнейшая судьба сло-
жилась бы иначе, и я прожил бы свой век как-то по-другому... Сколько в моей
жизни было возможностей направить свою работу в более благоприятное русло!
Но я не воспользовался ими. Слишком полагался лишь на себя и не искал покро-
вителя.
Пуски ракетных двигателей всегда меня очень сильно впечатляли. Я с вос-
хищением наблюдал за работой даже 300-килограммового движка В.П. Глушко.
Мощная грохочущая струя пламени, которым управляет человек, зачаровывала.
А уж работа 25-тонного немецкого двигателя просто потрясала.
Обычно после удачного пуска, пока расшифровывали данные испытания,
раздавались крики: "Расписываться, расписываться!". Это означало, что сейчас
состоится так называемая "церемония подписания протокола испытаний". Доку-
мент оформляли, и все многочисленные гражданские и военные специалисты
шли в столовую. Там уже были расставлены приборы, обед готов. Подавали
"чернила" - так назывался ликер какого-то фиолетового цвета. "Расписывались",
как правило, основательно и довольно шумно.
Вначале под нашим руководством двигатели испытывали немцы. Затем,
когда командированные техники несколько освоились, стали действовать и сме-
шанными бригадами. Начали строить и третий стенд для испытания всей ракеты
в комплексе. Сделали его очень быстро, и на нем наш и немецкий персонал при-
ступил к совместной работе. А уже очень скоро очередной пуск был проведен
только советскими специалистами.
Мы постепенно осваивали методику подготовки и выполнения испытаний.
Хотя немцы уже давно работали на станции, не так уж и хорошо они знали тех-
нику и подчас просто боялись ее. Особый страх вызывала у них система подачи
горючего, где применялась 80%-ная перекись водорода. Разлагаясь при контакте
с перманганатом натрия, она образовывала при температуре примерно 450оС
смесь кислорода и паров воды, так называемый парогаз. Он-то и приводил в
движение турбину и от нее два центробежных насоса, которые непосредственно
подавали топливо в камеру сгорания. При малейших утечках перекиси водорода
немцы впадали в панику.
Однажды в моем присутствии из грушевидного алюминиевого сосуда вме-
стимостью около 250 литров заправляли яйцеобразный бак литров примерно на
175 в газогенераторе двигателя. Видимо, из-за плохой герметизации часть пере-
киси пролилась на бетонную площадку и с шипением начала разлагаться.
Немцы, обслуживающие заправку, бросили технику на произвол судьбы и кину-
лись врассыпную. Подскочившие русские механики быстро залили пролившую-
ся перекись водой из шланга, и разложение прекратилось. После этого немцы
осторожно вернулись.
Помню случай и при одном из испытаний. Из заправочного бачка некоторое
количество перекиси водорода выплеснулось на стальную тележку, на которой ее
с большими предосторожностями немцы подвозили к стенду. Пролитая жидкость
начала разлагаться, шипеть. И немецкий персонал разбежался. Наши же русские
никуда не двинулись, а залили тележку водой из шланга.
Как-то я и два наших механика выехали на грузовой машине за новой пар-
тией перекиси водорода на завод, где ее производили. В кузове лежали пустые
бачки из чистого алюминия, в которых мы и должны были привезти этот реак-
тив. И вот только мы тронулись, как в кузов вскочили два немца и, увидев сосу-
ды, сразу же спросили нас (к этому времени мы научились хорошо друг друга
понимать), пустые они или нет (видимо, были знакомы с взрывчатыми свойства-
ми перекиси водорода). Мы ради шутки сказали, что полные. И немцев словно
ветром сдуло: на полном ходу машины попрыгали за борт. Как они не разбились,
один Бог ведает!
Позже, когда я и майор Габяш сопровождали эшелон с оборудованием в
СССР и в Бресте перемонтировали вагоны на другую ширину колеи, работавшие
на этой операции немецкие пленные умудрились-таки перевернуть цистерну с пе-
рекисью водорода, следовавшую в составе, и облить несколько своих товарищей.
Результат печальный. На некоторых немцах загорелась одежда. А несколько че-
ловек скончалось от ожогов.
Между тем из-за наших испытаний двигателей и ракет назревал междуна-
родный скандал. Согласно договору союзникам было запрещено заниматься лю-
быми испытаниями боевой техники на территории Германии. А мы как раз ее и
испытывали. Граница же с американской зоной оккупации находилась в двух ки-
лометрах от станции в Шмидебахе. И американцы хорошо слышали громкий рев
двигателя или камеры сгорания. Одно время они держали в боевой готовности
машины с киноаппаратом. И едва на стенде раздавался грохот, через формаль-
ную границу прорывался их автомобиль и с него испытание снималось на кино-
пленку. Потом ее предъявляли межсоюзнической комиссии как вещественное
доказательство нарушения Советским правительством договора об оккупации
Германии. Но вскоре их киносъемочные группы стали перехватываться нашими
оккупационными войсками и американцам пришлось ограничиться лишь звуко-
записью.
Однако наши планы не были выполнены до конца. Нам нужно было прове-
сти еще хотя бы одно-два испытания совершенно самостоятельно. Но вот подо-
шел и этот день. Решили испытывать в воскресенье. Немцы отдыхали, а мы,
штатские и военные, вышли на работу и успешно провели пуски. Сейчас я уже
не помню, ставили на стенды двигатель или всю ракету. Кажется, только двига-
тель. Я стоял в качестве "живого регулятора": управлял с помощью вентилей
давлением в стендовых сосудах. Для нас, советских, особенно для тех, кто, вроде
меня, уже работали в Союзе на огневых стендах, в этом событии не было ничего
необычного. Мы спокойно встретили этот день и провели испытание. Однако
немцы отнеслись к этому с большой предубежденностью. Все ждали, что мы не
справимся самостоятельно с такой работой. Грета, которая работала телефонист-
кой на станции, из телефонных разговоров одной из первых узнала о предстоя-
щем испытании. И только что мы с Николаем пришли домой, как она с большой
тревогой за нас принялась выяснять что и как.
И вот конечная цель пребывания в Германии достигнута. Немецкая ракет-
ная техника освоена, испытав ее самостоятельно, мы выдержали экзамен. Можно
было свертывать наши работы за рубежом. Да и обстоятельства настойчиво дик-
товали нам это. Жалобы союзников на нас за испытания военной техники в со-
ветской оккупационной зоне становились все настойчивее. В верхах было приня-
то решение срочно демонтировать оборудование станции и вывезти в Советский
Союз.
В Леестен прибыла дивизия технических войск, ей была дана команда в не-
дельный срок станцию разобрать и оборудование погрузить в эшелоны. И между-
народную комиссию уже пропустили в советскую оккупационную зону, с тем
чтобы она могла убедиться, что военных объектов там нет. Но, продержав эту ко-
миссию в Лейпциге с неделю, ее завернули обратно (такие сведения доходили до
нас), так как со срочной разборкой ничего не получилось. Сроки на демонтаж бы-
ли явно нереальные. Оказалось, что здесь нужна не масса людей, а время. Диви-
зия не долго находилась в Леестене, а затем была передислоцирована в другое ме-
сто. От нее осталась лишь часть.
Но и за то короткое время, которое эти военнослужащие пребывали в рай-
оне станции, они натворили дел. Каким-то образом солдаты пробрались к ци-
стерне, в которой хранился метиловый спирт (был и такой на станции, хотя в ос-
новном использовали этиловый). Многие напились и немало пострадали от это-
го, вплоть до тяжелых последствий: несколько десятков солдат потеряли зрение.
Демонтаж оборудования продолжался далее без форсирования темпов. Да
его и трудно было ускорить. Вместе с военными и штатскими русскими в раз-
борке участвовали и немцы. А их обстоятельность и добросовестность, а может
быть, и саботаж не способствовали форсированию работ. Мне подчинили не-
сколько немцев и поручили демонтировать наружное, собственно стендовое,
оборудование установки для испытания камер сгорания. Одному из них я дал за-
дание собрать и уложить в ящик все крепежные детали. Когда я заглянул с про-
веркой состояния работ часа через три на стенд, то увидел, что в ящике лежат
всего два-три десятка болтов. Но зато в каком состоянии! Все они очищены от
ржавчины, рассортированы, смазаны маслом, и каждый в отдельности упакован в
промокательную бумагу.
Немецкая пунктуальность прямо-таки удивительна. Я наблюдал: вот два
немца несут на плече бревно, звучит сигнал на обед. Осталось пройти с ношей
еще метров пятьдесят-сто. Но они тотчас же опускают бревно на землю и идут
обедать. Но зато после эти рабочие точно по сигналу с обеда вновь поднимают
свою поклажу на плечи и идут дальше!
Демонтаж шел своим чередом. Большая часть оборудования уже была из-
влечена из штолен, вывезена со станции и погружена в эшелон. Снаружи стояли
и громадные (кубов на 100-200) цистерны со спиртом, подготовленные для от-
правки в Советский Союз. И вот тут была совершена попытка диверсии.
Как-то вечером, кажется, в субботу мы сидели с Гретой и Катей в малень-
кой гостиной и вели неторопливый разговор. Вдруг где-то около дома раздалась
пулеметная очередь. Одна, вторая... Затем все смолкло. Мы насторожились.
Прошло некоторое время, и в дверь дома громко постучали. Оказалось, наши
солдаты. Мы не хотели им открывать и связались с начальником объекта под-
полковником В.Л. Шабранским. И он приказал впустить солдат. Они зашли,
спросили, не знаем ли мы, кто это стрелял, и ушли. И снова несколько пулемет-
ных очередей. Оказывается, кто-то прямо от того дома, в котором мы жили, пы-
тался зажигательными пулями поджечь цистерны со спиртом. Но все окончилось
благополучно. Ни спалить, ни взорвать цистерны не удалось. Видимо, диверсант
(или диверсанты) были заброшены с американской зоны оккупации, граница с
которой находилась в двух километрах от станции.
Так что, видимо, не зря я чувствовал себя не особенно уютно, когда неза-
долго до того все мы, советские, собрались на празднование 29-й годовщины Ок-
тябрьской революции в одном из немецких домов. Сидели за столом, пили, про-
возглашали тосты, а за моей спиной было раскрытое окно на улицу. И мне поду-
малось: "А вдруг какой-нибудь недобитый гитлеровец подбросит в нашу комна-
ту гранату?". А может быть, и не было оснований для тревоги. Наверное, соот-
ветствующие службы надежно охраняли нас от таких "сюрпризов"...
Непосредственно перед началом демонтажа или в один из первых его дней,
а возможно, чуть позднее из всей советской оккупационной зоны вывезли нуж-
ных для Советского Союза немецких специалистов. В строго установленный час
военные машины одновременно подъехали к домам этих людей и они были взя-
ты под охрану. Затем всех их свезли в подготовленный железнодорожный эше-
лон. Предложили договориться и сообщить, кто из их семей поедет с ними, раз-
решили взять с собой те вещи, которые они пожелали, и отправили все это в
СССР. Операцию провели рано утром на рассвете, а когда мы встали, то оказа-
лось, что все немцы об этом уже знают из передач западногерманского радио.
Прежде чем приступить к описанию того, как мы уезжали из Германии,
стоит остановиться и на делах сердечных. Из того, что мне в этом отношении из-
вестно, пожалуй, наибольший интерес представляют любовные приключения
Николая Светушкова. Высокий, стройный, черноволосый, спокойный, сдержан-
ный, приветливый, всегда готовый помочь в чем бы то ни было, общительный и
веселый, он привлекал к себе внимание немецких женщин и девушек. Правда,
что-то в его лице настораживало некоторых из них и заставляло подозревать в
нем еврея. Грета не единожды спрашивала меня: "Бурис, Николай июда?". И я
всячески старался убедить ее, что Николай Николаевич Светушков - русский
человек. В Германию евреев не направляли. Правда, среди нас, штатских специ-
алистов, каким-то образом все же оказался один настоящий еврей. Натерпелся
же он там страха! Один не ходил. Под землю в штольни ни разу не спустился,
даже в компании.
Иногда, как я уже писал, мы посещали в Леестене клуб, где показывали
кино или какие-то постановки или устраивали танцы. В них (очень редко) участ-
вовал и я. И вот однажды, к моему удивлению, меня пригласила танцевать какая-
то вовсе мне неизвестная немка. Еще совсем молоденькая, лет, наверное, двадца-
ти двух-двадцати трех. Сложением, формами, русым цветом волос она очень по-
ходила на чисто русскую девушку. Танцуя со мной, она сообщила, что была за-
мужем. Супруг ее, солдат вермахта, погиб в России. А затем попросила меня по-
знакомить с ней Николая. Я это немедленно и сделал, предложив ему пригласить
на танец эту даму. После этого они так и танцевали вдвоем до конца вечера.
Когда расходились, Николай сказал мне, что эта девушка и ее сестра про-
сят нас проводить их домой. Мы пошли. Николай с этой девушкой, я с ее сест-
рой, которая оказалась еще моложе (наверное, не более 18 лет) и очень привлека-
тельной. Я с удовольствием вел ее под руку. Обстановка была идиллической:
светила луна, кругом росли деревья и кусты, благоухали цветы на клумбах. Но
приятная прогулка длилась недолго. Николай с подругой куда-то удалились, а
моя спутница вдруг убежала от меня, мгновенно скрывшись за кустами какого-то
то ли парка, то ли сада, по которому мы шли.
От Леестена мы уже порядком отдалились. И вдруг я остался один, ночью,
в неизвестном месте. Мне стало жутковато. (Я не говорю, что и досадно, так как
я понял роль, отведенную мне - благопристойно прикрыть провожание Никола-
ем этой изобретательной девушки.) Но все же через некоторое время я сориенти-
ровался. Домой пришлось идти через сосняк. Немецкий лес - это чистый лес.
Стоят стройными рядами сосны, и более ни кустика, никакого мусора. Кругом
полный немецкий порядок. Идти пришлось около часа под гору через лес. И мне
все слышался сзади какой-то шорох, словно за мной по земле что-то катилось.
Слава Богу, ночь была светлая, и я в конце концов вышел уже на знакомую мне
дорогу.
Николай вернулся где-то на исходе утра, когда уже совсем рассвело. С это-
го дня и начался его роман. Немка, видимо, по уши в него влюбилась. И частень-
ко приходила к нашему дому, звонила, вызывала Николая, и они исчезали на всю
ночь. Были у этой пары свидания и в непогожее время. А однажды она явилась
поздно вечером, когда шел проливной дождь. Проводив их, Грета все сокруша-
лась, как-то они там под дождем ходят. И все это не прошло бесследно для здо-
ровья Николая. Вернулся он в Россию с заболевшей от простуды рукой и долго
ходил с ней по врачам.
Рассказывал Георгий Васильевич Лисеев. Приглянулась ему хозяйская
дочка. И она посматривала на него не раз лукаво. Вот однажды ночью он и от-
правился на цыпочках в ее комнату. Подошел в темноте к постели и начал при-
страиваться рядом. И вдруг оказалось, что он залез в кровать к ее отцу! Как это
получилось, можно лишь догадываться. Видимо, родитель заметил, что дело
идет к нежелательному для него исходу, и принял меры.
Мои отношения с женским полом были более платоническими. Очень
приглянулась мне одна из официанток нашей столовой - Эрика. И я пытался
привлечь ее внимание. И вдруг узнаю, что она и капитан Шамшин одновременно
попали в больницу с одним не особенно афишируемым заболеванием. Кто из них
был первоисточником, трудно сказать.
Очень нравилась мне также одна из парикмахерш - Гертруда. Обычно чер-
новолосые девушки не вызывали у меня симпатии. Но здесь было исключение.
Она была такая стройная, с таким предупредительным характером. Частенько мы
с ней танцевали в Леестене. И она жаловалась мне, что один из капитанов (уже
немолодой, заведовал хозчастью в подразделении) частенько наведывается в дом
к хозяину парикмахерской (а девушки-парикмахерши жили именно там) и при-
стает к ней. Я пытался дать ей наставления, как вести себя. Воспользоваться же
ее доверчивостью мне не приходило и в голову: такая юная, еще по-детски чи-
стая она была. А сейчас я думаю, что, может быть, это все было только в моем
воображении. Ведь среди немецких девушек были распространены такие сво-
бодные нравы.
Были сердечные дела и с несчастливым исходом. Один их военнослужа-
щих, майор, имел несчастие по-настоящему полюбить вдовую немку. Он подал
рапорт с просьбой разрешить ему на ней жениться. Но последствия этого по-
ступка оказались крайне суровыми. Его незамедлительно разжаловали, отобрали
у него все документы и выслали в Союз.
Со своими хозяйками мы, хотя и допускали всякие вольности и фриволь-
ности в разговорах, держались корректно и никогда не переходили границ при-
стойности.
Прежде чем перейти к описанию отъезда, еще об одном. В предрожде-
ственские дни меня пригласили в немецкую школу на детскую самодеятель-
ность. Как и у нас, там были и разнообразные сольные выступления и постановка
какого-то спектакля. Осталось впечатление: много, чересчур много сентимен-
тальности и низкий уровень всех этих выступлений по сравнению с самодея-
тельностью в наших советских школах. Но естественно, что я отозвался обо всем
этом, когда меня спросили, с большой похвалой и много аплодировал в течение
вечера.
Для доставки демонтированного оборудования в СССР сформировали три
эшелона. Два из них поручили возглавить военным, придав им по одному по-
мощнику, которыми назначили Г.В. Лисеева и Н.Н. Светушкова, а третий - мне
самому. Я сходу категорически отказался. И как меня ни упрашивали, как ни
стращали различными мерами наказания за невыполнение приказа, я твердо сто-
ял на своем. В конце концов В.Л. Шабранский и Ко вынуждены были сдаться.
Начальником эшелона был назначен майор Габяш, а его помощником я.
Ко времени отъезда у меня скопилось порядочно вещей. Помнится, было
три чемодана. Один с сервизом, который был куплен перед отъездом, два других
с различными отрезами, бельем и прочим. Дан был нам и пустой товарный ваго-
нишко. В нем мы везли с собой печку (оборудовали мы ее уже позже, в Бресте).
Через Германию ехали в одном вагоне с паровозной бригадой - немецкими ма-
шинистами. Тут же были и наши вещи. Не помню где, но я приобрел еще два
мешка картофеля. Они тоже были при нас.
Выехали из Леестена как раз в рождественский вечер. Рождество отмечали
вместе с немцами. Было в Тюрингии уже прохладно, но еще не холодно. Через
Германию проследовали спокойно, без всяких приключений. Они начались с
немецко-польской границы. Во Франкфурте-на-Одере нам пришлось перейти в
вагон сопровождения, так называемую "вертушку", в котором располагались
солдаты охраны (через Германию ехали без нее). Когда переносили багаж из од-
ного вагона в другой, у меня украли один из мешков с картошкой (хорошо, что я
отделался только этим).
Сопровождение эшелона состояло из двух вагонов. В одном располагались
сержант и четыре или пять солдат, в передней части другого - капитан (он был
командиром сопровождения), в задней - майор Габяш и я. Капитан сразу же пре-
дупредил нас, чтобы во время пути через Польшу на остановках в городах мы
далеко от поезда не отходили: могут убить. Далее предостерег, чтоб мы были
осторожны с поляками и следили за ними, когда они будут приносить к поезду
что-нибудь продать или обменять: могут обокрасть.
В дорогу В.Л. Шабранский снабдил нас достаточным количеством спирт-
ного, что очень пригодилось нам, когда мы ехали через Польшу. Габяш и я полу-
чили по десять бутылок простого, горького "ликера" и по пять сладкого, повы-
шенного качества, очень приятного на вкус. У солдат же не было недостатка в
продуктах питания. Видимо, всякие эшелоны им приходилось сопровождать, и у
них были и крупы, и мука, и мясо, и консервы, и масло, и хлеб. И мы заключили с
командой сопровождения договор. Они обеспечивают нас завтраком, обедом и
ужином, мы их - выпивкой к еде. Так мы и ехали. Они нас кормят, мы их поим,
выделяя к трапезе за общим столом пару бутылок "ликера".
Строго придерживаясь рекомендации далеко от поезда не уходить, мы да-
лее двух-трех кварталов от вокзальных площадей не отдалялись, и у меня совсем
не осталось впечатлений от польских городов. Частенько наведывались к нам,
особенно на мелких полустанках, поляки, и я за несколько отрезов из немецкого
эрзац-материала выменял много (килограмм тридцать) сала. Мы внимательно
следили за поляками, и все же они однажды умудрились "увести" у Габяша хо-
рошие ботинки.
Без других особых происшествий добрались до Бреста. Вот здесь и нача-
лись интересные события. Брест. Таможенный досмотр. Хотя у меня и не было
ничего запрещенного, кроме картофеля, который через границу провозить было
нельзя, но я все же не преминул сунуть одному из таможенников кусок сала. И
попал в самую точку. Дал его как раз тому, кто должен был следить за соблюде-
нием кордона на сельскохозяйственные продукты. Сало он взял, но, оказывается,
за глаза немало смеялся надо мной: никому не разрешал картофель провозить, а
тут и просто так пропустил. Но это все пустяки.
Идет досмотр багажа Габяша. Он предупредительно распахнул перед та-
моженниками свои чемоданы. В одном из них какой-то из чинов небрежно пере-
вернул часть отрезов и спросил, указывая на маленький чемодан под койкой: "А
здесь что у Вас?" - "А здесь моя парадная военная форма!" - "А ну, покажите!"
Габяш достает чемоданчик из-под койки, раскрывает его. Действительно,
военная форма: китель и брюки. И тут таможенник берется рукой за брючину,
смотрит прямо в глаза Габяшу, и я вижу, как мой майор начинает то бледнеть, то
краснеть. Капли пота выступают на его лице. Насладившись произведенным эф-
фектом, таможенник разрешает закрыть чемодан. Как я узнал чуть позже, в брю-
чине была спрятана черно-бурая лиса.
Дальше пошло еще интереснее. Я вышел из вагона и вижу: в страшном
волнении шагает капитан. Увидев меня, он начинает на чем свет стоит ругаться:
"Почему ты не сказал мне, что везете машину? Глядишь, продали бы в Польше.
А теперь вот скинут за здорово живешь!" - "Какая машина? Где машина?" - "А
ты что, не знал? Шляпа! Вот пойди да посмотри!"
Иду к указанному вагону, залезаю наверх. С одного их ящиков отодрана
вверху доска и сквозь щель видно: в ящике "Опель кадет" без колес. По болтаю-
щемуся за стеклом машины медвежонку узнаю: машина капитана Никольского.
Бежит Габяш. Отводит старшего таможенника в сторону. Что-то сует
(отрез). Машину оставляют, не снимают.
Оказывается, таможенники спокойненько проследовали вдоль эшелона. Ни
один вагон не осматривали. А у этого остановились и велели отодрать от ящика
доску. Видимо, им уже заранее было известно об этой машине. Разведка постав-
лена хорошо!
Началась перемонтировка вагонов на ширину другой колеи. Ночью нас бу-
дят. Требуют начальника эшелона. Габяш уходит. Возвращается с невеселой ве-
стью. Перегружали из одного вагона в другой цистерну с перекисью водорода.
Подняли ее на стропах краном, а она наклонилась, и перекисью облило несколь-
ко немцев, работавших на перегрузке. Люди загорелись. Габяш отговорился тем,
что ему было неизвестно, да и никто не знал, какими свойствами обладает эта
немецкая жидкость. Конечно, так просто он бы не отделался, если бы погибшие
были не немецкие военнопленные, а русские солдаты.
Новый, 1947 год встретили и отметили в Бресте с нашей командой сопро-
вождения. Далее мы следуем без нее. Но вот установка на новую колею законче-
на. Мы с Габяшем переселились в свой холодный вагончик, поставили печку,
приладили к ней трубу. Солдаты снабдили нас провиантом для поездки уже по
нашей стране.
Раздается свисток. Состав трогается. Вдруг новый сигнал. Эшелон оста-
навливается. Подходит автокран, снимает с вагона ящик с "Опель-кадетом".
Снова свисток - и эшелон уже без машины продолжает путь. "Плакали" и маши-
на Никольского, и отрез Габяша.
Далее путь по разоренной стране. В тот год поля в Белоруссии до января
практически стояли без снега. Ощущение холода и голода не покидало меня за
весь этот путь от Бреста до Москвы.
Вот уже и Подмосковье. Стоим в Лихоборах. Далее эшелон будет разделен
и одна часть поедет куда-то с Габяшем, а другая со мной в Химки. Вагончик
майор оставляет за собой. Я перебазируюсь. Залезаю в один из вагонов. Вскры-
ваю какой-то ящик, что-то оттуда выбрасываю (что, уже сейчас не помню) и
прячу в этом ящике часть своих чемоданов. Все это происходит ночью. Сделано
было вовремя. Когда я с последним чемоданом пролезаю под эшелоном, в лицо
мне, ослепляя, светят электрическим фонарем. Патруль. Останавливают. Застав-
ляют открыть чемодан. Роются в нем. Спрашивают, есть ли еще. Отвечаю отри-
цательно. Идут со мной к вагону, в который я перебазируюсь. Шарят фонариком
по ящикам. Долго расспрашивают меня, кто я и почему здесь. А у меня никаких
документов. Удостоверение на сопровождение эшелона было одно на двоих, и
оно осталось у Габяша. Но все же отпускают. Чем заслужил доверие, не знаю.
В тот же день около часу дня приводят эшелон в Химки. Пока длилась ко-
мандировка в Германию, туда перебазировалось ОКБ-СД.
Догадался быстро разбить ящик, достать чемоданы и выпрыгнуть из ваго-
на. Только-только успел снять свои вещи, как эшелон подхватил маневровый па-
ровозик и потянул на завод. Я же благополучно перетащил вещи в диспетчер-
скую станции и стал звонить своим. Нашел нужные номера (я ведь в Химках еще
ни разу не был) и дозвонился до своего отдела. Спрашиваю Чебордаеву Веру
Николаевну. По телефону какой-то грозный мужик (по крайней мере, так показа-
лось) допытывается, кто я и зачем она мне нужна. Позже узнал, что со мной раз-
говаривал помощник начальника по хозчасти отдела Иван Васильевич Кулагин.
Но вот и Вера у телефона. Чувствую, как она волнуется и рада, что я нако-
нец возвратился. Вскоре и она сама появляется на станции. Слезы, поцелуи. Взяв
часть багажа, едем на Сходню, где нам с ней сняли комнату в частном доме. Ве-
ра, как и полагается, пополнела и раздобрела: идет уже седьмой месяц беремен-
ности. Этот вечер и ночь для нас - источник неисчерпаемой радости, успокоения
и удовлетворения. Все закончилось хорошо. Поездка в Германию позади. Мы
опять вместе.
ПОДМОСКОВЬЕ. ХИМКИ
Вынужденное безделье. - Создание стендов для испытания турбона-
сосных агрегатов ЖРД. - Взрывы в ходе экспериментов. - Отработка твердо-
го катализатора. - Внимание спецслужб. - Создание нового реактора. Опас-
ная перекись водорода. Снова взрывы. - Неполадки с редуктором. - Первое уча-
стие в летных испытаниях. - Ракетный полигон. Нештатные ситуации. -
Разработка схемы нового двигателя. - Прием в КПСС, избрание депутатом
горсовета. - Несчастные случаи на работе. - Зачисление в Московский авиа-
ционный институт и отличное завершение высшего образования. - Предло-
жение поступить в Высшую школу НКВД и отказ от него
Г.В. Лисеев и Н.Н. Светушков были направлены во вновь организованный
отдел В.Л. Шабранского. Я же отказался работать под его руководством. За время
пребывания в Германии у нас сложилась взаимная неприязнь. А его новое под-
разделение было предназначено для того, чтобы проводить испытания двигателей
и камер сгорания, аналогично тому, как это делалось в командировке. Первой за-
дачей этого коллектива было строительство и создание стенда, похожего на те,
которые были в Германии, но более совершенного. В частности, испытания агре-
гатов предполагалось проводить не в вертикальном положении, а в наклонном,
при различных углах оси двигателя к горизонтали.
Кстати, и сейчас еще найдется немало людей, свидетелей первого пуска на
новой станции В.Л. Шабранского. Слух о том, что сегодня вечером будет испы-
тываться невиданный двигатель, разнесся по городу. И к вечеру на опушке леса
против стенда стал собираться народ. Люди стояли в несколько рядов, и разогнать
их не было никакой возможности. Стало уже темнеть. И тогда сотрудники госбез-
опасности пошли между любопытными и, освещая фонариком лицо каждого, го-
ворили: "Это наш!". И вот все в округе озарилось дневным светом, и тысячеголо-
сым громом оглушительно прогрохотал двигатель. Это испытание провозгласило
вступление СССР в космическую эпоху.
Некоторое время в лаборатории я ничем не занимался. Приходил на работу,
садился и дремал при входе в кабинет начальника К.А. Рудзкого. Меня явно тре-
тировали, очевидно, не без влияния М.Я. Полонского. А Петр Петрович Бровкин
(он работал совместно с М.Я. Полонским) меня к себе не брал. Так продолжа-
лось, кажется, с месяц.
Но вот однажды ко мне подошел новый сотрудник нашей лаборатории. Он
был старше меня. Представился как начальник новой группы, которая должна бы-
ла проводить испытания и экспериментальные исследования турбонасосных агре-
гатов как в комплексе, так и отдельно, а также газогенераторов.
Он попросил меня подробно сообщить о том, чем я занимался раньше. Я
рассказал. Не упустил и того, что работал на пароходах, имел дело с паром, мано-
метрами. Но вот с той техникой, которую собирались изучать, я дела не имел и
даже не представлял, что это такое. "Ну, это не столь важно",- сказал Владимир
Андреевич Орехов (так звали нового начальника) и предложил мне должность ве-
дущего инженера своей группы. Я согласился. И вот мы на голом месте, в сво-
бодных помещениях стали создавать новые стенды.
То ли ему подсказал Доминик Доминикович Севрук, то ли он сам проявил
определенную изобретательность, но, не дожидаясь проекта стендов, мы стали
строить их сами. А конструкторы, уже после того как объекты были смонтирова-
ны, приходили и по готовому оформляли документацию.
Вначале состав нашей группы был невелик: механик Сурапов, старший ме-
ханик Николай Васильевич Васильев, лаборантка Галя Карпова, Владимир Ан-
дреевич Орехов и я. К нам вскоре присоединился и механик Георгий Николаевич
Георгиевский, только что вместе с заводом возвратившийся из эвакуации в Таш-
кент. Худой, подвижный, всего себя отдающий работе, мастер на все руки, но, к
сожалению, иногда впадавший в запой. Да и В.А. Орехов оказался склонным к
употреблению горячительных напитков (в наших условиях это был разбавленный
спирт). К сожалению, и конец их был печален. Г.Н. Георгиевский умер, оставив
большую семью, где-то в конце шестидесятых годов. А В.А. Орехов был уволен
за пьянство, перешел работать в какой-то институт и вскоре скончался.
Наша задача была соорудить стенд для испытания турбонасосных агрегатов
(ТНА), турбина которых работала бы на парогазе, полученном при разложении пе-
рекиси водорода, с имитацией реального топлива водой. На стенде мы заливали ее
в баки ракеты Фау-2 и использовали штатный вариант газогенератора, который со-
стоял из яйцеобразного сосуда вместимостью 127 л для перманганата натрия (ката-
лизатор разложения перекиси) и системы жидкостных клапанов, приводимых в
действие воздухом, подаваемым через пневмоклапаны от батареи.
Турбонасос и баки, его питающие, были расположены в одной комнате, га-
зогенератор - вне помещения, перед смотровым броневым стеклом, которое нам
сделал ВИАМ. Оно было вставлено в стену другой комнаты, где находились од-
новременно и пульт управления, и манометры, и самописцы на специальном
пульте-щите, изготовленном под присмотром Г.Н. Георгиевского.
Сама лаборатория постепенно создавалась в здании бывшего склада, где
под потолком оставались окна. И тут я допустил непростительную для инженера
ошибку: для защиты в случае аварии прикрепил болтами к раме окна, которое бы-
ло как раз над газогенератором и над пультом, алюминиевый лист толщиной 20
мм. И не подумал, что в случае взрыва лист-то предохранил бы всех находивших-
ся в пультовой, но только при достаточной прочности рамы и болтов.
Но все это сделали несколько позже. Испытывать ТНА от парогазогенера-
тора с настоящей ракеты мы не могли, поскольку не было достаточного количе-
ства перекиси водорода, вывезенной из Германии, а ее отечественное производ-
ство еще не наладили. Поэтому первоначально использовали экспериментальную
установку, которая в основном представляла собой газогенератор в виде закры-
вающегося крышкой небольшого цилиндра с вставленным в него шнеком. На ци-
линдре после каждого витка шнека разместили хромель-копелевые термопары,
чтобы можно было контролировать скорость и отмечать окончание разложения
перекиси водорода. Заливали ее в предусмотренный в конструкции установки ба-
чок из нержавеющей стали. Вот он-то и подвел нас.
Однажды к концу эксперимента перекись водорода не была полностью вы-
работана. Технологию заправки бачка мы освоили. А отдела освобождения реак-
тора от остатков у нас не существовало. И в конце смены я решил ничего не тро-
гать. Придя на другое утро на работу, мы увидели на нашем стенде целую комис-
сию и вдребезги разрушенную взрывом экспериментальную установку. Свидете-
лем происшествия случайно оказался электросварщик отдела, у которого был
огород, граничивший с двором станции. Когда он копал землю, то вдруг услышал
со стороны установки шипение. Оно нарастало, перешло в свист, и вдруг, про-
изошел взрыв, и вся конструкция разрушилась.
Оказалось, что бачок из нержавеющей стали был сварен простым электро-
дом и служил до этого сосудом для азотной кислоты. Внутри него швы из углеро-
дистой стали были покрыты ржавчиной, которая и послужила катализатором раз-
ложения перекиси водорода. Сначала парогаз выходил, шипя и со свистом, через
дренаж бачка. В дальнейшем с его нарастающим объемом выпускное устройство
не смогло справиться и давление в бачке превысило значение, на которое он был
рассчитан, или просто произошло спонтанное разложение перекиси, и последовал
взрыв. Мы немедленно приступили к восстановлению разрушенного.
Но сразу после взрыва или через день меня допрашивали представительные
люди в штатском. Все выясняли подробно, с пристрастием и неожиданными про-
вокационными вопросами. Это было в 1947 или 1948 году. Я был в то время со-
всем наивным, как ребенок, и до меня не доходило никаких слухов о репрессиях и
пр. И я не подозревал, какой опасности я тогда подвергался. Насколько я знаю, за
меня заступилось высшее начальство, главным образом Д.Д.Севрук.
Вскоре основной стала для нас отработка твердого катализатора, которая и
проводилась на вновь созданной установке. Она на этот раз была расположена по-
другому. В отдельной небольшой будке из кирпича находился только пульт. Сама
же конструкция была смонтирована на открытом воздухе.
Реактор состоял из небольшого сосуда с крышкой, вмещавшего 200 грамм
твердого катализатора. В него и подавалась перекись водорода. На выходе из ре-
актора была расположена выхлопная трубка с термопарой, по которой мы отсле-
живали процесс разложения. Загружалась очередная порция катализатора, и про-
водился пуск за пуском при одном и том же расходе перекиси в секунду. Эту опе-
рацию мы назвали "нагрузкой". Испытания проводили до тех пор, пока темпера-
тура на выходе из реактора не снижалась по сравнению с первоначальной на 10оС.
При этом количество израсходованной перекиси считали ресурсом катализатора.
Затем та же самая операция проводилась с бoльшим расходом перекиси в секунду,
новой "нагрузкой". И определялся новый ресурс.
Испытаниям подвергли различные типы катализаторов. Из них основными
соперниками были два: один, представленный Сергеем Сергеевичем Марковым из
ленинградского ГИПХа, будущим директором этого института, и другой, предло-
женный какими-то двумя докторами наук (кажется, Перельманом и еще кем-то)
из академического ИОНХа. Эти катализаторы значительно отличались друг от
друга. Разработанный в ГИПХе выдерживал больший ресурс, а созданный в
ИОНХе допускал большую нагрузку. В конце концов, с моей подачи решили
смешать эти катализаторы. Стали думать, как назвать смесь. Обсуждение проис-
ходило в присутствии авторов и главного конструктора. Я предложил назвать это
сочетание "катализаторная смесь" (коротко КС). Доминик Доминикович рассме-
ялся и горячо поддержал это предложение, так как аббревиатуру КС можно было
расшифровать и как "катализатор Севрука". Авторы неохотно согласились с этим
названием.
Нужно сказать, что твердый катализатор экспериментально был с начала до
конца исследован мною, и я же описал выявленные его свойства. Но, как это ча-
сто бывает, честь этого достижения досталась другому. Мне приходилось регу-
лярно составлять и в качестве основного исполнителя подписывать, в числе про-
чих, отчеты по отработке катализатора. Но когда я был в очередном отпуске вес-
ной 1948 года, в мое отсутствие В.А. Орехов оформил сводный отчет и подписал
его как исполнитель работ, а моей подписи в нем не оказалось. И чуть позже он
получил за эту НИР степень кандидата технических наук. Так совершилось оче-
редное присвоение чужих результатов.
В это время, почти тотчас же после первого взрыва установки, у меня в
подчинении оказался инженер Аркадий Петрович Брилин. Здоровый, хорошо
сложенный, высокий, еще молодой мужчина, но с лысиной во всю голову. Он
непосредственно проводил пуски. Я подготавливал программу, а он с большой
скрупулезностью методично ее исполнял. Аркадий Петрович был, безусловно,
положительным человеком. Бывший офицер, он рассказывал, что входил в группу
мотоциклистов с нашей стороны при первой встрече с американцами в конце
войны. И А.П. Брилин настолько выделялся среди наших военных, что представи-
тели США будто бы спрашивали: "Зачем советские включили в свою команду
американца?". Но позже я пришел к выводу, что Аркадий Петрович служил в ор-
ганах НКВД и был откомандирован под мое начало специально, чтобы наблюдать
за мной.
Как-то после возвращения из Германии кто-то сочувственно сказал мне:
"Ну вот, теперь ты будешь пожизненно под колпаком спецслужб!". Так после оно
и оказалось. Присмотр за мной оживил взрыв на стенде. А позже, к чему я сейчас
перейду, при испытаниях произошел и другой, еще более разрушительный взрыв.
Но явно обнаружить повседневное за собой наблюдение спецорганов мне удалось
позже, когда я работал уже на Урале. И оно продолжалось и потом, на Украине. И
только возвратившись снова в Москву, я не замечал, следили за мной или нет.
На основе наших экспериментов в ОКБ начали проектировать настоящий
реактор на твердом топливе. А В.А. Орехов решил опередить конструкторов и со-
здать его своими силами. И он был сделан из бачка для перманганата натрия, да-
же не подвергнутого, насколько я помню, гидравлическим испытаниям на проч-
ность. Форсунка для перекиси водорода (собственно, это был простой клапан, от-
крывавшийся при определенном давлении) была снята с реактора Фау-2. И всю
конструкцию газосепаратора перенесли без изменения с парогазогенератора этой
немецкой ракеты, лишь выбросили систему подачи жидкого катализатора. Завез-
ли партию перекиси водорода нашего производства и проверили ее на маленьком,
экспериментальном газогенераторе.
Об экспедиции на завод за перекисью водорода нашего производства стоит
остановиться особо. Мы загрузили в грузовую машину пару пустых сосудов. Взя-
ли и специальную бочку с водой, чтобы в случае пролива перекиси в дороге было
чем залить. Выехали втроем: шофер, В.Н. Георгиевский и я.
При погрузке на заводе мы стали свидетелями серьезного несчастного слу-
чая, который едва не окончился трагически. Перекись водорода хранилась у изго-
товителя в стеклянных бутылях вместимостью литров по шестьдесят. Персонал
носил специальную одежду. Но был допущен просчет: резиновые рукавицы наде-
вались не на рукава защитной куртки, а заправлялись в них. И вот, когда из оче-
редной бутыли в наш сосуд стали переливать перекись, некоторое ее количество
пролилось и по рукавице стекло внутрь под защитную куртку. У грузчика вдруг
загорелась нательная одежда. Бутыль быстро поставили, человека повалили и ста-
ли катать по земле. Загорание потушили. Но рабочий с обожженной рукой проле-
жал несколько месяцев в больнице и вышел оттуда инвалидом.
На обратом пути, как раз около Белорусского вокзала, от тряски некоторое
количество перекиси пролилось в кузов. Она стала угрожающе шипеть. Мы с В.Н.
Георгиевским выскочили и залили перекись водой, а шофер, матерясь, дал тягу, и
мы еле-еле уговорили, вернуться его обратно. В остальном все прошло благопо-
лучно. Перекись привезли и вручную выгрузили ее из автомашины.
Так вот, в бак газогенератора залили эту новую перекись нашего производ-
ства, новый, нигде не испытанный реактор загрузили новым, только что отрабо-
танным на экспериментальном газогенераторе катализатором. Естественно, так
эксперименты не проводят. Обычно сначала вводится один какой-нибудь элемент
или фактор. Здесь же сразу три.
Собралась многочисленная "публика": авторы катализатора и их помощни-
ки, конструкторы всякого ранга и просто любопытствующие. Вначале они распо-
ложились невдалеке от газогенератора. Но Д.Д. Севрук предусмотрительно отвел
их подальше, за нашу будку. У пульта стоял я. Включил первую, 8-тонную сту-
пень работы газогенератора. Он действовал нормально. Переключил на полную
производительность (примерно 2 кг перекиси в секунду). И тут началась огромная
дьявольская пульсация. Весь газогенератор трясло. Не успел я сообразить, что
предпринять, как раздался взрыв. Разлетелся вдребезги реактор. И тотчас же взо-
рвался бак с перекисью водорода. Что-то пролетело у меня над головой, на пульт
посыпались стекла от верхнего окна. Я выключил газогенератор, но в этом уже не
было необходимости: его просто не существовало.
Я оглянулся и похолодел. Все окружавшие меня люди лежали среди оскол-
ков стекла на полу. "Неужели всех убило, и я один остался живой, поскольку сто-
ял ближе всех к пульту?!" - мелькнула мысль. Но моя первая реакция на проис-
шедшее оказалась, к счастью, ложной. Люди начали один за другим подниматься.
Из-за пульта самописцев показался инженер по строительству Евдокимов. На его
рабочем столе, который находился за этим пультом, лежал тот самый злополуч-
ный алюминиевый лист толщиной 20 мм, которым я "защитил" окно. Не встал с
пола только конструктор насосов Шишкин, которого подняли и отнесли в другую
комнату. Тут вскоре на столе и он пришел в себя. Его незначительно поцарапала
над бровью какая-то щепка, и от испуга он потерял сознание.
После этого взрыва было принято решение построить три железобетонные
раковины: две непосредственно около здания и одну, для особо опасных работ,
метрах в 20-30 от него. В раковинах и размещались газогенераторы или другие
объекты, в частности турбина, специально предназначенная для разрушения при
"разносе", то есть превышении нормального (около 5000 в минуту) числа обо-
ротов.
Были и менее мощные взрывы. Один из них произошел при следующих об-
стоятельствах. Обычно на испытания со всей лаборатории собирались лаборанты,
для того чтобы по специальному сигналу, подаваемому обычно через каждые пять
секунд, фиксировать на специальном листе бумаги показания приборов. При этом
алюминиевый патрубок манометра на линии перекиси водорода заполнялся водой
во избежание непосредственного соприкосновения перекиси с латунной трубкой
Бурдона. И вот однажды механик, видимо, из-за небрежности не залил воду. И
когда после сигнала все "живые" фиксаторы нагнулись, чтобы записать показа-
ния, вблизи одного из них раздался небольшой взрыв. Лопнула трубка Бурдона, и
ее осколки полетели во все стороны. И надо же было случиться, чтобы в этот мо-
мент в комнату вошел начальник 1-го отдела и один кусочек латуни угодил прямо
ему в лоб и поранил его.
Все это я пишу и вспоминаю для того, чтобы показать, в каких элементар-
но-примитивных условиях проводились в то время наши испытания и экспери-
ментальные исследования. Немного позже для специалистов высокого ранга по-
казывался секретный фильм о соревновании СССР и США в области ракетостро-
ения. Сам я не видел, но мне рассказывали. Были сняты работы с ракетной техни-
кой у них и у нас. В США "белые воротнички" с наилучшими инструментами и
приборами "колдуют" над ракетой, в СССР же рабочий с кувалдой в руке "дово-
дит ракету до ума". Но вот пуск. Американская ракета поднимается и взрывается,
едва оторвавшись от старта, русская же летит и попадает прямо в "колышек".
В этот период была проведена в Советском Союзе денежная реформа. Это
было накануне нового, 1947 года. Нас, работников, которые жили буквально от
зарплаты до зарплаты, да и тех, кто имел вклады в сберегательной кассе, она не
затронула. Пострадали те, кто имел деньги в "кубышке". Но в магазинах стали по-
являться товары по приемлемым ценам, все больше и больше. И постепенно ста-
новились дешевле. Так что вскоре буквально всем можно было обзавестись и ме-
белью, и приемником. Стиральные машины, холодильники, телевизоры были еще
предметом роскоши, но если сэкономить, то можно было купить в свободной
продаже даже легковой автомобиль. Так же постепенно улучшались и дела с про-
дуктами.
18 марта 1947 года у меня родился сын, Артемий, так я назвал его по деду.
Вскоре меня назначили начальником группы и стенда "250". Его построили
для испытания мощного, нашей конструкции, турбонасоса. Для последнего был
сооружен кирпичный корпус, а для мощного газогенератора при нем - железобе-
тонная раковина. Все это было спроектировано пленными немцами-
конструкторами и срочно сделано. Так же в темпе был разработан, изготовлен и
экспериментально отлажен турбонасос - первый агрегат для нового двигателя.
Пока создавался новый стенд, я был назначен начальником бригады для от-
работки редуктора. Он был немецкой конструкции, и после нескольких пусков
начинал издавать дребезжащий звук и настройка его сбивалась. В бригаду входи-
ли конструкторы, производственники и испытатели (не нашего отдела). Была ис-
пробована масса вариантов изменения схемы. В этом очень активно участвовал и
Д.Д. Севрук. Следил за этими испытаниями и вновь назначенный директор заво-
да, будущий заместитель министра, Лев Архипович Гришин. Я был обязан каждое
утро приходить к нему и докладывать. Но ни одно предложение практически ни-
каких результатов не дало.
И вот на носу уже и летные испытания первой нашей ракеты, изготовлен-
ной по немецкому образцу. В.П. Глушко собирает совещание специально по ре-
зультатам отработки редуктора давления. Мне, как младшему по должности среди
собравшихся, было предоставлено первое слово. "Мое мнение - допустить разре-
шением главного конструктора редуктор на летные испытания ракеты, а отработ-
ку продолжить", - высказался я. Соображения выступивших после были различ-
ными, но заключение главного полностью соответствовало моему предложению,
хотя и было более пространным и витиеватым. Но я более на совещания к
В.П. Глушко никогда не приглашался.
На время экспериментов с редуктором я полностью был отстранен от отра-
ботки реактора с твердым катализатором. Я видел иногда, что его после заправки
трясли на вибрационном стенде. Но ни в режимы, ни в технологию не вникал и в
составлении инструкции по зарядке реактора не участвовал, даже не знал, что та-
ковая существует.
И вот меня неожиданно включают в состав бригады летных испытаний.
Д.Д. Севрук поставил передо мной вполне определенную задачу: составить по ре-
зультатам испытаний отчет нашего ОКБ параллельно с официальным. К тому же
мне поручают везти на полигон целый тюк секретных и совсекретных докумен-
тов. И в назначенный день я, оформляя бумаги в 1-м отделе, запоздал к моменту
вылета и тем задержал всю компанию.
Интересен был перелет. Едва поднялись, как начальник главка авиационной
промышленности (если не запамятовал, им был тогда Еремеев) достал бутылку
коньяка и предложил всем выпить по стопочке за благополучный полет и за то,
чтобы не укачало. Бутылка с серебряной стопочкой пошла по рукам. И я не отка-
зался. Лишь В.П. Глушко не поддержал компанию. Он сразу же улегся на какой-
то матрац и так и пролежал до посадки. А во время приземления скатился под
лавку (летели на грузовом самолете, на котором не было сидений, а лишь лавки
по бортам) и его стошнило в тот момент, когда летчик выходил из кабины. "Стра-
вил при посадке!" - прокомментировал тот.
Мы прибыли, когда 1-й отдел еще не был развернут. Нас с Г.В. Лисеевым
поместили вначале в обычный купейный пассажирский вагон. И я, забросив тюк с
секретной и совсекретной документацией в ящик под нижним сиденьем в купе,
несколько дней занимался подготовкой к испытаниям, оставив важнейшие бумаги
безо всякого присмотра. После того как 1-й отдел открыли, я сдал свой опасный
груз. И в нем вдруг не оказалось какого-то документа. Запросили 1-й отдел ОКБ, и
все выяснилось: его не положили, а в сопроводительной записали.
Вначале мы тарировали некоторые измерительные приборы, контролирую-
щие параметры двигателя. Все они были установлены на щите, который привезли
в специальном закрытом металлическом ящике. Показания фиксировались фото-
аппаратом, снимавшим приборы через определенное время, заданное на реле.
Установили щит вблизи нового испытательного стенда для ракет. А последний
был смонтирован над оврагом, в котором рос прекрасный сад.
Вскоре первое испытание состоялось. После него фруктовые деревья горе-
ли. Пока ракету еще не сняли со стенда, мы забрались во вместительный прибор-
ный ящик и, отвернув на входе в насос трубку от манометра давления спирта,
нацедили его ведро. Поставили около ящика солдата для охраны, и ушли к себе.
Следующим днем было воскресенье. Мы пришли, сняли охрану и отнесли ведро
спирта для использования "по назначению". Все это происходило на так называе-
мой технической позиции, где мы жили, кушали, принимали по утрам холодный
душ, вечером смотрели кино. Здесь был и ангар для ракет, и различные мастер-
ские.
Приходилось не раз наблюдать пуски ракет и с огневой позиции, которая
была расположена километрах в тридцати от технической. Могу вспомнить два
казуса при летных испытаниях. В это время на полигон понаехало много всякого
народа, были среди них и слушатели какой-то академии - полковники, подпол-
ковники, майоры. Главные конструкторы и их помощники следили за пусками из
специального бункера. Все же прочие, и я в их числе, располагались у находяще-
гося примерно за три километра от стартового стола военного городка для солдат,
которые обслуживали подготовку и проведение испытаний.
При очередном пуске, как всегда, все эти слушатели, и еще кто-то, и я сиде-
ли на краю заросшей травой канавки. Ракета отделилась от стартового стола и
стала медленно подниматься. И вдруг двигатель заглох, и она сначала останови-
лась, а затем, всё более ускоряясь, стала падать на место старта. И все эти полков-
ники, подполковники и майоры бросились бежать под прикрытие палаток и доми-
ков солдатского городка. Лишь немногие, и я в том числе, не побежали, а легли на
землю. Никакого взрыва при падении ракеты не произошло, а лишь возник боль-
шой пожар.
Другой случай, драматический для В.П. Глушко, произошел еще в процессе
подготовки к летному испытанию. Вдруг отказал редуктор приборного щитка
стартового (ПЩС), а запасного не оказалось. С.П. Королев, как начальник старта
(или что-то вроде этого), вышел в центр собравшихся и громко приказал: "Глушко
ко мне!". Тот немедленно предстал. И тут произошло такое, чего я не ожидал: СП
стал поносить В.П. Глушко самыми последними словами, не стесняясь и самых
отборных нецензурных выражений. И в заключение дал команду: "Даю Вам час
на устранение неисправностей".
В.П. Глушко отошел, как побитая собака, потихоньку подозвал Г.В. Лисеева
и поручил ему исправить или заменить редуктор. Неисправный же с ПЩС сняли,
и мы вдвоем устремились на машине на техническую позицию. Там запасного ре-
дуктора не оказалось, и Георгий Васильевич стал в тупик. Тогда я предложил для
устранения негерметичности редуктора (а дело было именно в этом) разобрать его
и снять тонкий слой металла с клапана. Г.В. Лисеев некоторое время колебался.
Он плохо был знаком с редуктором и тем более с его неисправностями. Я же все
это прошел, работая начальником бригады по доводке этого устройства. Но в
конце концов он все же согласился, так как положение было безвыходным.
Мы разобрали редуктор, обнаружили, что седло действительно имеет выбо-
ину в резине, и поручили самому опытному токарю снять часть металла с поверх-
ности клапана. После все снова собрали, проверили, и убедились, что герметич-
ность восстановлена. На машине примчались обратно, вставили редуктор в ПЩС,
и подготовка к пуску продолжилась. В срок, конечно, мы не уложились.
А вот третий случай, который потребовал от меня большой решимости. По-
дошло время испытания ракеты Р-2, полностью нашей, советской конструкции и
производства. В основном она отличалась тем, что двигатель на ней был большей
мощности благодаря увеличенной концентрации спирта. От начала до конца нами
был сконструирован и парогазогенератор с твердым катализатором и тороидаль-
ным баком для перекиси.
Вот с загрузкой катализатора и возникли трудности. Не оказалось инструк-
ции по заправке реактора. Да если бы она и была, то ни к чему, так как никто не
додумался привезти на полигон вибрационную машину. И хотя я к этому имел
лишь то отношение, что в свое время отрабатывал твердый катализатор,
В.П. Глушко лично на меня взвалил ответственность и за отсутствие инструкции,
и за то, что не привезли вибрационный стенд. "Раз так, заправляйте сами под свою
личную ответственность!" - безапелляционно заявил он.
Что мне оставалось делать? Провести зарядку или не выполнить распоря-
жение, а после доказывать, что я не верблюд (а ответственность была очень вели-
ка, ведь я сам был свидетелем взрыва реактора из-за пульсаций, а они могли воз-
никнуть и вследствие неправильной загрузки).
Зная буквально стороною, что на вибрационном стенде утрамбовывали ка-
тализатор, чтобы он в реакторе лежал плотнее, я попросил деревянный молоток и
под внимательным наблюдением кучи военных начал загружать реактор, посту-
кивая по катализатору. Закончил, поставил на место заглушку и расписался за
проведенную операцию. К счастью, пуск прошел блестяще: ракета пролетела бо-
лее 350 км (дальность немецкой Фау-2 была 240 км) и почти угодила в цель.
Итак, я дважды спас репутацию В.П. Глушко в трудных положениях и вы-
полнил основные задания по испытанию двигателей конструкции ОКБ. И вот за
это я один из всех был лишен премии, и мне стала даже известна реплика, бро-
шенная главным конструктором в мой адрес: "Путался под ногами!". Это когда
будто бы Д.Д. Севрук стал, по его словам, защищать меня. Но я не очень-то верил
заверениям моего начальника, что он в знак протеста, хотя и получил свою пре-
мию, но держит ее в сейфе. Доминик Доминикович даже открыл его и показал
мне пачку с деньгами, которые якобы собирался вернуть. Ну и, конечно, этого не
сделал!
Тогда же мною была разработана схема нового двигателя, и по эскизам он
был изготовлен в цехе лаборатории и испытан. Порядок работы его следующий:
перекись водорода разлагается предварительно на твердом катализаторе по фор-
муле 2Н2О2 = 2Н2О + О2, а затем в парогазовую смесь впрыскивается керосин.
Последний в этой смеси самовоспламеняется. Такая схема имеет ряд преиму-
ществ. Специального зажигания для компонентов не требуется. В конечной смеси
сгоревших газов, как показали расчеты, значительный процент воды, и благодаря
этому облегчается охлаждение камеры сгорания. У топлива в целом повышается
плотность, так как она сравнительно большая (1450 кг/м3) у перекиси водорода,
что благоприятно сказывается на конструкции ракеты. Как я уже отметил, двига-
тель был изготовлен и испытан. Но не все параметры были замерены.
Я подготовил заявку на изобретение, включив в нее Г.Н. Георгиевского и
А.П. Брилина. Благоприятную оценку она получила в НИИ-1 Минобороны и была
нами отправлена в Государственный комитет по изобретениям. Была эта заявка
направлена на отзыв и В.П. Глушко. Он дал отрицательную оценку, после того
как специально вызвал меня к себе и прочитал мне лекцию о выборе топлив. Од-
нако, несмотря на его отрицательный отзыв, авторское свидетельство нам было
выдано.
Заинтересовался этим двигателем и Д.Д. Севрук. Как-то он зашел ко мне на
стенд и, поглядев на чертежи камеры сгорания, на которых было написано "КС
двигателя ПВК", сразу же спросил, что это за аббревиатура, так как сразу же за-
подозрил, что присутствие в ней буквы К свидетельствует о моей претензии на
авторство. Но когда я сказал ему, что это означает "перекись водорода - керосин",
он разочарованно протянул: "А-а-а! Дел у вас мало, вот вы и занимаетесь всякой
ерундой".
Позже, когда я работал на Урале, мне пришлось присутствовать на заседа-
нии научного совета министерства, где В.П. Глушко докладывал о разработанном
в его ОКБ двигателе точно по этой же схеме, только вместо керосина была при-
менена какая-то металлическая суспензия.
В это время я брал всего два очередных отпуска, в 1948 и в 1951 году. В
первый раз ездил в санаторий "Аэрофлот" в Сочи, ранней весной. Впечатлений от
южной природы осталось много, и самых отличных. Лечебным процедурам под-
вергались в Мацесте. Как-то прогулялись морем на экскурсию в Гагру. В тот день
был небольшой шторм (что-то около четырех баллов), но на обратном пути я все
же почувствовал себя плохо. В целом же тот отдых воздействовал на меня благо-
приятно. Путевку мне "выбил" В.А. Орехов. Он же за время моего отсутствия пе-
реоформил отчет по твердому катализатору на себя (об этом я уже писал выше).
Где-то в этот период, а точнее 1951 году, я был принят в члены КПСС, вы-
двинут и избран депутатом городского совета. Участвовал в работе торговой ко-
миссии. Скоро показал себя как умелый разоблачитель в сфере торговли, а затем
меня стали привлекать и к работе в ОБХСС. Здесь я также успешно провел рас-
следование, и по моему заключению дела на явных жуликов были направлены на
судебное разбирательство.
Много, ох, много было всяких событий и казусов в эти годы. Погиб Вяче-
слав Иванович Лебединский, ночью, проявив особую бдительность, когда мон-
тажным отделом ремонтировались многотонные раздвижные ворота. Я тогда чуть
было из свидетелей не пересел на скамью подсудимых. Жаль его: хороший и
справедливый был мужчина, уже в среднем возрасте, высокий, всегда приветли-
вый и доброжелательный. А вот еще происшествие. Как-то после обеда на гильо-
тинных ножницах были обнаружены два отрубленных пальца. И только на другой
день было установлено, что они принадлежали механику. Он сразу же после не-
счастья убежал в больницу. Погиб Георгий Деменко, попав под поезд, когда, бу-
дучи нездоровым, ходил за лекарством в больницу. Это был наш молодой, но уже
со стажем, приобретенным в Казани, электрик. Умер Федор Никитович Волков,
лекальщик, с которым мы были в Германии, и соавтор нашего изобретения.
После отравления дихлорэтаном спасали одного из друзей нашего компрес-
сорщика. Позже от попадания внутрь организма четыреххлористого углерода
смерть настигла начальника химлаборатории Петра Николаевича Жилина. А не-
задолго перед этим он чуть было не отправил на тот свет и меня этим злосчаст-
ным растворителем. Дело было так. Я засиделся на работе, и тут звонит Петр Ни-
колаевич и говорит: "Зайди ко мне. Вот у меня и Владимир Андреевич". Захожу.
Сидит В.А. Орехов. Петр Николаевич залезает в лабораторный стол, достает ко-
нусообразную колбу, наливает мне в какую-то посудину спирт. Я иду к крану и
начинаю разводить водой. Разбавил до нужной кондиции и собрался было опро-
кинуть в рот. Но Владимир Андреевич меня остановил: "Наверное, посудина не
чистая. Какая-то муть". Я смотрю и вижу: что-то спирт с водой перемешивается
необычно. "Вылей!" - приказывает П.Н. Жилин. Я повторяю процедуру. И снова
останавливает В.А. Орехов. И вдруг Петр Николаевич хлопает себя по лбу и гово-
рит: "Да это я тебе по ошибке четыреххлористый углерод налил!". А сам вот спу-
стя некоторое время отравился этой же гадостью, во время работы, днем. И его
могли спасти, если бы прямо в заводской амбулатории сразу же сделали промы-
вание желудка. Но его повезли в больницу, и по пути он скончался.
Расскажу и еще о двух важных событиях, происшедших за этот период.
Вскоре по приезде в Москву я начал хлопотать о приеме меня на вечернее или за-
очное отделение моторостроительного факультета МАИ. Но в то время в Мини-
стерстве образования оказался Николай Васильевич Румянцев, бывший наш пре-
подаватель по авиадвигателям. Он был одно время у нас в КАИ и деканом. И все
мои "метанья" с факультета на факультет, с дневного отделения на вечернее рас-
сматривались им неодобрительно. Здесь же моя судьба попала в его руки. И
Н.В. Румянцев сразу же "зарубил" мои притязания поступить хотя бы на третий
курс института, сказав: "Поступайте на первый!" А так сделать я не мог, посколь-
ку у меня не было среднего образования, а лишь документ об окончании подгото-
вительных курсов. И стал привыкать к мысли, что мне высшего образования не
получить.
Но вот мы начали осваивать на стенде гидротормоз для изменения мощно-
сти турбины. Этот механизм сконструировал Лев Евстухов, профессор Москов-
ского авиационного института. Он приехал к нам на консультацию, и оказалось,
что он к тому же декан заочного отделения моторостроительного факульте-
та. Узнав о моем затруднении, профессор назначил мне время придти к нему в
МАИ с заявлением и документами. Я прибыл к сроку, и на заявлении он начертал:
"Принять с зачетом всех дисциплин, сданных на 4 и 5". Но, несмотря на это, мне
пришлось попотеть, сдавая предметы, которых не было на самолетостроительном
факультете. И пересдавать те, за которые получил тройки.
Как бы то ни было, оставив КАИ двенадцать лет назад как раз перед защи-
той дипломной работы, я завершил свое высшее образование, окончив Москов-
ский авиационный институт. Диплом защитил на отлично по теме "Ускоритель на
твердом катализаторе и перекиси водорода". Объяснительная записка состояла из
двух томов. В ней содержался расчет абсолютно всех агрегатов жидкостного ре-
активного двигателя. В его конструкции турбонасосный агрегат приводился в
движение от гидротурбины, а она питалась жидкостью от насоса, подключаемого
в нужный момент к основному двигателю внутреннего сгорания.
С окончанием МАИ и избранием меня депутатом городского совета совпало
и еще одно событие. Ему, видимо, способствовали и мои первые инициативы как
депутата по разоблачению преступных людей в хозяйстве города и иногда даже за
его пределами.
Как-то меня вызвали в партком завода. Там сидел незнакомый мне человек.
Секретарь парткома представил его как сотрудника НКВД и отрекомендовал ему
меня. Этот мужчина дотошно расспросил об основных фактах моей биографии и
неожиданно предложил мне поступить слушателем в Высшую школу НКВД, в так
называемый "хрущевский набор", потому что его, пояснил он, курирует сам Ни-
кита Сергеевич. Это было где-то в пятидесятых годах. Я посоветовался дома и на
работе. При этом Г.Н. Георгиевский, который, по его словам, работал в органах
НКВД, сказал, что это то самое, что мне нужно: "На той работе, на которой ты
сейчас, выше начальника отдела не вырастешь (надо отдать ему должное, он вер-
но оценил мои возможности), а там, после окончания школы, ты можешь стать и
областным начальником".
Я дал согласие и после этого несколько раз приглашался на Лубянку. Сна-
чала для того, чтобы заполнить подробнейшие анкеты, затем дважды на медко-
миссию, а потом на собеседование к какому-то начальнику (он мне показался
очень похожим на одного студента КАИ: когда я там учился, тот был парторгом).
Беседа была очень доброжелательной. Но вот отношения в этой организации мне
весьма не понравились. Когда я прибыл на собеседование, то по ошибке зашел не
в ту комнату, куда был выписан пропуск. Там сидело человек десять-пятнадцать.
И из дальнего конца кто-то, видимо, начальник этого подразделения, немедленно
грубо обратился ко мне: "Что Вам здесь нужно?". Я сказал, что пришел на собесе-
дование. "А какой номер комнаты у Вас записан в пропуске?" Я ответил. "Ну, так
что Вы лезете не туда? Закройте дверь!" Неприятно поразило меня и то, что окна
во всех помещениях были высоко вверху, этажом выше, а люди сидели как бы в
каменном мешке.
Забегая вперед, замечу, что позже, когда я только что перешел на новое ме-
сто работы у Д.Д. Севрука, последовал звонок из органов: меня приглашали прие-
хать. Разговор был долгим, и после многих моих недомолвок и умолчаний после-
довал резкий вопрос: "Так Вы отказываетесь?". Мне ничего другого не остава-
лось, как ответить: "Да, отказываюсь!".
ОКБ Д.Д. СЕВРУКА
Новое конструкторское бюро. Неожиданное предложение. - Назначе-
ние начальником отдела огневых испытаний. - Конфликты с руководством. -
Первые личные контакты с М.К. Янгелем. - Сотрудники и вышестоящие. -
ЧП в ходе испытаний.- Смерть И.В. Сталина и арест Л.П. Берии. - Учеба в
Академии оборонной промышленности и ее успешное окончание
Прошло совсем немного времени, после того как я оформил документы для
поступления в школу НКВД, как однажды в нашу группу пришел Д.Д. Севрук,
чтобы поговорить со мной конфиденциально. Когда мы остались вдвоем, он
неожиданно предложил мне перейти к нему в новую "фирму" начальником отдела
огневых испытаний с окладом 3000 рублей. Дело в том, что Доминик Доминико-
вич только что возглавлял комиссию по определению дефекта в конструкции иса-
евского двигателя. В конце пуска тот начинал вибрировать, и работники ОКБ
А.М. Исаева никак не могли отыскать причину. Д.Д. Севрук же в течение не-
скольких дней нашел. А дело было в отверстии, которое просверливалось в одном
из топливных заборников бака и не заглушалось, когда в нем уже не было по тех-
нологической цепочке более надобности.
Сразу же в верхних эшелонах власти возникли сомнения в соответствии
А.М. Исаева должности главного конструктора. Но его все же не сняли, а реши-
ли создать еще одно параллельное ОКБ для разработки двигателя ракеты проти-
вовоздушной обороны. Тогда это была задача первостепенной важности. На базе
двух отделов НИИ-88 было создано новое КБ, главным конструктором которого
был назначен Д.Д. Севрук, и ему было разрешено взять двадцать человек из со-
трудников В.П. Глушко. Так я стал одним из них.
Очень скоро меня перевели к новому месту работы. В ее самый первый день
мне пришлось быть на совещании Доминика Доминиковича Севрука и его перво-
го заместителя Глеба Михайловича Табакова, который был позже назначен
начальником объекта в Загорске, а еще позднее стал главным инженером одного
из главных управлений Министерства оборонной промышленности. Речь
шла о том, чтобы организовать в составе ОКБ два экспериментальных отдела. Из
разговора я понял, что их тематика будет близка и территориально они располо-
жены рядом. "А почему бы эти два отдела не объединить в один? Начальником
буду я, а мне Вы назначите двух заместителей", - совершенно неожиданно вырва-
лось у меня. "В самом деле, а почему бы и не сделать так?" - поддержал меня Д.Д.
Севрук. Так и решили.
Я заметил, что Г.М. Табаков недоволен таким результатом. И вечером он
решил проучить меня: повел знакомиться с новым отделом, затащил на крышу
испытательной станции, где было построено помещение пультовой, так называе-
мый стенд 5, и продержал меня на морозе (дело было в феврале) часа два-три. А я
был в летних ботинках и продрог основательно, но марку выдержал, дождался
испытания.
В дальнейшем мне придется все меньше приводить технические подробно-
сти, во-первых, потому, что с 1952 года я на двадцать пять лет стал в некоторой
степени администратором и много времени отдавал взаимодействию как с
начальством (главный конструктор, руководители секторов, групп), так и с рядо-
выми сотрудниками (инженеры-конструкторы, рабочие), а во-вторых, потому, что
чем ближе описываемые события, тем более я рискую раскрыть некоторые за-
претные темы, проекты, работы.
Итак, о взаимоотношениях. Вначале с Д.Д. Севруком они складывались хо-
рошо. Он в мои дела не вмешивался, у меня был непосредственным начальником
Г.М. Табаков. Да я и сам старался не дать повода для того, чтобы возникла необ-
ходимость повышенного ко мне внимания. Но постепенно положение менялось. Я
отказался выполнять его распоряжение о снабжении бензином его личной авто-
машины, хотя часто приходилось ездить на ней между городом, где я жил, и но-
вым местом работы. А уж тем более оставлял без внимания личные просьбы (сде-
лать какую-нибудь деталь и пр.). Но все это мелочи. Вскоре произошло событие, в
корне изменившее отношения между нами.
Как-то я заболел. И в мое отсутствие обсуждался вопрос, не кооперировать-
ся ли нам с ОКБ А.М. Исаева в создании двигателя для зенитной ракеты. У них
был уже хорошо отработанный жидкостный аккумулятор давления (ЖАД) для си-
стемы подачи горючего. А у нас были совсем неплохие результаты по созданию
высокоэффективной камеры сгорания, а подавать топливо мы предполагали с по-
мощью порохового аккумулятора давления (ПАД), который интенсивно отраба-
тывался в нашем отделе.
Только я появился на работе после болезни, как в тот же день ко мне в от-
дел пришел Г.М. Табаков и спросил: "За какое решение Вы были бы: или объ-
единить усилия с Исаевым и тем ускорить создание ракеты, или каждой организа-
ции делать собственную?". Поддавшись на провокацию, я сказал, что лучше, ко-
нечно, скорей разработать. Мое мнение было немедленно доведено до Д.Д. Се-
врука, который хотел, естественно, сконструировать собственную ракету (это был
очень честолюбивый человек). И он, как я узнал, отреагировал откровенно резко:
"Это удар ножом мне в спину!". Со мною же лично поговорить главный кон-
структор не счел нужным.
Вскоре мне потребовалась его помощь в противоборстве с отделом техники
безопасности НИИ-88. Но у него самого сложились не особенно благоприятные
отношения с М.К. Янгелем, тогда директором института. И Д.Д. Севрук мне этой
помощи не оказал. А наша испытательная станция постоянно наносила значи-
тельный вред окружающей среде, прежде всего, вследствие работы пятого стенда.
На нем испытывали двигатели на гептиле (так конспирировался чрезвычайно ядо-
витый компонент) и азотной кислоте (позже на окислах азота). Сам он был верти-
кальный, и под ним находился глубокий бетонный котлован, в котором между
пусками скапливалось большое количество остатков топлива, разбавленных во-
дой, которая лилась непрерывно. И во время испытания вся эта смесь пламенем
выбрасывалась вон и распылялась по всему огневому двору и окружающей терри-
тории, отравляя все и вся вокруг. Дело доходило до того, что некоторых механи-
ков, обслуживающих стенд в течение смены, рвало, выворачивало, образно гово-
ря, "наизнанку".
А невдалеке в закрытой зоне был проложен трубопровод снабжения Крем-
ля водою. И хотя, конечно, никакие вредные вещества в кремлевский водопровод
попасть не могли, но "дело" по этому поводу в то время ничего не стоило состря-
пать. Ведь проектирование и строительство новой испытательной станции полно-
стью курировал Г.М. Маленков. Однажды я познакомился с ее строительными
чертежами. И увидел глубокие глухие колодцы для расходных сосудов. Это по-
вергло меня в уныние. Виды этого нового, громадного сооружения, к созданию
которого я не приложил ни ума, ни рук, меня страшили.
И чувствовалось повышенное внимание вышестоящих руководителей к
нашей станции. Как-то мой заместитель Сергей Сергеевич Алимасов, запыхав-
шись, зашел ко мне и сказал: "На огневой двор пришел директор института и кто-
то с ним". Я немедленно вышел и увидел двух мужчин, стоявших у котлована под
пятым стендом и что-то обсуждавших. Лично мне М.К. Янгель не был знаком, и я
попросил его предъявить пропуск. Он небрежно вынул и сунул мне под глаза ка-
кой-то документ, и не успел я разглядеть, что это такое, как он спрятал его в кар-
ман. Пришлось довольствоваться и этим. Второй товарищ был, видимо, из мини-
стерства.
Они стояли и обсуждали вопрос о технике безопасности. К М.К. Янгелю,
оказывается, уже поступали жалобы об отсутствии таковой на стенде. Было много
нареканий и окрестных жителей. В частности, женщины, пройдя за забором в па-
рах азотной кислоты, а такое бывало, обнаруживали, что капроновые чулки от
разъедания становятся как решето. А я прекрасно знал, что Д.Д. Севрук и
М.К. Янгель настроены друг против друга. И при таких взаимоотношениях в лю-
бой момент может вспыхнуть скандал, в котором мне достанется роль крайнего. И
у меня начало созревать решение покинуть работу на этой испытательной стан-
ции. Что я в недалеком будущем и осуществил.
К месту будет рассказать об одном эпизоде, происшедшем вскоре после мо-
его первого знакомства с М.К. Янгелем. Как-то раздается в моей комнатушке зво-
нок: "С Вами говорит Янгель! Скажите, сколько человек работает у Вас на стан-
ции". В это время я был готов ко всяким провокациям, а потому ответил: "Этого я
Вам по телефону сказать не могу!" - "Тогда наберите мой номер и скажите!" Я
остался в недоумении, что делать. Словно нарочно, в этот день и Д.Д. Севрук, и
Г.М. Табаков были где-то в другой организации. Тогда я пошел к начальнику
нашего 1-го отдела (им была у нас очень симпатичная женщина), сказал ей о ко-
личестве работающих на станции, и она передала эти сведения через начальника
первого отдела НИИ-88. Когда я вернулся на станцию, С.С. Алимасов сообщил,
что снова звонил директор института и приказал мне явиться к нему в девять ча-
сов вечера. Что же, пришлось выполнять.
Я прибыл в приемную М.К. Янгеля несколько ранее. Пришлось какое-то
время подождать. Но вот он появился и, проходя к себе в кабинет, бросил: "Захо-
дите!". Первым делом он спросил: "Почему Вы днем не выполнили моего прика-
зания?". Я начал было объяснять, но он прервал меня: "Ну, дело не в этом. Сколь-
ко человек у Вас работает?" - "Сто тридцать". - "Так много! Так вот, с завтрашне-
го дня откомандируйте ваших механиков (он назвал фамилии четырех человек)
к... (конструктору обычных орудийных установок)". - "Но у меня и так люди все
время перерабатывают. Скопилось около двух тысяч неоплаченных сверхурочных
часов!" - "Подайте мне завтра список неоплаченных сверхурочных, я дам указа-
ние оплатить. Все, можете быть свободны!" И вот часов около одиннадцати вече-
ра я поехал домой поездом по двум железным дорогам.
Механики были командированы, но через пару дней вернулись, сказав, что
там им делать совершенно нечего. Перечень сверхнормативных работ я предста-
вил, и они были оплачены, что прибавило мне авторитета среди подчиненных.
С Г.М. Табаковым были вначале у нас весьма неприязненные отношения.
Началось с того, что я стал настойчиво просить его, чтобы В.П. Беспалов, один из
моих заместителей, освободил мой кабинет (небольшое помещение). Он сразу
взорвался: "Я более трех лет работаю без кабинета!" - и без всяких переходов: -
"Ваше отношение к партии?" - "Я член партии, депутат городского совета!" Глеб
Михайлович озадаченно замолчал (так получилось, что из всех переведенных из
ОКБ В.П. Глушко только я один был членом партии). В тот же день комнатушка
была освобождена.
Была и еще одна жесткая схватка с ним. Г.М. Табаков дал мне указание
приготовить один из резервуаров под окислы азота (в то время мы работали еще
только с азотной кислотой). Я поручил это дело С.С. Алимасову, своему замести-
телю. Оказалось, что для регистрации сосуда в котлонадзоре сначала нужно про-
вести рентгеновское обследование его сварных швов. Из-за этого подготовка не-
много затянулась. Но как раз накануне прибытия бригады рентгенодефектоскопи-
стов Глеб Михайлович налетел на меня: "Что Вы делаете для сдачи сосуда?" -
грубо спросил он. "Мы-то делаем! Вот завтра будем со специалистами просвечи-
вать швы рентгеновским аппаратом. А вот чем Вы помогли нам?!" Г.М. Табаков
не нашелся, что ответить.
Зато, когда начались гидравлические испытания сосуда, он лично принял в
них участие. Снял пиджак, стал засасывать воду ртом, чтобы начался ее перелив
самотеком. Я же стоял рядом, во всей этой возне не участвовал и думал: "Давай,
давай! Я-то уже прошел через все это, когда работал на пароходе и мастером в це-
хе. Теперь твоя очередь!".
Вскоре после этого мы стали приходить к взаимопониманию. Здесь разви-
тие ситуации во многом напоминало то, как складывались отношения во время
войны с Ф.К. Колесниковым. К нему Г.М. Табаков и по характеру был очень бли-
зок, хотя имел высшее образование, а тот был необразованный практик.
О моих двух заместителях. Прежде всего, о Викторе Петровиче Белякове.
Он должен был стать начальником другого предполагаемого отдела. Но я перешел
ему дорогу. И он уступил. А вскоре и вовсе перестал быть фактически моим заме-
стителем, оставаясь им лишь номинально только для того, чтобы получать зара-
ботную плату 2800 рублей. Д.Д. Севрук поручил ему вести одно из изделий ОКБ.
Он был очень спокойный, инициативный и дотошный человек, лишь очень рассе-
янный. Как-то нашли его портфель с секретными и совершенно секретными мате-
риалами на перегородках в туалете. Позже В.П. Беляков стал начальником отдела
по испытанию электродвигателей, затем главным инженером в Загорске, а в 1966-
м или в1967-м году назначен директором ВНИИкриогенмаша в Балашихе, где
наши пути вновь встретились, только на новых уровнях. Ходили разговоры, что у
него "рука" в ЦК КПСС, помощник Л.И. Брежнева Александров-Агентов.
Вторым, а вернее, фактическим моим заместителем был Сергей Сергеевич
Алимасов. Вот тут есть, что рассказать. Сам он ничего особенного собою не пред-
ставлял. Это был рядовой, трудолюбивый, исполнительный инженер, без особых
претензий. Но Алимасовых было два: Сергей Сергеевич и Лев Сергееевич. Они
были близнецы. Таких похожих людей я более не встречал. Оба были лысые, и
если бы пересчитать количество оставшихся волос на их головах, то, наверное,
оказалось бы совершенно одинаковое число.
Оба окончили МАИ. Экзамены им разрешали сдавать только одновременно.
Иначе одну дисциплину готовил бы Сергей и сдавал за двоих, а с другой точно
так же мог поступить Лев. Рассказывали об их первом рабочем дне. Они пришли
рано и уселись в разных комнатах. В одну из них заглянула уборщица. Видит: си-
дит новый человек. Прибрала и перешла в соседнее помещение. И там тот же са-
мый человек! Это техничку не на шутку озадачило. Она несколько раз проверила,
а после пригласила и других сотрудников подивиться.
Лев Сергеевич был секретарем комитета комсомола института. И вот так
случилось, что Сергей Сергеевич пошел на завод и к нему стали подходить секре-
тари комсомольских организаций цехов с сообщениями и за советами, и каждому
он неизменно отвечал: "А пошел ты от меня со своим комсомолом знаешь куда!".
Секретари в недоумении и с возмущением отходили.
В лаборатории я стал свидетелем такого случая. Сергей Сергеевич дал зада-
ние инженеру-электрику другого отдела разработать схему пульта управления для
какого-то объекта. И вот эта женщина-инженер зашла в наш отдел как раз тогда,
когда туда пожаловал Лев Сергеевич. Она выбрала момент, подошла к нему и
начала: "Сергей Сергеевич..." - "Я не Сергей Сергеевич!" Та в недоумении ото-
шла, но через некоторое время опять приступила: "Сергей Сергеевич, мы с Вами
договорились..." - "Я сказал Вам, что я не Сергей Сергеевич!" Тогда сотрудница
обратилась ко мне, и я объяснил ей ситуацию. Но она никак не могла поверить и
все вглядывалась во Льва Сергеевича, пока не появился Сергей Сергеевич.
Однажды и я чуть не сплоховал. Пошел на обед в столовую, которая была за
территорией института, и поскольку готовилось важное испытание, то всем нака-
зал: "Вы до моего возвращения никуда не уходите!". Пришел в столовую, получил
обед, кушаю и вдруг вижу: Сергей Сергеевич стоит в очереди к буфету (в то вре-
мя там постоянно продавали салаты с крабами). Первым моим импульсом было
подойти к нему и сделать выговор, но я уже знал о близнецах и воздержался. И
действительно, когда вернулся в отдел, Сергей Сергеевич был на месте.
Работали в отделе инженеры Цветков, Линде, Тавзаришвили, Мунистов.
Пару слов о первом и последнем. Глеб Цветков имел голос, очень похожий на го-
лос Г.М. Табакова, чем он не раз и пользовался, когда ему что-нибудь надо было
срочно изготовить для стенда. Брал трубку, звонил начальнику цеха и приказы-
вал: "Говорит Глеб! (его имя, словно нарочно, было то же самое) Ты побыстрее
там с такой-то деталью!". И неизменно следовал подобострастный ответ: "Слу-
шаю, Глеб Михайлович! Будет сделано!".
А Мунистов отличился тем, что очень просто стал заместителем Бориса
Петровича Жукова, одного из главных конструкторов. Тот не раз бывал в нашем
отделе по поводу испытаний пороховых зарядов и всегда посещал нас в сопро-
вождении молодой инженерши (не иначе как его любовницы). И вот Мунистов
женился на этой "девице" и перевелся в конструкторское бюро Б.П. Жукова.
Позже, когда я работал на Урале, мы с группой товарищей приехали в это КБ до-
говариваться о совместной деятельности. Долго ждали Бориса Петровича, но к
нам вышел его заместитель, тот самый Мунистов, видимо, после какой-то пьян-
ки. Уже ожиревший, с заплывшими глазами, он выглядел явно нездоровым. Ему
было не до переговоров, и он быстро нас спровадил. Меня бывший наш сотруд-
ник, конечно, не узнал.
Наиболее многочисленными и тяжелыми по последствиям тогда были ис-
пытания на стенде 5. При мне отрабатывали запуск и остановку двигателя. Когда
его выключали, обычно в воздух поднималось большое облако паров азотной
кислоты. Поскольку струю пламени создавали и прерывали часто и много раз, то
все в округе отравлялись: работники на огневом дворе и сотрудники окружающих
стенд лабораторий, а если ветер дул на многонаселенный жилой район, то и жите-
ли города.
Проводили и так называемую "проливку" средней части ракеты. При этом
все содержимое бака (азотная кислота) собирали прямо в небольшую яму под
проливочным стендом, а после нейтрализовали обычной содой. Однажды, тотчас
после испытания, возле наших сооружений появились министр общего машино-
строения Д.Ф. Устинов и директор института 88 М.К. Янгель. Они о чем-то до-
вольно долго беседовали. Я наблюдал издали, не решаясь подойти, так как наше
преступление действительно было налицо. Иногда отработанную азотную кисло-
ту в автоцистерне под вечер отвозили куда-нибудь подальше от городов и сливали
прямо в какой-нибудь одинокий овраг или котлован. А если прибавить к этому,
что совершенно рядом находилась лаборатория огневых испытаний А.М. Исаева
(где, правда, с техникой безопасности дело обстояло лучше), а еще в институте
действовало и ОКБ С.П. Королева с таким же испытательным подразделением,
которым руководил М.В. Мельников, то можно себе представить, какой они все
вместе наносили вред окружающей среде.
Из курьезных случаев помню два. Один произошел как раз во время испы-
тания двигателя на запуск с различными опережениями подачи горючего к окис-
лителю. Этот процесс курировал В.П. Беляков. Собралась большая комиссия и вся
неосторожно расположилась недалеко от стенда с подветренной стороны. А дви-
гатель, словно нарочно, остановился столь неудачно, что пролилось много азот-
ной кислоты, и огромное облако ее паров понеслось прямо на наблюдателей. Ско-
рость его была довольно значительной, и оно быстро превратилось в довольно уз-
кий азотно-кислотный коридор. Так из комиссии не нашлось ни одного, кто сооб-
разил бы отойти в сторону, а все они толпой стремглав бежали как раз по ветру, а
ядовитый туман их настигал и покрывал.
Другой случай произошел при испытании одной из зенитных ракет (были
они с названиями "Чирок", "Коршун" и т.п.). Стенд был смонтирован на грунте, а
пульт управления в наблюдательном пункте в кабине танка. Ракету опробовали в
наклонном положении. И вот не догадались положить под гусеницы тормозные
колодки. А наблюдатели спряталась за бронированной машиной в противополож-
ной от направления огневого потока стороне. И вдруг после запуска танк под дей-
ствием волны газов двинулся, ускоряясь, на комиссию. Можно представить пани-
ку, возникшую среди ее членов! Они стремительно улепетывали, а многотонная
махина их догоняла.
Кстати, правда, это было уже без меня, к С.П. Королеву как-то перед пус-
ком первой межконтинентальной ракеты приехал Н.С. Хрущев и спросил, а не
попадем ли мы случайно в Соединенные Штаты Америки. И кто-то сказал: "Ну и
что? Извинимся и все!". И как раз когда Никиту Сергеевича водили по территории
института и показывали "хозяйство", на станции Д.Д. Севрука запустили двига-
тель. Н.С. Хрущев поинтересовался, кто испытывает. СП ответил: "Да так, какой-
то полячишко копошится". А с этим "полячишком" они были в свое время боль-
шими друзьями и в качестве инженеров-испытателей посменно отрабатывали
ускорители В.П. Глушко непосредственно на самолетах.
За время моей работы у Д.Д. Севрука произошли два важных политических
события. Умер И.В. Сталин. Хорошо помню, что в день похорон мы выстроились
во дворе лаборатории и со всех сторон зазвучали заунывные гудки заводов.
И другое. Как-то, загодя придя в лабораторию, я сидел в своей комнатушке.
И вдруг заявляется возбужденный Лев Сергеевич Алимасов. Не говоря ни слова,
он берет стул, залезает на него, снимает со стены портрет Л.П. Берии (а он висел
напротив моего стола), бросает его на пол и начинает топтать. Оказывается, в
утренних известиях только что сообщили об аресте Л.П. Берии, как врага народа.
Я начал приступать все более настойчиво к Д.Д. Севруку с тем, чтобы он
перевел меня на работу в конструкторское бюро. К этому времени я теоретически,
да и практически был подготовлен к конструкторской работе. Окончил институт,
отлично завершил учебу на Высших инженерных курсах при МВТУ им. Баумана.
И надеялся занять должность ведущего конструктора по одному из изделий. Но
главный конструктор, обещая в дальнейшем когда-нибудь удовлетворить мои
требования, в то время никак не соглашался этого сделать.
И вдруг на территории института мне попалось на глаза объявление о набо-
ре слушателей в Академию оборонной промышленности. И я принял, вероятно, не
лучшее на то время решение: взял и подал туда заявление на конструкторский фа-
культет. И вскоре меня вызвали в приемную комиссию. Впечатление произвел
хорошее, только один из членов обратил внимание на то, что я совсем недавно
окончил институт (хорошо, что у них не было моего диплома Высших инженер-
ных курсов). Но председатель отрезал (был недобор, а он отвечал за комплектова-
ние): "Ну и что из этого? Поучится еще, умнее будет!". И меня зачислили.
А затем письмом на имя директора НИИ-88 я вызывался 1 сентября на уче-
бу в академию. Последовал соответствующий приказ по институту. Д.Д. Севрук
был в это время в командировке на полигоне. Он оставил Г.М. Табакову строгое
распоряжение не отпускать меня ни под каким видом, но тот, пригрозив мне раз-
личными карами, препятствовать не стал, исходя из своих соображений противо-
борства с главным конструктором.
Два с половиной года учения в академии, которая была расположена в Кун-
цево, пролетели быстро. Из слушателей нашей группы сохранились воспомина-
ния лишь о некоторых. Помню Петра Николаевича Мосолова, бывшего ближай-
шего сотрудника С.А. Лавочкина. К сожалению, Петр Николаевич умер от гипер-
тонического криза в 1970 году. А в тот самый год судьба свела нас вновь в Крио-
генмаше с однокашником по академии Николаем Борисовичем Павловым (в Ба-
лашихе мы жили в одном доме, разъехались и сейчас часто перезваниваемся по
телефону). Нельзя забыть об Антонии Яковлевиче Трофимове, который был моим
товарищем по прежней работе, и мы проживали в одном доме. Антоний Яковле-
вич, о котором я мог бы многое рассказать, вскоре после окончания академии за-
болел энцефалитом и долгое время был совершенно парализован. В нашу группу
попал и бывший мой сотрудник Кузьмин, но он вскоре был отозван по той при-
чине, что его отец, большой военный начальник, как выяснилось, был в плену у
немцев. Параллельно с нами на техническом отделении учился и прежний мой то-
варищ Виктор Васильевич Корнилов, с которым мы когда-то посещали подгото-
вительные курсы КАИ.
Из преподавателей очень хорошо помню Г.Б. Снегирева, Чернышева, Разу-
меева (все из МВТУ). Последний, собираясь ехать на лекции, умер, приподняв-
шись на цыпочках за шляпою. Отдельные разделы читали работники опытно-
конструкторских бюро: Сенкевич (от А.М. Исаева), В.П. Беляков (от Д.Д. Севру-
ка), Вельт (от В.П. Глушко) и еще некоторые.
Н.Б. Павлов, П.Н. Мосолов и я дружили. И при Петре Николаевиче у нас
никогда не было никаких проблем с продуктами. Дело в том, что его жена работа-
ла директором крупного гастронома, и обычно нам было достаточно составить
перечень того, что нам нужно, и после получить все по списку в столе заказов
при этом магазине.
Закончил я академию аттестационной работой, посвященной критике той
самой книги В.П. Глушко, которая и побудила меня практически заняться реак-
тивной техникой. Как известно специалистам, у него эффективность горючего
оценивается по высоте полета ракеты, или только по суммарному баку ракет, или
исходя лишь из стартового веса (массы). Это некорректный подход. Я это подме-
тил и сразу увидел, что категорическое заключение В.П. Глушко, будто жидкий
водород как один из компонентов топлива реактивных двигателей не имеет буду-
щего, абсурдно.
Определить лучшее горючее можно, сравнивая ракеты одного стартового
веса, но при этом необходимо учитывать его оптимальное отношение к тяге и при
данном ее значении также реальный вес (массу) двигателя. И лучше оценивать
эффективность топлива не по высоте, а по дальности полета ракеты с учетом по-
терь на преодоление силы тяжести и сопротивления атмосферы, и вместе с тем
совершенно нельзя упускать из вида суммарный удельный вес (плотность) топли-
ва. В общем, требуется ввести в расчет хотя бы элементарные результаты реаль-
ного проектирования ракеты. Полученные в академии знания позволили мне про-
вести именно такие, чрезвычайно обширные, вычисления. При этом я использовал
где логарифмическую линейку, а где механический арифмометр, который для
этого купил.
На предварительной защите аттестационной работы присутствовал прорек-
тор академии Юрий Александрович Победоносцев. Он прослышал о ней, и так
как был большим другом Валентина Петровича, то явился, видимо, чтобы специ-
ально уличить меня в недостаточной для критики В.П. Глушко технической гра-
мотности. Помню, что формула дальности полета ракеты, которая была приведена
на одном моем листе, начиналась с коэффициента с, который учитывал форму го-
ловной части. Вот за него-то и ухватился Ю.А. Победоносцев: "Скажите, а что
означает коэффициент с и каково его значение?". Я точно и обстоятельно ответил.
"Знает!" - изрек Юрий Александрович голосом, в котором звучала смесь удивле-
ния и пренебрежения. Дескать, удивительно, что знает, но куда тебе тягаться с
ученостью В.П. Глушко. Сразу же встал и ушел из аудитории.
Аттестационная работа была оценена на отлично, и диплом мне выдали с
отличием и даже премировали 500 рублями, что записали в мою трудовую книж-
ку как первое поощрение. Забегая вперед, отмечу, что больше всего премий и бла-
годарностей мной получено в ОКБ "Южное" за десять лет работы с 1960 по
1970 год. А тогда, окончив Академию оборонной промышленности в марте 1956
года, я был направлен на Урал в КБ Виктора Петровича Макеева. Дождался дня
рождения сына и через день уехал в Златоуст к новому месту работы.
ЗЛАТОУСТ. ОКБ В.П. МАКЕЕВА
Снова начальник испытательного отдела.- Обустройство станции. -
Сослуживцы, руководители. - Опять внимание спецслужб. - Испытания и
эксперименты. - Взрывы на стенде. - Несчастные и смешные случаи. - Не-
которые взаимоотношения с сотрудниками, расстановка кадров. - Партий-
ное разбирательство и его итоги. - Назначение начальником конструктор-
ского отдела. - Новое теплоизоляционное покрытие камеры сгорания. - Бо-
лезни дочери. - Решение переехать на Юг
Хотя весна еще только начиналась, в тот год на Урале она чувствовалась
вовсю. В день приезда светило солнце, текли с гор первые ручейки. Прекрасно
помню, как в приподнятом настроении я пошел вечером к Дворцу культуры. Он
стоял на значительном возвышении над городом. И едва я поравнялся со зданием,
как справа, наискосок от него, небо озарилось пламенем и раздался грохот реак-
тивного двигателя. И тотчас из Дворца культуры выскочила большая группа не-
одетых молодых людей. Все они следили за секундными стрелками на часах. Ис-
пытание окончилось. "Удачно!" - раздалось в группе, и все отправились обратно.
"Работники ОКБ", - подумал я.
А уже на другой день предстал перед В.П. Макеевым. Когда я вошел, он
сидел в окружении своих заместителей и первым его вопросом ко мне был:
"Узнаете?". Я порылся в памяти и, не кривя душой, ответил: "Нет!". Уже спустя
некоторое время вспомнил: да ведь это переведенный по какому-то случаю в
КАИ бывший студент Московского авиационного института, с которым в сту-
денческие годы мы однажды разговорились в выставочной комнате. А вот теперь
это главный конструктор Виктор Петрович Макеев.
Он повел меня к директору завода, который считался официальным руково-
дителем предприятия, а главный конструктор ОКБ был как бы в его подчинении.
На самом деле все было наоборот. Такой порядок формально был установлен для
того, чтобы освободить Виктора Петровича от любых хозяйственных, финансо-
вых и прочих забот, и он мог бы полностью отдаваться конструкторской деятель-
ности.
Директор завода Емельян Максимович Ушаков взял было инициативу в
свои руки и предложил назначить меня исполняющим обязанности начальника
отдела и дать зарплату 2500 рублей. Но В.П. Макеев спокойно, не повышая голо-
са, сказал, что начальником и с окладом 3000 рублей. Директор тотчас согласился.
После этого я отправился в свой отдел. Он находился на окраине террито-
рии завода и представлял собой испытательную станцию, аналогичную той, что
была у Д.Д. Севрука с тремя огневыми стендами. Вблизи отдельно стоял стенд
для проливки средней части ракеты, и еще один небольшой для испытания на
герметичность шаровых сосудов для газообразного азота.
Склады резервуаров для компонентов топлива и других жидкостей находи-
лись на удалении примерно 200 метров от стендов. К ним подходила железнодо-
рожная ветка. В общем, все было гораздо лучше и совершеннее, чем у Д.Д. Се-
врука, просторнее, и станция была построена уже с некоторыми элементами тех-
ники безопасности. Огневой двор, предназначенный для испытания двигателей в
горизонтальном положении, имел лоток из нержавеющей стали, куда попадали
все отходы компонентов, которые разбавлялись водой и сливались в специальный
нейтрализатор. Он оказался полуразрушенным, и я первым делом занялся строи-
тельством нового.
Непосредственно перед моим приездом, ночью в протекающую рядом реку
Ай по халатности было слито 30 тонн перекиси водорода из целиком заполненной
цистерны. Видимо, по этой причине руководитель отдела, которого я должен был
сменить, лежал в больнице с инфарктом. Он не был специалистом по ЖРД, а ра-
ботал до этого начальником цеха одного тульского оружейного завода, который
был во время войны эвакуирован на Урал. Дней через десять прежний заведую-
щий вышел из больницы, зашел в отдел, поздоровался со мной, забрал из сейфа
партийный билет и простился. Никаких передач дел, никаких разговоров у нас с
ним не было. Скоро я узнал, что он уволился и уехал к себе в Тулу.
С самого начала большую тревогу вызвали у меня наполненные компонен-
тами трубопроводы, проложенные к стендам под землей, и расположение пульта
заправки в какой-то бетонированной яме. "Вот, - размышлял я, - случись какое-
нибудь нарушение герметичности в то время, когда в этой яме будет находиться
кто-нибудь из обслуживающего персонала, и будет несчастный случай, да еще не
исключено, что со смертельным исходом". Такое случилось у А.М. Исаева: там
механик полез устранить течь в каком-то кране под большим шаровым сосудом.
Внезапно шар резко разгерметизировался. На человека хлынула азотная кислота,
и он погиб на виду у других сотрудников. Позже они рассказывали об этом с
устрашающими подробностями, что будто у несчастного вылезли глаза из орбит и
т.п. Мы с помощью только что назначенного мною начальника группы заправки
Хмары проложили новые магистрали и пульт заправки установили на открытой
площадке.
Другие срочные меры предосторожности были приняты, чтобы обезопасить
испытания пиропатронов при отрицательной температуре. Эти изделия помещали
в спирт и заливали для охлаждения жидким кислородом прямо из сосуда Дьюара.
Смесь сама по себе не воспламенялась, но я уже имел опыт, что это до поры до
времени и мы от печального случая не гарантированы. Чтобы разделить компо-
ненты был изготовлен и помещен в емкость со спиртом змеевик. К одному его
концу была приварена воронка, куда и заливали хладагент. Возникли разногласия
с главным механиком станции Рыжковым (тоже только что мною назначенным)
насчет того, где, вверху или внизу, установить воронку. Для меня было совер-
шенно ясно, что нужно кислород подавать снизу, так как он, испаряясь, будет без
сопротивления подниматься. Но Рыжков спорил. Сделали все же, по-моему, и все
оказалось в порядке.
Ко времени моего вступления в должность был подготовлен к сдаче специ-
альный стенд для испытания шаровых баллонов, в которых на борту ракеты хра-
нится сжатый газообразный азот. Главный механик Павпертов с ходу попытался
сдать его мне, но я принять отказался, так как заметил серьезные недоделки. Мои
возражения обсудили на оперативке у главного конструктора, и тот безоговороч-
но поддержал меня. Павпертову пришлось устранять недостатки. Вначале он оби-
делся, но после у нас наладились дружеские отношения.
Начальником стендовой группы оказался молодой (на десять лет моложе
меня) выпускник Казанского авиационного института Георгий Александрович
Овчинников. И очень много работников ОКБ также окончили КАИ. И в дальней-
шем состав сотрудников, в том числе и моей испытательной станции, пополняли в
основном из этого вуза. Среди них был Владимир Петрович Котельников (сам из
Елабуги, и одной из учительниц у него была Галя Терентьева, моя одноклассница
по ШКМ), Ненароков, Сафьян, Токтаров, а также выпускники других институтов:
Казимиров, Братских, Назарова. Начальницей химлаборатории, которая была рас-
положена в здании при складе продуктов, была Раиса Семеновна Казакова. Не
всех, к сожалению, я запомнил. Все это пополнение я получил, кажется, примерно
год спустя после прихода на работу к В.П. Макееву.
Работали мы дружно со старшим военпредом капитаном Сергеем Анатолье-
вичем Панашеевым. Он был строгий, когда дело касалось кардинальных вопро-
сов, а вообще-то любил пошутить, "поточить лясы". У него был заместитель Ни-
колай Васильевич Камайделов, нудный, дотошный человек, видимо, не особенно
хорошо разбиравшийся в двигателях, в то время как Сергей Анатольевич в этом
отношении был на голову выше своего подчиненного.
Майор Иван Дмитриевич Костин был старшим военпредом в цехе баков.
Контролировал от военной приемки их сварку. После отставки некоторое время
преподавал сварочное дело в каком-то техникуме уже в Калинине.
Из высшего руководства я встречался здесь, на Урале, прежде всего с Львом
Архиповичем Гришиным, бывшим директором завода в Подмосковье, а теперь
уже заместителем министра, с Николаем Константиновичем Рудневым, тоже зам-
министра, Виктором Александровичем Сапсельцевым, главным инженером глав-
ка. Приезжал к нам и главный конструктор Алексей Михайлович Исаев, когда од-
но время у нас ему подчинялись экспериментальная лаборатория и часть бюро,
курирующая двигатели. Некоторое время нашим предприятием руководил Ецевк
Айрапетович Гульянц, бывший до этого директором одного из заводов в Удмур-
тии и, насколько я знаю, хорошо знакомый с Дмитрием Федоровичем Устиновым.
Нет возможности хронологически и подробно восстановить все события во
время моей работы на Урале. Остановлюсь лишь на некоторых. Вначале я жил в
двухместном номере заводской гостиницы в одном помещении с майором Иваном
Дмитриевичем Костиным, прибывшим в Златоуст в один день со мною. Там же
проходную комнату занимал старший лейтенант строительного батальона. В
дальнейшем в квартире из трех комнат я получил две (в третьей жил слесарь с за-
вода). Пока я был один, мы с майором расположились в проходной комнате выде-
ленного мне жилья, а в другую пустили нашего военного строителя, к которому
приехала семья. Но он прожил с нами не долго. Его куда-то перевели.
И старший лейтенант устроил для нас прощальную встречу на берегу рас-
положенного неподалеку пруда. И вот, когда мы уже основательно подвыпили, он
признался, что его попросил представитель спецслужбы ОКБ, некто Шкодский,
специально следить за мною. Больше меня этим фактом был возмущен И.Д. Ко-
стин, я же отнесся к этому спокойно. Эра Сталина-Берии миновала, и не было за
мной ничего, что бы не укладывалось в законодательство страны.
Но слежка имела продолжение, и в отношении меня этим Шкодским была
предпринята настоящая диверсия. Как-то я прихожу на работу, и мой сотрудник
Волков, который оставался очередным дежурным по отделу на ночь (у нас непре-
рывно работала бойлерная, и там, кроме дежурного, была еще и бойлерщица),
сразу же подошел ко мне и сказал: "А у Вас, Борис Александрович, ночью был
обыск. Приходили люди, и я в окно видел, как они вскрывали Ваш сейф, а также
забрали осциллограммы, лежащие на столе".
А в сейфе, кстати, у меня был заперт приемник. Его мне принес в первые
дни моей работы старший механик Борис Михайлович Субботин: "Возьмите на
всякий случай!". И, словно, между прочим, добавил: "К нему можно сделать при-
ставку, и он будет служить передатчиком". Я хотел было отказаться. Действи-
тельно, зачем он мне? Но после подумал: подрастет сын, а вдруг он будет зани-
маться радиолюбительским делом, как я в детстве? Так этот приемник будет ис-
точником для него различных радиодеталей. И я взял. И спрятал его в сейфе.
Действительно, войдя в лабораторию, я обнаружил, что нерасшифрованные
осциллограммы, которые мы сняли вчера и оставили на ночь для просушки на
столах, исчезли. Я немедленно связался с В.П. Макеевым по телефону и сообщил
ему, что произошло. Он ответил неожиданным вопросом: "А больше ничего у те-
бя не нашли?". - "Ничего!" - "Тогда работай спокойно дальше!"
Как-то у меня в подразделении побывали практиканты с выпускного курса
одного вуза. И вскоре после их отъезда в 1-м отделе в одной из папок обнаружили
отсутствие совершенно секретного документа - общего вида двигателя. Специ-
ально командированным сотрудником пропажа была найдена в чемодане под кро-
ватью у одного из приезжавших к нам студентов (он не успел "содрать" этот эскиз
в свой дипломный проект и по дурости похитил его из секретного дела). После
этого случая Шкодский был переведен на другое место работы.
Но вот, возвращаясь к тому дню обыска, я вспоминаю, что на выходе из ла-
боратории мне встретился И.Д. Костин. Он пришел за пол-литровой бутылкой
спирта, который был ему нужен для каких-то хозяйственных целей. После моего
рассказа о ночном происшествии он вдруг спросил: "А ты можешь заниматься од-
новременно двумя делами?". Подумав, я ответил: "Могу, вот, скажем, руковожу
лабораторией (отделом) и работаю над диссертацией". - "Ты не понял меня!"
Действительно, лишь позже мне пришло в голову, что он имел в виду, а именно:
не могу ли я работать советским специалистом и в то же самое время иностран-
ным шпионом.
Многие события полностью мной осознаются только через значительное
время. И позже, восстанавливая все происходившее тогда факт за фактом, я при-
шел к выводу, что и Борис Михайлович Субботин, который принес мне в первые
же дни трофейный приемник и сделал намек, что его легко можно приспособить
под передатчик, и Борис Михайлович Николаев, которого я позже принял в по-
мощь Б.М. Субботину (тот, находясь на должности старшего механика, выполнял
как бы роль завхоза лаборатории, причем весьма добросовестно и даже с рвени-
ем), - оба крепкие молодые люди, явно отличавшиеся своим здоровьем, упитан-
ностью и сообразительностью от всех других механиков, были агентами спец-
службы. И что обыск у меня в ночное время с вскрытием сейфа (смотрели, в ка-
ком состоянии трофейный приемник, а я его и пальцем не трогал) провели с со-
гласия В.П. Макеева, хотя он, видимо, и сопротивлялся, и поставил, может быть,
какие-то условия, в соответствии с которыми и был переведен с предприятия
Шкодский, особенно после этого случая с краденым совершенно секретным до-
кументом, пропажу которого он тоже, возможно, вначале пытался связать со
мною.
Подозреваю сейчас и моего хорошего друга, с которым у нас были теплые
отношения во все время работы в Златоусте и позже, когда он уже демобилизо-
вался и жил в Калинине, Ивана Дмитриевича Костина в какой-то принадлежности
ко всей этой компании. Так, уже в первые дни нашей жизни в гостинице он при-
гласил меня поехать в город и там завел на какой-то пустырь. И я помню, что то-
гда у меня возникли подозрения, что это военпред сделал для того, чтобы сооб-
щить мне что-то особо важное, особо секретное. А на самом деле он, может быть,
ждал "откровений" от меня. Сейчас думаю, что и утром после обыска И.Д. Костин
не даром оказался в моей лаборатории под предлогом получения от меня спирта.
Я так подробно на этом здесь остановился, так как на следующем месте работы,
на Украине, мне снова пришлось решать подобную непростую задачу.
Теперь кратко об испытаниях и экспериментах на стенде. В основном "от-
рабатывали" один из двигателей А.М. Исаева, который уже был опробован и гос-
ударственной комиссией сдан на производство в серию. Но как-то у нас в его ка-
мере сгорания была выявлена пульсация давления. Вначале, еще до моего прихо-
да в отдел, от конструкторского бюро разработчика много раз делегировали спе-
циалистов, чтобы найти отличие нашего стенда от исаевского. Но все было тщет-
но. Тогда Алексей Михайлович, как рассказывали, пошел в правительство и вы-
ложил там все ордена, в том числе Золотую Звезду Героя Социалистического
Труда, и "покаялся", хотя каяться ему абсолютно было не в чем.
А двигатель сдавали серийно на заводе. И от каждых десяти испытывали
один, и если обнаруживалась пульсация, то пускали еще один. Если и он пульси-
ровал, то всю партию браковали. Испытания проводили в два пуска. Иногда, кро-
ме обычных, серийных, выполняли и экспериментальные. Так, в одном из опытов
включили двигатель с заведомо разболтанными в гнездах форсунками. Все про-
шло благополучно.
А однажды к концу рабочего дня я был приглашен в кабинет Е.М. Ушакова.
Там сидело все начальство, в том числе и В.П. Макеев, который спросил: "Что
нужно, чтобы к утру закончить десять испытаний двигателей с новой конструкци-
ей клапана?" - "По тысяче рублей за каждое!" - не долго думая, ответил я. "Хо-
рошо!" - согласился главный конструктор. Я быстро вернулся в лабораторию, со-
ставил бригаду из десяти-двенадцати человек, в которую вошли и токарь, и два
механика (один старший). Объяснил, что от них требуется. Первый двигатель
должны были вот-вот подать. Я ушел домой и лег спать как обычно, но всю ночь
просыпался от грохота испытаний. А когда утром пришел в лабораторию, послед-
ний, десятый двигатель снимали со стенда. Наступило уже воскресенье, и, при-
брав все на станции, испытатели ушли отдыхать, заработав за ночь чуть ли не ме-
сячную зарплату механика (1000-1200 рублей).
Еще были проливочные испытания на новом, пятом стенде (он только что
был смонтирован и вступал в эксплуатацию). Я до этого не имел опыта такой ра-
боты. И первая же попытка прошла "комом". Включили проливку - а ничего не
происходит. Это Арнольд Яковлевич Полис, он здесь был ведущим, позабыл, что
перекрыт доступ от шарового баллона. Тут он хлопнул себя по лбу, на пульте все
выключили. Арнольд Яковлевич вышел, открыл вентиль, и после этого все про-
шло по режиму.
В один из летних периодов (то ли в 1957-м, то ли в 1958-м году) потребова-
лось срочно провести десять проливочных испытаний средних частей ракет.
Обычно каждое из них занимало два дня. В первый, подготовительный, устанав-
ливали среднюю часть на стенд, подключали все приборы. На второй день с утра
заправляли ее компонентами, завершали последние проверки, проводили пуск,
опрессовывали баки. Затем испытанную часть промывали и снимали со стенда. А
тут была поставлена задача выполнять все это за один день. В.П. Макеев согла-
сился на аккордную оплату труда. Для этого всех участников сняли с оклада,
предложив то ли по 3000, то ли по 5000 рублей за испытание.
И работа пошла. Собирались к шести часам утра. Устанавливали уже приве-
зенную среднюю часть на стенд, присоединяли датчики давления с осциллогра-
фами, термопары с самописцами. После этого заправляли изделие, и где-то к кон-
цу рабочего дня проводили испытания. Затем опрессовывали и промывали баки и
освобождали стенд. Это бывало уже в десять-одиннадцать часов вечера. На этом
деле все заработали прилично, каждый механик до 3000 рублей за десять дней.
Также я фактически получил второй оклад. Все прошло, как говорится, без сучка,
без задоринки.
Кстати, к моему приезду механики и старшие механики получали только
зарплату (1000-1200 рублей). Премии им, как объяснили мне в ОТИЗе, не полага-
лось. Но я-то знал, что в Подмосковье таким работникам выплачивалась в конце
месяца 40%-ная премия. И поехал в Москву. Долго ходил по министерским каби-
нетам и доказывал, что мои механики, как и в Подмосковье, относятся не к ИТР, а
к рабочим. В конце концов доказал, получил письменные разъяснения для ОКБ о
выплате премий и приехал довольный. Были весьма обрадованы и механики, и
мой авторитет еще более повысился.
В то время к нам наведывались специалисты - инженерные работники из
ОКБ-2. Один из них очень возмущался, что мы опрессовывали баки воздухом, а
не газообразным азотом, и предрекал мне, что я однажды при этой операции взо-
рву горючее. Я после его пророчества сделал простой расчет, и получилось, что
если в баке при 5 атм (давление прессования) и произойдет взрыв, при стехиомет-
рическом содержании горючего в воздухе, то давление в любом случае не подни-
мется выше допустимого (рабочее значение было несколько выше 30 атм при
температуре стенки 480 оС). Но все же бак однажды взорвался.
Очень занятно вспомнить и, наверное, будет интересно читать об экстре-
мальных ситуациях при отработке изделий на стенде в Златоусте. Их было до-
вольно. Но прежде чем писать о них, нужно немного подробнее рассмотреть весь
испытательный процесс. Однажды выявился непонятный феномен: неотделяюща-
яся головная часть ракеты вдруг стала отрываться. Это происходило при останов-
ке двигателя. По этому поводу много раз совещались у главного конструктора.
Меня к нему не приглашали, а я и не напрашивался.
Но вот однажды В.П. Макеев решил посоветоваться и со мною. Он пришел
на испытательную станцию и стал обсуждать создавшуюся ситуацию. И тогда я
предположил, что дело может быть в ЖАДах, которые были расположены как раз
под головной частью. Возможно, теряют герметичность трубопроводы баков топ-
лива и азотной кислоты или только горючего, и в пространстве скапливается
смесь из его паров и окислителя или воздуха. И когда двигатель останавливают,
искра от негерметичных пиропатронов поджигает эту смесь. Происходит взрыв,
который и разрушает связь головной части с ракетой.
В.П. Макеев ухватился за эту мысль. Решено было немедленно поставить
опыт. В отделе нашли бак окислителя, прикрепили к нему стандартными болтами
имитатор головной части, приспособили форсунку ("топка"), распылили некото-
рое количество горючего и включили пиропатрон. Раздался небольшой хлопок, и
головная часть отлетела в сторону. Пригласили целую комиссию, эксперимент
повторили - тот же результат. Тогда было решено каждую испытываемую сред-
нюю часть снабжать имитатором головки. Он был довольно тяжелым, и установка
его требовала немалого труда.
Вскоре после этого, когда на заводе "сидел" Н.К. Руднев и мы готовились
провести сразу последовательно несколько проливочных испытаний (дело было в
конце года), один за другим произошли два взрыва с разрушением всех коммуни-
каций на стенде. Вот как это было. Вначале все шло как обычно. Во время проли-
вок все время фиксировали на самописцах температуру стенки баков. Истинные
ее значения сообщали по срочной связи из комнаты самописцев в пультовую для
сведения ведущего процесс. Обычно этим занимался сам Г.А. Овчинников, кото-
рый к этому времени был уже моим заместителем. Эта температура не должна
была превышать 480 оС. Так оно и было во время испытания. И вдруг, уже после
его прекращения, по связи зазвучали тревожные сообщения: 460, 480, 500, 520 оС
(не помню уже последнюю цифру). И бак горючего взорвался. У нас даже не было
времени что-то предпринять, да и не могли мы ничего сделать, так как такая не-
штатная ситуация не была предусмотрена.
Когда мы вышли к месту взрыва, то увидели, что покорежена не только вся
средняя часть, но очень серьезно пострадал и стенд. Преимущественно были раз-
рушены все коммуникации управления и измерительные системы. Разорвались и
подвески средней части. Стали восстанавливать стенд и выяснять причины. Они
оказались простыми. При сборке средней части на ЖАДе перепутали жиклеры:
тот, что служил для окислителя, поставили на линию горючего и наоборот (они
имели одинаковую резьбу). Так что "сладким" газом топливо выносилось, а его
недостаток каким-то образом восполнялся, и оно сгорало в "кислом" газе непо-
средственно в своем баке. Но поскольку в нем окислительная среда сохранилась и
после пуска, то горение продолжалось, пока бак и не лопнул от повышенного дав-
ления при сильно разогретой стенке.
К счастью, на складе оказался необходимый котел и термопары были в за-
пасе. За три дня все коммуникации были восстановлены. (Нужно отдать должное
оперативности и энергии Михаила Иосифовича Ревзина, начальника приборной
группы лаборатории.) Были срочно изготовлены и подвески средней части. Чер-
тежей их не нашли, но начальник цеха Барановский взялся воспроизвести эти
приспособления по образцу. Подвески скопировали и даже сделали толще преж-
них. Времени испытывать их на прочность уже не было, и мы ограничились тем,
что несколько раз подняли залитый водой бак окислителя и ударили им подвески,
то есть провели динамические испытания, хотя и при меньшей нагрузке, но удар-
ные, чего, по нашему мнению, было достаточно.
К проливке тщательно подготовились. Прозвучала команда "Пуск!", и вдруг
я вижу в смотровое окно, как средняя часть начинает опускаться на имитатор дви-
гателя. Магистрали окислителя и горючего были разрушены, все полилось и сме-
шалось, и на стенде начался грандиозный пожар. Первое, что пришло мне в голо-
ву: "Оборвались подвески!". Ведь они не были испытаны по всем правилам. При-
шел главный инженер, кто-то из свиты Н.К. Руднева. Я некоторое время находил-
ся в лаборатории, но почувствовал, что морально, психически не выдерживаю.
Попросил главного инженера заменить меня при ликвидации аварии и ушел до-
мой спать.
На другое утро выяснили, что подвески были сделаны из стали 45, очень
хрупкой и невосприимчивой к удару. Но все-таки причина аварии была другая.
Взрыв произошел под имитатором головной части (сильно разгерметизировались
трубопроводы ЖАДа). И катастрофа могла случиться именно тогда, когда стар-
ший военпред С.А. Панашеев, контролер ОТК, двое механиков и я на верхней
площадке с трудом устанавливали на среднюю часть головной имитатор. Соб-
ственно говоря, тогда же могло разорвать и подвески. И мы находились на краю
гибели. Моя догадка, видимо, была верна. Истинную причину аварии знали толь-
ко свидетели, о чем и доложили В.П. Макееву (я в это время, снимая психическое
напряжение, спал дома), а тот счел целесообразным ее скрыть, свалив все на
прочность подвесок. Я уверен, что и от меня утаили действительную причину по-
жара - взрыв под головным имитатором в средней части.
Стенд начали восстанавливать вторично. Опять все было сделано сверхопе-
ративно. Третий пуск прошел благополучно. И когда я после него доложил об
этом Н.К. Рудневу (не помню, кто надоумил меня это сделать, кажется, главный
инженер), тот грозным голосом лишь проговорил: "Попробовал бы ты только
провести и этот пуск со взрывом! Да я бы тебя живого закопал под стендом!". Что
это было - не совсем умная шутка, или меня ждала какая-то расправа, - я не могу
сказать. Во всяком случае, никаких официальных взысканий я не получил, да и не
за что было.
Случались и такие крайне опасные события, что дело могло закончиться ги-
белью человека. Как-то утром я пошел посмотреть, что делается на стенде дли-
тельного хранения заправленных изделий. Для него быстро построили здание у
самых входных ворот на лабораторную территорию. Стенд оснастили, выделили
на смену по два механика и лаборанта. Могу засвидетельствовать, что В.П. Маке-
ев был очень разумный человек, и я ни единого раза не встретил его сопротивле-
ния или даже хотя бы серьезного недовольства в отношении всех моих нововве-
дений. Никогда и ни в чем он мне как начальнику отдела не отказывал и не жу-
рил. Так вот, едва я пришел на этот стенд (дело было в зимнее время) - звонок со
станции. Сообщает Хмара: "Борис Александрович, Медведева облило кислотой и,
кажется, глаза выжгло!". Как я мчался к лаборатории, в зимнем пальто - а я ведь
уже был немолодой, мне было за сорок, - вспоминать всегда нелегко. Но вот при-
бегаю: с горки, где расположен склад продуктов, спускается с обожженным ли-
цом, но зрячий, Медведев, механик. Это был крепыш, низенький, широкогрудый
и сильный, недавно демобилизованный из армии. У меня отлегло от сердца.
Оказалось, он включил насос, перекачивающий кислоту из транспортного
сосуда в складской. И надо же такое случиться, что в агрегате возникла течь (сей-
час уже и не помню, в каком месте), и струя кислоты брызнула, как назло, прямо в
лицо Медведеву. Выключатель стоял в помещении насосной. Механик закрыл
глаза, но их ело. Тогда он ощупью, не поднимая век, нашел канавку, по которой
всегда протекала вода, и промыл лицо. При этом, как после рассказал, думал од-
но: "Если окажусь слепым, то тотчас же покончу с собой". А он дружил с одной
девушкой, инженером из группы расшифровки. Вскоре они сыграли свадьбу.
За время моей длительной работы на стенде я несколько раз был свидетелем
того, как кислотой обжигали лицо, при этом она попадала иногда и в область глаз.
Но у органов зрения такая быстрая реакция, что я не знал случая, когда бы они
оказались поврежденными.
Еще было происшествие, хоть и несколько драматическое, но вместе с тем и
смешное. На стендах были установлены специальные воронки, куда сливали (в
небольших количествах) компоненты: в одну - отработанную кислоту, в другую -
горючее. Но вот механики обнаружили около стендов то ли сурковую, то ли кро-
товую норку и стали травить ее обитателя, сливая туда небольшое количество
топки. А однажды вместо нее плеснули в норку кислотой. Почва вокруг настолько
пропиталась топливом, что произошел небольшой взрыв, и пламенем обожгло од-
ного из механиков. Серьезного ожога он не получил, а выговор ему был вынесен.
А вот совсем анекдотичный случай. Как-то В.П. Макеев сообщает по теле-
фону, что ему звонили из пожарной охраны и просили понарошку устроить возго-
рание, а затем срочно вызвать пожарную команду: они проверяют боеготовность
личного состава, а кроме того, испытывают только что полученный ими пенога-
ситель.
Нам устроить искусственный пожар труда не составляло. Недалеко от стен-
дов стоял прямоугольный бак, в который регулярно сливали горючее. Мы взяли и
подожгли его с поверхности. По телефону я вызвал пожарников. Примчалась ма-
шина с командой. Развернули какой-то рукав, и из него хлынул поток пены. Вско-
ре огонь был потушен. Довольные пожарные начали сворачивать свою аппарату-
ру, как вдруг в баке снова вспыхнуло пламя. Вновь принялись его тушить. И так
несколько раз. Я недоумевал, по какой причине воспламеняется горючее. Когда
же огонь в конце концов был укрощен и пожарные уехали, механики стенда пове-
дали мне причину всего случившегося. Оказывается, они незаметно подвели к ба-
ку тонкую трубочку с азотной кислотой и, как только борьбу с пламенем заканчи-
вали, открывали скрытый внутри стенда краник. В бак поступал окислитель, и
топливо вспыхивало вновь.
Этот случай напомнил мне небольшой эпизод, которому я стал свидетелем
во время Великой Отечественной войны. В цехе был установлен фонтанчик с пи-
тьевой водой. Вода образовывала невысоко струйку. Я подошел было попить, но
фонтанчик вдруг "взбесился" и ударил меня сильной струей в нос. Я отпрянул.
Струйка воды мирно текла. Опять было наклонился, на этот раз с опаской. И сно-
ва мощная струя воды. Тут я догадался. Проследил, куда идет трубопровод, и об-
наружил за одной из колонн детдомовца, манипулирующего водяным краником.
Теперь имеет смысл немного осветить некоторые мои взаимоотношения с
сотрудниками. Как я уже отметил, в целом они были всегда корректными и доб-
рожелательными. Но на двух конфликтных ситуациях нужно остановиться.
Среди тех инженеров, которые в 1957 году пришли ко мне в лабораторию,
был, как уже упомянуто выше, Владилен Петрович Котельников. Он окончил ин-
ститут с отличием. И я, познакомившись с ним, решил сделать его ведущим ин-
женером второго стенда, который был предназначен для исследовательских и
экспериментальных работ. Я предполагал, что на нем он лучше, чем кто-либо
другой из вновь прибывшего пополнения, справится с задачами. На первый стенд,
где проходили серийные испытания, я поставил Ненарокова, так как полагал, что
там он сможет наиболее надежно обеспечить безаварийную работу. И как оказа-
лось, я не ошибся в своем назначении. Он, хотя и не имел "красного" диплома,
оказался очень способным инженером, несколько педантичным в исполнении
всех инструкций и правил, был спокойным и рассудительным человеком. Такой
ведущий специалист там и требовался.
В это время нашей главной задачей были именно серийно-
экспериментальные работы на первом стенде, и они проводились очень интенсив-
но. На втором же испытания только еще предполагалось развернуть. Поэтому я
назначил Ненарокову оклад в 2000 рублей, а Котельникову на 200 меньше. При
этом я имел в виду, что интересная работа на первых порах с лихвой компенсиру-
ет эту разницу, а далее я, естественно, и ему прибавлю оклад. Но Котельников
оценил это совсем не так. Он посчитал себя обиженным и пришел ко мне с пре-
тензиями, мол, ему, окончившему институт с отличием, дали меньший оклад,
нежели Ненарокову. И как я не убеждал его, как не доказывал, этот инженер-
отличник остался при том мнении, что его права ущемили.
Позже я убедился, что расставил обоих именно по их качествам. Котельни-
ков, несмотря на "красный" диплом, оказался человеком рассеянным, непункту-
альным. А при подготовке стенда к испытаниям нагрузка была очень большая, и
он мог допустить отступление от кондиций. И мое решение осталось неизменным.
А позже, когда Г.А. Овчинников был избран секретарем парткома, вместо
него своим заместителем я сделал В.П. Котельникова. А еще через некоторое
время, после моего вступления в должность начальника конструкторского отдела,
опять же он заменил меня. А уже когда я перевелся на новое место работы, его
назначили главным инженером нашего завода, а в дальнейшем устроили на такую
же должность или даже директором крупнейшего предприятия в Красноярске. И
произошло это вопреки сопротивлению областных руководителей, которые на
этот престижный пост имели свою кандидатуру. Но конец В.П. Котельникова пе-
чален. Он заболел якобы язвой желудка, и ему была сделана операция. Но то ли
язва переродилась в злокачественную опухоль, то ли первоначально это был рак,
но он где-то в семидесятых годах скончался. Такой быстрый взлет, такая успеш-
ная карьера - и смерть в возрасте не более тридцати лет!
Другой конфликт произошел у меня с инженером-электриком Братских, ко-
торый прибыл с пополнением 1957 года. Часто случалось, что мы немного не
успевали справиться с испытанием одного двигателя (два пуска) за рабочее время,
которое составляло в лаборатории шесть часов. И тогда приходилось работать
сверхурочно. Механики охотно соглашались, так как оплата за это была повы-
шенной. Инженеры, хоть и без особого энтузиазма, но тоже на это шли, так как
задерживались обычно не долго.
Но вот Братских всегда категорически отказывался под предлогом каких-то
важных дел. А однажды просто демонстративно ушел в четыре часа с работы, не
приняв участие в испытании двигателя. Я объявил ему выговор. Он официально
обжаловал это взыскание, сначала обратившись ко мне, а затем к В.П. Макееву.
Но тот его не поддержал. Тогда он пожаловался сначала в местную профсоюзную
организацию, а поскольку она ему отказала, то пошел выше, в областные инстан-
ции.
И тогда в лабораторию прибыл инспектор по технике безопасности, не
местный уже, а то ли областного масштаба, то ли какого-то регионального. Он
был беспристрастен. Вник в технологию испытаний, понял, что они не могут быть
перенесены, а должны быть обязательно закончены в тот же день. В этом случае
привлечение к сверхурочной работе вполне обоснованно и работник обязан ее ис-
полнить. Проверяющий, исходя из этого, жалобу Братских оставил без послед-
ствий и не поддержал его. Нужно сказать, что во время этого конфликта отноше-
ния между нами оставались вполне хорошими. Шел лишь принципиальный спор.
И когда позже я работал на Украине и туда перевелся и Братских, то мы с ним
встретились как старые, хорошо относящиеся друг к другу сослуживцы.
Еще об одном. В начале моей работы в лаборатории был у меня в отделе
инженер Почтенный. Здоровый, представительный молодой человек. Но имел по-
рочное пристрастие к спиртному. Как-то я оставил его дежурным на станции 1-го
Мая. И он умудрился так напиться на работе, что его удалили дежурные по пред-
приятию, и потом в газете появилась заметка "Непочтенное поведение Почтенно-
го". Позже его перевели в подразделение внешних испытаний. Уже работая на но-
вом месте, он был помещен для лечения от алкоголизма в специальную клинику в
Уральске. Вышел оттуда, вроде бы излечившись от алкогольной зависимости.
Как-то при встрече он сказал мне: "Знаете, вот бываю на различных застольях с
друзьями. Все выпивают, а меня совершенно к этому не тянет, а даже противно
думать о водке!". Но, видимо, это излечение не стало окончательным. Уже рабо-
тая на Украине, я узнал, что он снова запил, да так, что его пришлось поместить в
психиатрическую клинику в Сарапуле, и там он покончил с собой, выбросившись
из окна третьего этажа. А жена его, оставшись вдовой, конструктор, женщина
видная, вышла замуж за моего старшего механика Б.М.Субботина.
По поводу злоупотребления сотрудниками алкоголем было возбуждено
партийное дело и против меня. Собственно говоря, начато оно было ранее, когда
случились два взрыва средней части на пятом стенде. Но в то время к нам на
предприятие приехал главный инженер министерства Л.А. Гришин. Он как-то по-
звонил мне, спросил, работает ли у меня душ, и пришел к нам в лабораторию. По-
сле душа он зашел в мою комнату, и мы, как старые знакомые, разговорились. Я
откровенно рассказал ему о своем положении, пожаловался и на то, что до сих
пор живу в коммунальной квартире. Сообщил также, что меня обвиняют в авари-
ях на двух пусках, пытаются отнести на мой счет убытки от этого (около миллио-
на рублей) и доказывают, что на эти деньги можно было бы построить два пяти-
этажных дома.
Лев Архипович за меня вступился. Пояснил руководству, что это совсем не
те деньги, на которые ведется строительство, и что, вообще, при испытательной
работе возможны и всегда бывают некондиционные и аварийные пуски. Помог он
мне и с квартирой. В скором времени сдавали новый дом, и нам дали в нем двух-
комнатную квартиру, хотя я и ожидал, что просто отселят слесаря, и моя семья
останется в трех комнатах.
Партийное дело до времени приостановили. А в нем был заинтересован
парторг завода Владимир Александрович. Он сам провинился. Купил на заводе
уцененную машину и продал ее гораздо дороже. Получил выговор. Так что при
ближайших перевыборах ему пришлось бы оставить место в парткоме. Он пони-
мал это и заранее подбирал себе должность на предприятии. Раньше этот наш
парторг долго состоял сотрудником спецорганов, будучи выпускником Казанско-
го авиационного техникума, и поэтому считал, что работа начальником испыта-
тельного отдела будет ему вполне по силам.
И вот представился случай вновь продолжить мое "дело". В каком-то году
на майские праздники мной был назначен дежурным по отделу в ночь с 30 апреля
на 1 мая Анатолий Четвериков. К нему как раз приехал отец, и до дежурства этот
наш сотрудник был отпущен домой. А у дежурного комиссия принимала помеще-
ния лаборатории на праздничные дни. Я заранее приготовил и поставил в шкаф
графинчик с настойкой спирта на мандариновых корочках. И вот из окна вижу:
бежит, в буквальном смысле мчится к станции главный механик Павпертов, а за
ним поспешает и вся комиссия в полном составе. Конечно, ничего осматривать и
принимать они не стали, а сразу завалились ко мне в кабинет, и "мандариновка" с
закуской пошла в ход.
В самый разгар распития открывается дверь и в комнату входит Четвериков,
уже навеселе (встречал отца), и провозглашает: "Вы тут пьете, а я что, хуже вас?".
Пришлось налить и ему. Да еще я оставил грамм 200 спирта, для того чтобы зав-
тра поутру после дежурства можно было опохмелиться. Но он не стал дожидаться
завтрашнего дня, выпил все сразу. И устроил на станции скандал, принявшись го-
няться по лаборатории за бойлерщицей. Со станции был удален дежурными по
предприятию. Вдобавок к этому чуть ли не все члены комиссии были задержаны
на проходной, и на них был составлен акт, что находились в нетрезвом состоянии.
Вот мое "дело" снова поднялось на поверхность. Разбиралось оно на парт-
коме завода; предварительно работала комиссия, во главе которой был начальник
отдела кадров Ващуркин. Он и делал вступительный доклад. Чего-чего только в
нем не было! Меня обвиняли в рвачестве, со ссылкой на денежные оплаты экс-
тренных работ по двигателям и средним частям, и в нанесении огромного ущерба
государству, и даже совершенно лживо утверждалось, что работников в лаборато-
рию принимал не я, а мой главный механик Рыжков, хотя ни один человек, будь
то инженер или механик, не стал нашим сотрудником помимо меня. В заключение
предлагалось дать мне выговор или строгий выговор.
Затем доложил я. Остановился лишь на улучшении техники безопасности в
лаборатории, на подборе кадров. Работы в этом смысле было довольно много.
После стали выступать члены парткома. В.П. Макеев напрочь отмел обви-
нения в рвачестве. И защитил меня в целом, но отметил, что я слишком много дел
присваиваю себе лично: "По докладу начальника отдела получается, что у него
были только успехи. Буквально по выражению: "Пришел, увидел, победил". А
ведь ему помогали и другие люди!". В этом Виктор Петрович был прав. Даже о
своей помощи нашему подразделению умолчал, видимо, из скромности. А ведь и
в подборе кадров он открыл мне "зеленую улицу". И ни одно мое нововведение ни
разу не запретил или хотя бы в чем-то не одобрил, даже если оно поначалу ему не
особенно нравилось, как это было, например, с прокладкой наземных трубопро-
водов взамен подземных.
Присутствовавший на парткоме Е.А. Гульянц задал лишь два вопроса: "Чем
объяснить, что Вы так вольно обращались со спиртом, и Ваших ли рук дело спаи-
вание предмайской комиссии?". На первый вопрос я ответил вполне чистосердеч-
но, что тут виноваты старые традиции, которые существовали на прежних местах
моей работы, а что касается комиссии, так она, мол, у меня не выпивала и ушла
из отдела вполне трезвой. Он отнесся снисходительно к ссылке на традиции, а в
отношении комиссии сказал: "Молодец, что не выдаешь своих сотрудников!".
В результате обсуждения по предложению В.П. Макеева мне то ли постави-
ли на вид, то ли вынесли предупреждение. Так закончился подкоп под меня. По-
сле перевыборов бывший парторг был назначен начальником технического отде-
ла. И мне стало известно, что он устраивает дома пьянки со своими сотрудница-
ми: ученицами, копировальщицами, работницами архивов и пр.
Вскоре была удовлетворена и моя давнишняя просьба: я был назначен
начальником конструкторского отдела по пороховым двигателям во вновь орга-
низованном филиале ОКБ-2 (А.М. Исаева), управлял которым Александр Яковле-
вич Яковчин, очень хороший специалист, как и мои коллеги и подчиненные руко-
водители подразделений. Отделом жидкостных ракетных двигателей стал заведо-
вать Николай Сергеевич Данилов. Во главе конструкторского сектора я поставил
молодого специалиста Кошкина, а начальником ракетного - Щукина.
Прежде всего, мы разработали эскизный проект двигателя, который был
утвержден А.Я. Яковчиным, В.П. Макеевым и одобрен инженером военной при-
емки Данько. После этого началась доводка его узлов, но много мы сделать не
успели. Начали с тепловой защиты сопла двигателя. Я помню, что именно над
этим бился Д.Д. Севрук, когда отрабатывал пороховую зенитную ракету "Чирок".
Чем только он не пытался защитить сопло, но все было бесполезно. Теперь для
решения этой проблемы мне и в одиночку, и в составе группы конструкторов В.П.
Макеева пришлось ездить в командировки в различные организации Москвы.
В связи с этим мы с коллегами однажды побывали в ОКБ Б.П. Жукова в
Подмосковье. Приехав туда рано утром, долго ждали, когда нас примет главный
конструктор. Но он так и не появился. Уже довольно поздно с нами встретился
его заместитель, которым оказался мой бывший старший инженер Мунистов, что
женился, как я уже писал, на любовнице Б.П. Жукова. Глаза у него опухли, руки
дрожали. Он был явно после перепоя. Ничего полезного у них мы не узнали.
Я бывал на многих предприятиях и в учреждениях, начиная с полукустар-
ной мастерской, где изготавливали огнеупорные покрытия, и кончая Министер-
ством обороны, где знакомился с проектами пороховых двигателей разных кон-
структоров. Повезло нам в Московском институте стали им. И.В. Сталина. Там
разработали особо огнеупорный салицированный графит. Мне так не терпелось
применить его для покрытия сопла двигателя, что я даже совершенно неправиль-
но поступил: спрятал большую болванку этого материала под пальто и пронес его
через вневедомственную охрану.
Приехав на Урал, решил испытать это теплозащитное покрытие на одном
из двигателей. Для этого от штатной камеры сгорания отрезали охлаждаемое соп-
ло и изготовили из него неохлаждаемое, которое могло быть соединено фланцем
с камерой. Это наше изделие, выполненное из стали, покрыли внутри теплоза-
щитным слоем из асбеста, а затем уже туда вставили и заделали оболочку из са-
лицированного графита.
У всякого здравомыслящего человека не возникло бы никакого сомнения,
что делать нужно именно так. Но вот мы горячо поспорили с Кошкиным, который
обязательно хотел сделать наоборот: сначала ввести вставку из салицированного
графита, а после покрыть ее внутри теплозащитным слоем. До сих пор не могу
решить, то ли этот мой специалист был совершенно неграмотным в вопросах теп-
лопередачи, то ли навязывал мне угодное кому-то решение, чтобы в самом начале
моей конструкторской деятельности меня постигла неудача.
Я настоял на своем, и мы провели испытание в бывшем моем отделе. Оно
длилось 200 секунд. Сопло отлично выдержало пробу: абсолютно никаких изме-
нений, хотя через него и истекали раскаленные газы со скоростью до 2000 м/с.
Даже следы обработки на токарном станке остались на салицированном графите
безо всяких последствий воздействия огненной струи.
Кстати, я нашел свою бывшую станцию в каком-то запустении, хотя и наде-
ялся на В.П. Котельникова, оставляя лабораторию на его попечение: на террито-
рии грязь, лоток огневого двора залит смесью компонентов топлива и водой,
нейтрализатор не действует.
Рассказывая о пребывании на Урале, хочу поделиться впечатлениями об об-
становке, складывавшейся в конструкторском бюро А.Я. Яковчина. Его замести-
телем был Михаил Иванович Шаламов, а в отделе ЖРД у Данилова то ли началь-
ником группы, то ли старшим инженером работал в то время Догужиев. И вот он
и Шаламов вместе с приходящим к нам В.П. Котельниковым и присоединившим-
ся к ним заместителем Макеева Валерием Яковлевичем Серовым частенько меж-
ду собой вели какие-то интимные переговоры, что-то горячо обсуждали.
Позже, уже будучи работником ОКБ-586, я узнал, что Догужиев назначен
директором вагоностроительного завода в Усть-Катаве (завод, хотя и выпускал
вагоны, весьма посредственного качества, по своей основной продукции был обо-
ронным), В.П. Котельникова сделали главным инженером громадного завода в
Красноярске, М.И. Шаламова - главным конструктором КБ в Калининградской
области по созданию каких-то морских торпед, а В.Я. Серов возглавил какое-то
огромное КБ в Московской области. Не знаю, как это произошло, единовременно
или поэтапно. Одно несомненно, что тут не обошлось, как говорят, без "мохнатой
руки". Но кто из них был с кем связан, не могу сказать. Может быть, Догужиев,
так как именно он впоследствии выдвинулся на наиболее значительный пост -
стал заместителем премьера, правда, бесславно канувшим в неизвестность во
время "переворота" 1991 года, или В.П. Котельников, ведь именно его, несмотря
на большое сопротивление местных властей, поставили главным инженером в
Красноярске.
К этому времени я серьезно заболел гипертонией. Давление поднималось до
200 и выше. Действенных лекарств от этой болезни тогда еще не было (во всяком
случае, они еще не дошли до Урала). Лечили меня уколами с какими-то препара-
тами, в которые входил новокаин. Прописали теперь уже не известное никому,
даже врачам, немецкое средство редергам (капли).
Тогда же у меня появилась какая-то слабость. Как-то мне вздумалось обсле-
довать местность, находящуюся в возвышенной части прямо за городом. Там бы-
ли расположены какие-то каменные образования в виде пирамид-столбов. Я не-
сколько раз выходил в поле, но далеко уйти не мог: уставал.
Где-то в это же время смертельно заболел и военпред Сизов. Я знал его.
Высокий, ладный, молодой блондин с голубыми глазами. Исключительно привет-
ливый и располагающий к себе. В воскресенье он выехал на лыжах в лес и пробыл
там долго. Вернулся домой - и слег, заболел. Первоначально поставили диагноз
простуда, но болезнь бурно прогрессировала. У него нашли лейкемию и тотчас
отправили поездом в сопровождении врача в Москву, но дорогой он умер.
Заболела в это время и стала часто прихварывать и моя дочь, Аля. Это были
все ангины. Правда, при одном из заболеваний участковый врач поставил диагноз
скарлатина и даже направил Алю в больницу. Но я засомневался и, опасаясь за
судьбу дочери, проконсультировался с опытным врачом-педиатром Крыловой.
Она отвергла первоначальный диагноз и определила, что это все-таки ангина.
Были разные версии такого нездоровья. Но вот, уже несколько десятков лет
спустя, я узнал из газет и сообщений по радио и телевидению о случившейся то-
гда в наших краях большой аварии резервуара с радиоактивными отходами. При
этом возник очень мощный источник радиации очень недалеко от нас. И хотя ве-
тер в момент аварии и дул в сторону от нашего города, но его направление, несо-
мненно, менялось.
Когда я узнал об аварии, то мне, прежде всего, стала ясна трагедия с Сизо-
вым. Очевидно, он в то воскресенье зашел на лыжах в какую-то особенно зара-
женную радиоактивностью зону. Я стал подозревать, что и Аля, и все мы попали
на какую-то в разной степени облученную территорию. Отсюда и моя проявляв-
шаяся тогда часто слабость, и регулярные болезни дочери. В то же время сын рос
здоровым ребенком. Но известно, что люди по-разному воспринимают радиаци-
онное облучение.
Во всяком случае, в то время у меня сложилось стойкое желание уехать
куда-то на юг и дать возможность прежде всего детям погреться на солнышке,
покупаться в море. Мне претила мысль остаться с семьей какими-то изгоями.
Мне казалось, что я погублю в этом Златоусте своих детей. "Почему, - думал я, -
мои дети обречены все время проводить в этой дыре, в то время когда другие
люди живут на солнечном Юге и пользуются теплом, фруктами, здоровы? Нет,
этого быть не должно!".
Особенно это желание - покинуть Урал - усиливалось, когда летом мы уез-
жали в мой родной город на Каме. Обычно до Уфы ехали поездом, а от Уфы до
родительского гнезда - Чистополя плыли пароходом. В то время на реках появи-
лись суда венгерского производства и билет можно было купить без всяких пре-
пятствий. Жизнь становилась все легче, совершенствовался не только речной
транспорт, но и снабжение постоянно улучшалось. Появился в свободной прода-
же сахар, которого вот уже лет тридцать не было вдоволь. И масло, и мясо. Позже
в магазинах мясо не всегда бывало, но на базаре килограмм свинины стоил 3 руб-
ля, говядины 3,5-4. И нам казалось, что это дорого. Хотя уже в семидесятых отец,
имея 45-рублевую пенсию (мать 55 рублей), говорил, что уж на кусок мяса-то у
него всегда денег хватит.
В отпуске из дома родителей часто ездил к сестрам: Але в Камское Устье
(она и муж работали врачами и жили, по нашим меркам, очень хорошо) и Рите в
Казань (она работала санврачом в детском интернате, а ее муж инженером в ин-
ституте - эти жили похуже, но тоже удовлетворительно).
Обстоятельства, кстати, складывались благоприятно для переезда. Г.А. Ов-
чинников, переведенный по его просьбе в Днепропетровск (его жена, Ратмира
Сергеевна, украинка), рекомендовал меня в КБ "Южное" (ОКБ-586) как подходя-
щего начальника отдела испытаний, какового там подыскивали. Очевидно, замол-
вили слово и другие знакомые. Это и Михаил Иванович Галась, недолгое время
работавший у меня на Урале ведущим инженером, и Михаил Дмитриевич Назаров
и Иван Иванович Иванов, с которыми мы были сотрудниками еще в Подмосковье.
А И.И. Иванов был заместителем главного конструктора КБ "Южное", и М.И. Га-
лась позже также занял такую же должность. И стали поступать запросы о пере-
воде меня в ОКБ-586. Сначала от Вадима Сергеевича Инюшина, заместителя И.И.
Иванова по исследовательской части, а позже министерство распорядилось отко-
мандировать меня в это ОКБ. Просьба В.С. Инюшина осталась без ответа, но по-
сле официального приказа из министерства и А.Я. Яковчину, и Е.А. Гульянцу
пришлось "взять под козырек" и отпустить меня.
ОКБ-586 (КБ "ЮЖНОЕ")
Первая поездка в Днепропетровск. Представление М.К. Янгелю. - Труд-
ности и неприятности на работе. - Отсутствие настоящего дела, упадок
духа. - Катастрофа на полигоне с янгелевской ракетой. - Новое поле дея-
тельности - сектор проектно-перспективных работ ракетного отдела. -
Первая разработка электроядерного реактивного двигателя. - С.П. Королев и
М.К. Янгель. Сотрудничество двух ОКБ в создании лунной ступени ракеты. -
Смерть Сергея Павловича Королева. Конец проекта полета на Луну. - Слу-
жебный "подкоп": новый заместитель. - Снова спецслужбы. Благонадеж-
ность подчиненных
Как бы то ни было, я Урал покидал и уезжал в теплые края. Прежде чем
уехать с семьей на Украину, я съездил туда один. Днепропетровск встретил меня
приветливо. В Златоусте в феврале была в разгаре зима, а здесь уже весна. Вовсю
светило солнце, и в тот год на улицах города уже не было снега. На перроне меня
встретили Овчинников и Манохин, мой товарищ по курсу в институте, который
был в это время руководителем практики студентов КАИ. Он и на Урал приезжал,
был у меня дома и на работе.
В первый приезд меня привели к генеральному конструктору ОКБ-586 Ми-
хаилу Кузьмичу Янгелю. Он был окружен молодыми еще людьми (и потом любил
повторять на всех собраниях, что его ОКБ по возрасту сотрудников самое моло-
дое) и сразу же, обратившись ко мне, весело сказал: "Помню! Помню!".
После в сопровождении его заместителя Игоря Игнатьевича Купчинского я
побывал в будущем моем отделе, на стендах, и тот предложил мне временно не
место руководителя этого подразделения, а заместителя. Меня это не устроило.
Мы возвратились к Янгелю, и я сказал: "Если Вы рассчитываете на меня как на
начальника отдела, то и проверяйте на этой должности". И Михаил Кузьмич сразу
согласился: "Верно, так и нужно сделать". И отдал распоряжение готовить приказ
о назначении. Позже я признал, что самомнение завело меня не в ту сторону. И
лучше, наверное, было бы принять предложение И.И. Купчинского. Меньше 2800
рублей оклада все равно бы не установили, а работа заместителем мне помогла бы
освоиться и укрепиться в коллективе. Но, в конце концов, все получилось к луч-
шему, хоть и не сразу.
Вот эту поездку, предварительную, я помню, а переезд с семьей запамято-
вал, так как были очень бурные проводы. В дороге до Москвы и далее я еще не
совсем пришел в себя и никаких подробностей восстановить не могу.
Вещей набралось бы не очень много, если бы не подписные издания. Это
были произведения Льва и Алексея Толстого, Пушкина, Лермонтова, Жуковского,
Тургенева, Гончарова, Горького, Станюковича, Доде, Паустовского, Маршака,
Гайдара, Диккенса (30 томов), Золя (24 тома), Писемского, Глеба Успенского,
Куприна, Генриха Манна, Анатоля Франса, Сервантеса, Лескова, Вересаева, Ма-
мина-Сибиряка, Ибсена, Шекспира и др., а также детская энциклопедия. Кроме
того, раньше я приобрел в виде приложения к "Огоньку" собрания сочинений
Мопассана, Джека Лондона, Ярослава Гашека, Бальзака, Стендаля, Салтыкова-
Щедрина, Фадеева, Гюго, Бунина, Мережковского, Ахматовой, Чуковского, опять
Вересаева и других. Все это составило большую библиотеку, которая и сейчас за-
бивает мои шкафы, хотя из нее я и подарил много книг и Але, и Тёме, и сестрам
Але (24 тома Бальзака) и Рите (30 томов Диккенса). Всю эту литературу мы упа-
ковали в коробки, которые натаскали из магазинов.
В связи с переездом вспоминается анекдотичный случай. Еще в то время,
когда я был начальником лаборатории, а В.П. Котельников моим заместителем,
нам на двоих дали холодильник "Саратов". И мы его разыграли жеребьевкой. Он
достался мне. И вот незадолго перед отъездом, поскольку удалось достать еще
холодильник "ЗИЛ", я решил оставить "Саратов" В.П. Котельникову. Он охотно
согласился. Отдал мне деньги. И вот в день отъезда, когда мы загружали контей-
нер, он прибегает и буквально вопит, словно случилась какая-то беда: "Борис
Александрович! Борис Александрович! Мне дали холодильник "ЗИЛ" и "Саратов"
мне теперь не нужен!". Подумаешь, беда! В то время с холодильниками было еще
плохо, и ничего не стоило продать его кому-нибудь другому. Многие с радостью
бы согласились. Но он все время ходил за мной, пока загружали контейнер, и ныл.
Как будто бы я мог за какие-то десять минут отыскать, кому вместо него оставить
холодильник. Хоть и нет его сейчас уже на свете, и покойников плохо не вспоми-
нают, но, нужно заметить, что вел В.П. Котельников себя совсем недостойно.
Итак, началась моя работа на Украине, в том самом КБ "Южное", в котором
была создана ракета "Сатана", названная так американцами. А это имя она полу-
чила за то, что несла боевой заряд в 2 Мт, в то время как американские ракеты,
насколько мне известно, всего лишь 0,2 Мт.
Но хотя жизнь на Урале была и не очень легкая, и климат там был суровее,
и Златоуст, где я работал, из-за частых дождей прослыл всесоюзным писсуаром,
- но уральский период, особенно в первое время в Днепропетровске, вспоминался
мне в светлых тонах. И дожди, и снежные зимы - все отошло, все позабылось, а
остались в памяти гостеприимство и доброжелательность уральцев. И запомнился
мне Урал солнечным, теплым и ласкающим душу.
Начало пребывания на Украине было удручающим. В марте, когда мы все
уже приехали на место, погода изменилась к худшему: пошли дожди, кругом ле-
жала грязь, сумрачно и неприветливо. Дома тоже было неуютно, так как ника-
кой новой мебели мы приобрести не успели, а старую перед отъездом всю рас-
продали.
Словно в унисон с этим шли у меня дела и на работе. В то время как на
Урале у меня было 120-130 человек в подчинении, здесь оказалось за 400. Кроме
того, и стенд, где испытывали рулевые четырехкамерные двигатели только на
гептиле, и вся станция были старше и оборудованы хуже, чем у меня в Златоусте.
На моей станции проливку выполняли на простом стенде с подачей из ба-
ков. В Днепропетровске мощную среднюю часть межконтинентальной ракеты ис-
пытывали на громадной железобетонной конструкции высотою с 14-этажный
дом, не менее, с многочисленными площадками и пультами.
Здесь много людей трудилось в большом подготовительном корпусе, дей-
ствовали солидные лаборатории - приборно-измерительная и химическая, - рабо-
тала обширная станочная мастерская (прежние мои испытания обслуживали всего
несколько токарных, фрезерных и сверлильных станков). Кроме того, было много
мелких, небольших стендов, таких как, например, для отработки системы одно-
временного опорожнения баков (СОБ). По соседству в заводском испытательном
отделе серийно прогоняли большие основные двигатели ракет. И все они работа-
ли на парах гептила и окислах азота.
На златоустовской станции работники питались в общей заводской столо-
вой. Здесь при испытательных отделах КБ и завода был свой пищеблок, который
обслуживал очень плохо, там было неуютно и нечисто. И дороги от проходной до
отделов были разбитые и грязные.
По привычке я добирался до места работы пешком, и обычно на пути к
станции меня перегоняла грузовая машина с моими сотрудниками, останавлива-
лась, и меня предлагали подвезти. Но я отказывался. "Резерв бережет", - шутили
надо мной.
Каждое утро свой рабочий день я начинал с обхода большой территории
станции. И часто, когда я обходил свою территорию внутри, снаружи по пери-
метру проезжала машина с директором завода Леонидом Васильевичем Смирно-
вым, будущим заместителем Председателя Совета Министров СССР.
И.И. Купчинский остался в моем кабинете, чем сильно сдержал мою само-
деятельность. Поместил свой стол против моего, благо кабинет был большой, и
все время наблюдал за моими действиями. Позже он и сам признался, что этим
самым он повредил проявлению моего характера, собственного стиля работы.
Часто он сопровождал меня и тогда, когда я ходил в различные концы станции.
Конечно, Игорь Игнатьевич действовал так не с намерением "подсидеть" меня.
Было видно, что Хорольским, который до этого был претендентом на роль
начальника отдела, он был почему-то недоволен.
Вспоминаю два случая на работе в должности начальника отдела. Одна-
жды пришел ко мне руководитель группы расшифровки, и я нашел в деятельно-
сти работников этого подразделения много огрехов, дал развернутый план наве-
дения порядка и методику обобщения данных испытаний. С моими выводами и
предложениями начальник группы вынужден был беспрекословно согласиться.
При этом присутствовал за своим столом и внимательно слушал И.И. Купчин-
ский.
В другой раз Игорь Игнатьевич привел меня на стенд для испытания дви-
гателей, показал мне прогоревшую трубку от манометра к камере сгорания и
спросил меня: "Как Вы думаете, почему она прогорела?". Я не задумываясь, так
как мне, как термодинамику, было вполне ясно, ответил: "Негерметично была
подсоединена к камере сгорания!".
И.И. Купчинский удовлетворенно хмыкнул и после, когда со своей сторо-
ны резюмировал М.К. Янгелю сложившуюся со мной ситуацию, сказал, характе-
ризуя меня: "Технически очень грамотен, но вот с народом работать не может.
Организатор из него не получается". - "Ну, конечно, одно дело руководить не-
большим отделом человек до ста шестидесяти, а другое - таким большим, как
здесь у нас", - заметил Михаил Кузьмич.
Начал я со стенда СОБ, но плохо в нем разобрался, а тем временем началь-
ники других отделов звонили мне и требовали быстрейшего проведения стендо-
вых испытаний.
Между тем на огневом стенде, где испытывали рулевые двигатели изделия
конструкции И.И. Иванова, все время происходили какие-то аварии и недоразу-
мения. Я начал было разбираться в причинах, но обнаружил такие явные откло-
нения от здравого смысла в системе управления стендом, что просто опешил.
Дело в том, что, например, в Златоусте вся автоматика была сосредоточена
в отдельных шкафах, прямо в комнате расшифровки, возле пультов управления.
Здесь же все эти приборы были упрятаны в подвальное помещение, а проще го-
воря, просто в подвал без пола, установлены на каких-то стойках, укрепленных
прямо в земле. Остапенко, начальник группы автоматики огневого стенда, был
почему-то уверен, что это лучший способ расположения оборудования, меня же
это просто коробило. Да и работать в подземелье было очень неудобно, всегда с
искусственным светом. Сейчас я понимаю, что лучше всего мне было бы попро-
сить М.К. Янгеля создать комиссию из авторитетных специалистов по автомати-
ке, а такие люди в ОКБ были, но я этого не сделал.
Одновременно с заботами об огневом стенде на меня навалились пробле-
мы, связанные с работой двух комиссий. Одна из них очень строго следила за
чистотой и порядком и каждому нашему подразделению ежедневно ставила
балл. Эта комиссия меня не жаловала и часто оценивала наше санитарное состо-
яние на тройку и двойку. Я срывался и налетал на своих подчиненных, но ничего
толкового предложить не мог. Оценки докладывали М.К. Янгелю, и он через
И.И. Купчинского меня регулярно отчитывал.
Другая комиссия как раз в это время решала, причислить ли нас к привиле-
гированной категории "работников с вредными условиями труда". Против меня и
моих заместителей выступал какой-то чиновник, я боролся, но проиграл.
С какими-то вопросами, мало для меня понятными, обращался часто Ли-
фарь. О чем-то спорили по поводу механической мастерской. При этом было за-
метно, что непосредственные мои подчиненные мне явно сочувствуют и настро-
ены против Хорольского. Но я никак не мог с ним справиться, как бы им ни хо-
телось.
А тут еще Г.А. Овчинников приобрел мотоцикл и все время приставал ко
мне с просьбой построить для него гараж непосредственно перед станцией, а за-
траты отнести на счет завода. Я дал такое распоряжение, но сразу же встретил
противодействие бухгалтерии отдела. Главный (или старший) бухгалтер просила
меня отменить это решение и, наверное, подала на меня рапорт и по своему
начальству.
Не помню уже для чего, но как-то нам потребовалось дополнительно не-
сколько сотрудников. Я не решался обратиться к М.К. Янгелю (кстати сказать, к
нему на совещания все время ходил И.И. Купчинский). А оказалось, что Хороль-
скому было разрешено нужное расширение штатов, а он это утаил от меня.
В это время прошла какая-то партконференция. Я был избран на нее, но не
пошел. Получил нахлобучку и от И.И. Купчинского, и от парткома: мне сказали,
что не посещать партактивы здесь не принято. (То же самое у меня случалось и в
Златоусте: я и там получал строгие замечания за отсутствие на партконференци-
ях, так что опыт на этот счет у меня был, но я им пренебрег.) К 1 Мая (а может
быть, и ко дню рождения В.И. Ленина) мне поручили сделать доклад. Подготов-
ка была долгой и мучительной, но выступление получилось очень и очень пло-
хим, невразумительным. Я начал уже полностью терять уверенность в себе.
Как-то ведущий инженер огневой станции Панарин обратился ко мне с
предложением, минуя своего непосредственного начальника. Я не помню, что
это было, кажется, предлагалось куда-то в новое место отвести трубку, через ко-
торую уходили пары гептила. Вместо того чтобы отправить его к начальнику ла-
боратории Жукову, я сам решил этот вопрос, как оказалось впоследствии, непра-
вильно.
Среди руководителей подразделений КБ-4 особенной агрессивностью вы-
делялся начальник группы турбин и насосов Владимир Федорович Егоров. Он
надолго, чуть ли не на все время работы в Днепропетровске, стал моим против-
ником.
Тут случился большой сбой в работе автоматики огневой станции. Не-
сколько дней не могли найти причину и все отладить. Я даже однажды остался
ночевать на работе. Но все не ладилось. Начальника группы автоматики Оста-
пенко я нашел ночью спящим на крыше нашего здания. А утром Хорольский
наставлял, что так нельзя, Вы, мол, совсем сорветесь. Вроде бы пожалел, но на
самом деле он злорадствовал, что у меня ничего не получается.
А тут еще сам И.И. Купчинский дал мне трудно исполнимое задание: "У
такого-то (он назвал фамилию начальника отдела внешних испытаний) есть в
распоряжении специальные машины с подъемными кранами. Попроси у него од-
ну такую, чтобы мы могли перевозить, поднимать и устанавливать двигатели на
стенд. И не нужно будет к каждому испытанию вызывать кран" (двигатели при-
возили на простой грузовой машине без крана). Ничего, конечно, у меня не вы-
шло.
Отовсюду слышу претензии, с автоматикой на испытательной станции
двигателей Остапенко не справляется... Помню, именно в это время я однажды
забрался по лестнице на крышу проливного стенда высотой с 14-этажный дом.
Крыша была обнесена какой-то оградой, кажется, перилами. Бросаться вниз я,
конечно, не собирался, но посмотрел вниз и убедился, как это высоко.
Чашу моего терпения переполнило недовольство рабочих-механиков об-
служиванием в столовой. Раз утром я сижу у себя в кабинете. Рабочий день еще
не начался. И вдруг ко мне врывается механик (по всему видно, что бывший мо-
рячок) и обращается срывающимся голосом на явно повышенном тоне: "Вы тут
сидите, а нет, чтобы сходить и посмотреть, что творится в столовой! Бардак
там!".
После этого я совсем упал духом и обратился к И.И. Купчинскому, чтобы
меня освободили от должности начальника отдела. Я настолько был загнан в
угол, что мне было все равно, куда и кем бы меня не перевели и насколько пони-
зили бы в должности. И.И. Купчинский велел мне написать официальное заявле-
ние.
Через несколько дней состоялось собрание основного инженерного состава
отдела. На собрание пришел М.К. Янгель. Совершенно не помню, говорил ли я
что-то о работе. Тут с основательной критикой стали выступать инженеры, в том
числе Панарин. Оказывается, я отдал ему неправильное распоряжение, что-то не
учел в противопожарном отношении. Еще высказались несколько человек. А
итог подвел М.К. Янгель. Он упрекнул меня, прежде всего, за грязь на подходе к
станции. Это было просто сделать, так как грязь действительно была. Но мне бы-
ло не до нее. Посетовал и на то, что я принял решение (по панаринскому пред-
ложению), которое сейчас отменено. И не сделав в отношении меня окончатель-
ного вывода, уехал.
Чтобы не возвращаться обратно, скажу, что однажды я был приглашен в
партком завода. Речь на заседании шла не обо мне, хоть я и ожидал большой,
разносной критики. Все обсуждение свелось к противостоянию Л.В. Смирнова и
М.К. Янгеля. Директор завода обрушился с критикой на главного конструктора
(не помню уже точно ее содержание) и при этом упомянул и меня: "Не пытай-
тесь, Михаил Кузьмич, свалить все на начальника отдела испытаний. Он еще
здесь человек новый, и на него сваливать бесполезно" (примерно в этом духе).
М.К. Янгель же в своем выступлении, прежде всего, подчеркнул, что завод
186 опытный, и поэтому предпочтение должно отдаваться, как теперь это проис-
ходит, не серийным машинам (такие на предприятии в небольшом количестве
тоже выпускали), а прежде всего срочному исполнению опытных работ, и если в
их пользу соотношение не изменится, то он будет вынужден пожаловаться в ми-
нистерство. Вся эта перепалка шла в весьма жестких выражениях, и после угрозы
М.К. Янгеля обратиться в министерство Л.В. Смирнов вдруг сник и стал оправ-
дываться.
Михаил Кузьмич после этого заседания, а вернее, уже после собрания у нас
в отделе, заболел. И вот вдруг И.И. Купчинский говорит мне, чтобы в воскресе-
нье часам к 10 утра я был в кабинете главного конструктора. Когда я прибыл,
И.И. Купчинский уже был там. Он что-то говорил о том, что нас всех много, а
Михаил Кузьмич у нас один. Но вот пришел и М.К. Янгель. Разговор, я помню,
происходил не у него в кабинете, а в приемной.
Михаил Кузьмич очень мирно посетовал на меня: мол, хорошо, что не вы-
нудил его выносить мне взыскания, а сам признался, что не справился. Однако
это его очень огорчило и обидело, поскольку он лично просил в министерстве
перевести меня в свое ОКБ, а я подвел его как руководителя. М.К. Янгель также
поинтересовался, не искал ли я новую должность. Я ответил, что считал невоз-
можным заниматься этим, пока окончательно не решен вопрос о моем пребыва-
нии на прежнем месте. Мои действия он одобрил и, видимо, отлично поняв, что я
в крайне подавленном настроении, похлопал меня по плечу и сказал: "Не огор-
чайтесь! Теперь Вы уже наш, наш, и договаривайтесь о новой работе с Иваном
Ивановичем Ивановым".
На этом аудиенция была закончена. Михаил Кузьмич уехал болеть дальше.
А в понедельник мы договорились с Иваном Ивановичем, что я буду работать у
него ведущим инженером по одной из машин, которая уже поступила в произ-
водство. Предлагал он мне и должность руководителя внешних испытаний, но я
отказался. И хорошо сделал, так как вскоре на полигоне произошел несчастный
случай, унесший много жизней, и моя, по всей вероятности, была бы в их числе.
Прежде чем приступить к исполнению новых для меня обязанностей ве-
дущего инженера, я вынужден был побывать еще раз в моем бывшем отделе,
чтобы подписать переводную у И.И. Купчинского. Попал как раз на совещание
начальников многих подразделений. Проверялась подготовка проливки средней
части. Заседание вел Хорольский. (Кстати, М.К. Янгель спрашивал, кто бы мог
меня заменить. Я назвал Хорольского. Михаил Кузьмич усмехнулся, видимо, тот
был ему почему-то не по душе. Но все же именно он и был назначен исполняю-
щим обязанности начальника отдела.) Я во время совещания сидел в сторонке и
ясно представлял, что то, чем занимается сейчас Хорольский, мне явно не по
плечу.
И вот я - ведущий инженер. Мне так хотелось им стать во время работы у
Д.Д. Севрука, поскольку в ОКБ-3 сотруднику в этой должности нужно было ре-
шать и производственные, и технологические, и принципиальные конструктор-
ские проблемы. Но здесь это была совершенно не та работа. Мои обязанности
фактически ограничивались сбором заявок от отделов на изготовление деталей и
узлов двигателя на будущий месяц, обоснованием и согласованием заказов с
начальником производства Л.Л. Ягджиевым. Если решить вопросы с ним не уда-
валось, приходилось обращаться к директору завода Л.В. Смирнову. (Кстати,
обедать он ездил в ресторан на аэродром, а в кабинете у него от телефонной
трубки к аппарату тянулся громадный шнур, и он, разговаривая по телефону, хо-
дил по комнате.) Затем оставалось отслеживать выполнение производственных
заданий. О влиянии на конструкторские работы не могло быть и речи
От бездействия на этой должности меня изводила скука. С 1941 года я при-
вык быть все время с людьми, командовать ими - и вдруг оказался в одиночестве.
В цехах за изготовлением макета двигателя, его опытного экземпляра следили
другие начальники отдела, и мне там совершенно не было места.
А тут появилась карикатура в стенгазете. Меня изобразили за столом с ло-
гарифмической линейкой в руке. И в комментарии к рисунку было написано, что
Б.А. Кудряшов, ведущий инженер, не бывает в цехах и не интересуется производ-
ством. Я ждал очередного понижения в должности. Настроение у меня было чрез-
вычайно плохое, я впал в какое-то отчаяние. Даже по воскресеньям никуда не вы-
ходил из дома и шагал по своим трем комнатам из угла в угол.
В это время, где-то осенью 1960 года, случилось несчастье на полигоне.
При летном испытании одной из ракет М.К. Янгеля, когда она была уже заправ-
лена, но вся еще буквально облеплена обслуживающим персоналом, начальника-
ми, военными и специалистами, что-то не заладилось в пульте. Не отключив его,
оператор принялся налаживать схему, и как-то так случилось, что запустил двига-
тель II ступени. Огненная струя мгновенно прожгла бак I ступени, на стенде
начался ужасный пожар. Люди начали прыгать с верхних площадок, но большая
часть сгорела на месте. Прыгнул и заместитель министра Лев Архипович Гришин,
сломал себе ноги, обгорел. М.К. Янгель лично вытащил его из огня, но он через
несколько дней скончался в больнице прямо на полигоне. Погиб тогда и маршал
артиллерии Митрофан Иванович Неделин, первый главком РВСН. Сгоревших
сразу и умерших позже было более шестидесяти, не считая солдат. Их останки за-
паяли в гробы и развезли в родные города по месту основной работы. И в один
день состоялись похороны всех.
В нашем КБ хоронили семь человек. Помню, сидел я в комнате ведущих
специалистов и ко мне зашел начальник отдела сборки двигателей Безуглых: "Что
ты сидишь? Поехали на похороны!". Все ОКБ не работало, было на городском
кладбище. В тот год вся площадь перед управлением завода была засажена каки-
ми-то красными цветами. И вот в день похорон от них остались лишь корни. Все
цветы были срезаны и отвезены на могилы.
Тогда погиб и ближайший заместитель М.К. Янгеля - Л.А. Берлин. Его счи-
тали образцом пунктуальности, и он держал управление почти всего ОКБ в своих
руках. Сам Михаил Кузьмич после трагедии серьезно заболел. Лежал в больнице,
в нашей медсанчасти, в отдельной палате, и всё, как говорили, плакал.
Но вот была найдена и новая должность для меня. Я стал заведовать секто-
ром проектно-перспективных работ в ракетном отделе Гусева, который сам ходил
еще в должности исполняющего обязанности начальника и очень больно пережи-
вал это. Мой сектор вовсе не существовал, и все нужно было начинать с нуля.
Очень скоро в моем подразделении образовались две группы. Первая - это
по перспективным разработкам ЖРД. Создание и оформление предэскизных и,
самостоятельно и совместно с другим отделом, эскизных проектов. Начальник
группы нашелся сам. Им оказался Игорь Глебович Писарев. Он немного ранее
меня перевелся с Урала на Украину и работал в отделе обычной сборки двигате-
лей старшим инженером. Пришел ко мне и заявил, что согласен вначале на долж-
ность старшего инженера, с тем чтобы его сделали начальником группы, когда
сотрудников наберется достаточно.
Скоро у И.Г. Писарева появился помощник, инженер Коваленко, пришед-
ший из отдела турбин и насосов. И вот Писарев с Коваленко занялись проектиро-
ванием, а в дальнейшем и отработкой способа управления ракетой при помощи
вдува в сопло газа.
Неожиданно появился и Вадим Алексеевич Ткачев, тоже старший инженер,
но уже из отдела автоматики. Он соблазнил меня заняться разработкой электро-
ядерных двигателей (ЭЯРД), которые в будущем должны занять в ракетостроении
громадное место. Объект, выведенный на орбиту Земли с помощью жидкостного
ракетного двигателя, в дальнейшем может разгоняться длительное время с помо-
щью ЭЯРД, источник энергии которого - ядерный реактор, а движитель пред-
ставляет собой специальное устройство, разгоняющее пыль какого-нибудь веще-
ства до очень больших скоростей, до нескольких километров в секунду. Тем са-
мым обуславливается его высокая экономичность и, следовательно, большая дли-
тельность работы при ограниченных запасах топлива.
И вот В.А. Ткачев со своими двумя помощниками, Владимиром Федорови-
чем Худяковым и Катчаном, молодыми специалистами, стали разрабатывать дви-
гатель, схему которого я очень смутно представлял. Когда они предложили мне ее
рассмотреть, то я невольно удивился, так оказалась она сложна. Чего только не
было в этой конструкции! И реактор, через который прокачивался натрий, и теп-
лообменник, в котором натрий испарял калий, а на парах калия работала турбина,
приводящая в движение электрический генератор, от которого питались движите-
ли, разгоняющие предварительно ионизированное вещество до бешеных скоро-
стей, не идущих ни в какое сравнение с быстротой истечения газов из сопла реак-
тивного двигателя. Несколько насосов подавали натрий, калий и рабочее веще-
ство, а специальный теплоизлучатель отдавал тепло отработанного в турбине пара
в космическое пространство.
И тотчас же при обсуждении схемы двигателя стали решать, на какую мощ-
ность, на какую тягу его рассчитывать. Мне сразу пришло в голову, разработку
какого изделия поддержит М.К. Янгель. Ясно, что такого, которое могла бы выве-
сти на орбиту его ракета. А это было что-то около пяти тонн. И из этого я исхо-
дил, назначая критерии тяги и исходного веса (массы) двигателя. Мне точно пред-
ставилось, каким должно быть наше рождающееся детище: полностью заправлен-
ное всеми компонентами оно должно весить пять тонн. И это создало прочную
основу разработки: мы должны исходить не из тяги, а из веса (массы).
Очень скоро была завершена компоновка двигателя. Он размещался в ко-
нусной головной части ракеты М.К. Янгеля. После этого называемый нами ис-
ходный вес пять тонн служил как бы паролем, по которому разработку поддержа-
ли все инстанции в ОКБ. Сначала доложили И.И. Иванову. Он одобрил. Предста-
вили первому заместителю главного конструктора Василию Сергеевичу Буднику.
И он одобрил. Ходил я с докладом, прихватив с собой схему и красочно выпол-
ненную компоновку, и к М.К. Янгелю. И от него получил добро, после того как на
его вопрос: "Сколько будет весить двигатель?" - ответил: "Пять тонн!". А тяга,
которую удалось реализовать при этом весе, оказалась равной 300 гс при мощно-
сти генератора 300 кВт.
За это время обе группы значительно пополнились сотрудниками. Желаю-
щих поработать в проектно-перспективном секторе оказалось очень много. В
подразделение В.А. Ткачева (скоро оно было официально оформлено как группа)
из 18-й лаборатории перешел энтузиаст проектирования турбины Леонид Павло-
вич Лесниченко. В помощь к нему был дан Сыч из отдела турбин и насосов Вла-
димира Федоровича Егорова (о нем я больше напишу). Еще поступил молодой
специалист Валик - его поставили курировать создание реактора. А затем полился
поток: и Свириденко, и Назаренко, и Бедняко, и Стеценко, и специалист по гене-
раторам Ищенко, которому подчинили новую сотрудницу Инну Кондратьеву. И
все они начали специализироваться по двигателям. Буквально с боем прорвался к
нам в сектор Жук. Прибыл Валерий Фокович Семененко (на него я должен обра-
тить особое внимание). И пришел даже Александр Михайлович Янгель, сын
М.К. Янгеля, только что окончивший Московский авиационный институт. Всех, к
сожалению, сейчас я уже не помню.
Побывав на некоторых конференциях, мы узнали, что параллельно с нами
ЭЯРД разрабатывают в ОКБ С.П. Королева, в отделе, который среди прочих под-
разделений курирует Михаил Васильевич Мельников. Потом появилось и отдель-
ное конструкторское бюро, главой которого стал Д.Д. Севрук. Из НИИ-88 ему
пришлось уйти из-за интриг, которые против него независимо друг от друга вели
Глеб Михайлович Табаков и Сергей Дмитриевич Гришин (этот у Д.Д. Севрука ра-
ботал начальником сектора).
Доминик Доминикович мужественно сражался до конца. Как мне стало из-
вестно, он от усиленной работы терял сознание в машине, его частично разбил
паралич. Только вот не знаю, когда это случилось, или после освобождения от
обязанностей главного конструктора в ОКБ-3 НИИ-88, то ли после того, когда его
одолели и в новом КБ, в котором он разрабатывал ЭЯРД с тягой 3 кгс.
Таким образом, сложилась необычная конкуренция. С одной стороны, наша
группа в составе моего сектора, а затем и самостоятельного отдела, в который он
был преобразован, когда коллектив вырос в достаточной мере, с другой - два
мощных соперника: отдел в ОКБ С.П. Королева, которым руководил М.В. Мель-
ников, и плюс еще целое КБ под руководством Д.Д. Севрука.
Нужно сказать, что Михаил Кузьмич очень сильно поддерживал нас. В пер-
вый год было выделено 800 тыс. рублей, очень скоро финансирование разработки
нового двигателя достигло 1,5 млн. рублей, а к 1969 году, когда я был вынужден
уйти из ОКБ, оно составляло 3,6 млн. рублей в год. Это в какой-то мере объясня-
лось тем, что у нас в секторе ЭЯРД работал сын главного конструктора.
Эти деньги мы расходовали на работы по договорам с многочисленными
смежниками, среди которых были: ЭНИН им. Г.М. Кржижановского (готовил
стенды для работы с калием и натрием, в том числе для испытаний турбин на па-
рах калия); затем организация, которая создавала ядерный реактор для нашего
двигателя; НИИ-1 МАП, ЦАГИ и НИИ-88 (участвовали в разработке движите-
лей, тогда под руководством В.П. Белякова); специальные учреждения, в которых
придумывали новые генераторы.
Итак, у меня в отделе работал Александр Янгель (одно время он был капи-
таном команды КВН от Днепропетровска), и это обстоятельство создавало нам
преимущества, но принесло мне и неприятности. Михаил Кузьмич жил в то вре-
мя недалеко от ОКБ на даче, построенной в одной из городских балок, и к нему
сын приводил много своих товарищей. Очевидно, М.К. Янгель с ними беседовал
на разные темы, в том числе и на производственные. И вот от кого-то из этих мо-
их работников до него дошли ложные сведения, что я недостаточно хорошо от-
ношусь к молодым специалистам.
Я ничего не подозревал. Но однажды в КБ-4 была организована комиссия
по проверке работы с молодежью, и решили в первую очередь заняться моим от-
делом. Но у меня и с большинством сотрудников смежных подразделений были
очень хорошие отношения и проверяющие мне сочувствовали и меня уважали. И
вот результат: комиссия пришла к выводу, что с молодыми специалистами у нас
все в порядке. И в самом деле, каждый имел свое задание, в своем творчестве мог
проявить неограниченную инициативу. В.А.Ткачев и И.Г. Писарев очень придир-
чиво оценивали результаты каждого своего работника, не делая исключения и для
молодых специалистов. И все соревновались, брали и выполняли обязательства.
Для тех, кто особенно успевал, я добивался повышения или награждения преми-
ей. Так что ожидания М.К. Янгеля, что в моей работе найдутся явные недостатки,
не оправдались. (О том, что проверка была организована по его прямому указа-
нию, я узнал много позже от И.И. Иванова.)
Группа, а затем сектор ЖРД тоже пополнялись новыми сотрудниками.
Пришли Александр Тимофеевич Бабич, Ромашковцев, Петренко, Владислав Вла-
димирович Шаня, Стрельников (отличный, исполнительный, трудолюбивый ра-
ботник), Ткаченко, Иваненко, опять же из отдела В.Ф. Егорова. Как мне кажется,
он специально направлял ко мне в отдел очень способных - Коваленко, Сыча,
Иваненко, - с тем чтобы создать мне сильную оппозицию и попробовать сместить
меня с поста начальника сектора, а позже и отдела. Но все это были люди, кото-
рые хорошо приживались в нашем коллективе, а как непосредственные конкурен-
ты мне, или хотя бы начальникам секторов В.А Ткачеву и И.Г. Писареву, они бы-
ли слабы.
Особо выдающимся результатом этого коллектива было создание двигателя
на 15 тонн, действовавшего по замкнутой "сладкой" схеме. Дело в том, что в со-
ветском ракетостроении, как правило, ориентировались на "кислый" газ. В нашем
же двигателе, который был сконструирован с системой управления ракетой (или
ее ступенью) на основе вдува газа в сопло, естественно, использовали "сладкий ".
Вскоре о нашем детище узнали и в других двигательных КБ и нам стали
присылать на него "разгромные" отзывы. Среди них особо уничтожающим был от
НИИ-1 - головного в ракетной технике. И.Г. Писарев на оценки ответил, а двига-
тель был спроектирован по разработанной нами схеме (по нашим исходным дан-
ным агрегаты конструировали, естественно, в специализированных подразделе-
ниях). Затем он был изготовлен и прошел, даже отлично, летные испытания. И
впервые в Советском Союзе был создан двигатель с управлением ракетой путем
вдува газа в сопло.
Позже он был представлен как изобретение примерно тридцати авторов.
Все участники работы, и я в том числе, по этой заявке получили авторские свиде-
тельства. И когда я работал уже под Москвой, в Балашихе, на новом месте работы
я как-то получил из ОКБ-586 перевод. Вначале я не мог сообразить, что это за
деньги, но после понял, что это как раз та часть премии, которая полагалась мне.
Мотренко, главный бухгалтер предприятия, оказался беспристрастным, честным
работником и выслал причитающуюся мне премию.
Вернемся к работе. Другим капитальным, большим делом была разработка
схемы, эскизного и расчетного проектов двигателя лунной ступени ракеты, созда-
ваемой С.П. Королевым. В 1963 или 1964 году он сам приехал в ОКБ-586. Не сек-
рет, что Михаил Кузьмич был и его заместителем, а одно время и начальником (в
НИИ-88). И относились они друг к другу недоброжелательно. В какой-то мере
именно поэтому М.К. Янгель стал главным конструктором ОКБ-586. А последнее
было образовано именно потому, что Сергей Павлович всегда использовал все
возможности, чтобы избавить свое конструкторское бюро от разработки военной
техники. Вот и было основано новое ОКБ на базе Днепропетровского автозавода.
М.К. Янгель создал практически совершенно новый коллектив, прихватив
из НИИ-88, в который входило ОКБ С.П. Королева, лишь несколько человек.
Многочисленный штат ОКБ-586 составили молодые способные люди. Они-то и
подали главному конструктору целый ряд оригинальных идей. Прежде всего, это
использование в качестве ракетного топлива высококипящих компонентов - геп-
тила и окислов азота, совершенно новая компоновка ракеты, полностью отличная
от королёвской, а также ампулизация ракет, обеспечивающая их долговременное
хранение, подвижный старт, система СОБ и многое другое.
Но все-таки даже сам Михаил Кузьмич Янгель не мог идти ни в какое срав-
нение с Сергеем Павловичем Королевым. Последний был не просто привержен-
цем космонавтики, но прямо-таки ее фанатиком. И хотя, конечно, он не мог пре-
тендовать на какие-то особые персональные открытия, изобретения, но был пре-
красным организатором. А личность такого склада и с одной-единственной чет-
кой целью - это все, что нужно для достижения любого успеха.
Итак, и это самое главное, как личность С.П. Королев был на голову выше
М.К. Янгеля. Но последний посчитал нужным хоть чем-то уязвить СП в тот его
приезд в ОКБ-586. Обычно главный конструктор совещания устраивал в своем
кабинете. Но не на этот раз. Все приглашенные, в основном начальники отделов, в
том числе и я, собрались в довольно большой комнате для расширенных заседа-
ний. Она была расположена за кабинетом и бытовой комнатой руководителя КБ.
Высокий гость пришел прямо к нам, в то время как наш главный демон-
стративно не показывался. "Ба, знакомые все лица!" - шутливо сказал С.П. Коро-
лев, узнав некоторых. "Иван Иванович! Михаил Дмитриевич!" - обратился он к
И.И. Иванову и его заместителю М.Д. Назарову, здороваясь с ними за руку. Дело
в том, что в свое время все они вместе работали в ОКБ-СД в Казани.
Оглядев всех собравшихся, он начал чертить на припасенной доске компо-
новочную схему ракеты. И только в это время из своей бытовки изволил пока-
заться М.К. Янгель. Сергей Павлович закончил черновой набросок компоновки,
назвал некоторые характеризующие ракету цифры и сказал: "Вот вам я и предла-
гаю на основе кооперации разработать "лунник", лунную ступень ракеты". Она
должна была иметь тягу около 6 тонн на Земле. Это совещание и положило нача-
ло взаимодействию ОКБ С.П. Королева с ОКБ М.К. Янгеля.
Вскоре была организована большая командировка наших сотрудников в
Москву для согласования со специалистами-партнерами основных исходных дан-
ных. Нам, прежде всего, нужно было определиться с весом (массой) двигателя.
Предварительно у нас в отделе мы всесторонне рассмотрели задачу, и я в состоя-
нии был выдавать необходимые данные. Но И.И. Иванов на совещаниях неизмен-
но называл бoльшие цифры.
Все наши жили в гостинице конструкторского бюро. Часто Иван Иванович
страдал от сильного насморка и иногда с совещания главных специалистов прибе-
гал в комнату для ведущих сотрудников ОКБ, где мы работали, открывал дверцу
пожарного шкафа, извлекал оттуда захороненный им пузырек с лекарством и за-
капывал раствор себе в нос. До конца я в этой командировке не пробыл, так как
спешил отправиться по путевке в санаторий "Украина" в Одессе.
После моего возвращения из отпуска нашим отделом была разработана
схема так называемого двигателя 612 для "лунника" (наш предыдущий со "слад-
кой" замкнутой схемой назывался двигателем 714). Его особенностью было регу-
лирование тяги путем перепуска газа помимо турбины, через особое байпасное
устройство. Идея эта принадлежала мне. К ней долго относились с недоверием, но
все же приняли к разработке. Двигатель был создан, но, к сожалению, в "луннике"
не нашел применения. Позже нам стало известно, что точно такой заказ был дуб-
лирован Королевым в ОКБ Косберга.
Но вскоре вся эта гонка была заторможена, а затем и сама идея полета на
Луну с опережением американцев была похоронена. Умер С.П. Королев. Первую
весть об этом в нашем ОКБ получил я. Рано утром мне позвонил из Москвы ра-
ботник НИИ-88, бывший сотрудник ОКБ-3 Сергей Данков. "СП умер!" - только и
сообщил он.
Позже несостоявшийся полет на Луну объясняли неправильным выбором
исходных данных для первой ступени, вследствие чего пришлось проектировать
"лунник" не на трех человек, а только на двух. Будь жив С.П. Королев, он нашел
бы способ поправить дело. И я уверен, что он знал это средство - увеличить объ-
ем баков ракеты и соответственно топлива, хотя и с неизбежным при этом повы-
шении стартового веса (массы). Разумеется, при этом отношение тяги к весу (к
массе) всей ракеты не будет оптимальным, но в данном случае это бы не стало
определяющим. Да, ракета набирала бы скорость медленнее, но цель была бы до-
стигнута.
Вскоре в моем отделе по заданию И.И. Иванова было создано новое подраз-
деление - надежности. Сначала это была группа, а затем сектор. Начальником его
стал Александр Владимирович Сердюк, способный, энергичный и несколько за-
диристый инженер. К нему перешел от Писарева Александр Тимофеевич Бабич, а
после сектор пополнился и другими сотрудниками.
Коллектив И.Г. Писарева, кроме двигателей 612 и 714, а также системы
управления вдувом газа, на которую он, Коваленко и еще некоторые сотрудники
получили авторское свидетельство, разрабатывал и многие другие, перспективные
темы, в основном на уровне принципиальных схем, общих компоновок и предва-
рительных расчетов. Помню, среди многих из них был и двигатель с кольцевой
камерой на 500 тонн.
Но все же основной нашей задачей была общая компоновка двигателей и
подготовка эскизных и рабочих проектов. Отлично помню, как всегда только
впритык к запланированному сроку мы представляли их на подпись. Окончатель-
но просматривали тексты к чертежам, выполненным уже в кальках, в кабинете
Михаила Дмитриевича Назарова, заместителя И.И. Иванова. Собирались все
начальники отделов, рассаживались за длинным столом у него в кабинете, и про-
ект лист за листом начинал ходить из рук в руки. Руководители подразделений и
Михаил Дмитриевич подписывали его и после отдавали на утверждение Ивану
Ивановичу. И проект 30 или 31 числа (в зависимости от продолжительности ме-
сяца) был готов.
Но вернемся к "внутренним делам" на работе. Секретарем парткома ОКБ в
последние годы моей трудовой деятельности в Днепропетровске избирался Вла-
димир Яковлевич Михайлов, до этого руководивший группой в отделе камер сго-
рания Климова. Он пробыл на партийном посту два года, верно служил М.К. Ян-
гелю и вот-вот должен был уйти. А у главного конструктора была традиция
назначать "верного" бывшего парторга на гораздо более высокую должность, чем
та, которую он занимал до выдвижения в партком.
И вот в один, далеко не прекрасный день, появляется В.Я. Михайлов и заяв-
ляет: "Здравствуйте, Борис Александрович! Я - Ваш заместитель!". Меня это, ко-
нечно, ошеломило. Симпатичным человеком его назвать было никак нельзя, в за-
местителях я не нуждался и сразу понял, что он, конечно, метит в дальнейшем на
мое место.
Буквально чуть ли не с первых дней совместной работы между нами нача-
лись конфликты. В.Я. Михайлов не чувствовал себя уверенно. И если между нами
появлялись серьезные разногласия, он всегда пытался апеллировать к авторитету
М.К. Янгеля. Обычно такие споры кончались между нами одним и тем же. Он го-
ворил: "Вы, Борис Александрович, со мной не согласны. Давайте пойдем к Миха-
илу Кузьмичу, и он нас рассудит!". Я прекрасно понимал, чем может закончиться
такой поход к главному конструктору, и временами вынужденно отступал. Жало-
ваться И.И. Иванову я считал совершенно бесполезным. И моя неудовлетворен-
ность и озлобленность на В.Я. Михайлова непрерывно росли. Он болел радикули-
том, и мне неприятно было наблюдать, как он, приходя на работу, снимал с себя
верхнюю одежду, а затем начинал освобождаться от теплой шали, которой обма-
тывал поясницу.
Особенно активно мой новоявленный заместитель вмешивался в обще-
ственные дела. Естественно, в этом он накопил определенный опыт, но его по-
ползновения просто иногда выводили меня из себя. Как-то В.Я. Михайлов принес
книгу, то ли "Золотое слово" или что-то вроде этого, в которой были собраны раз-
личные пословицы, и предложил подчеркнутые им (о трудолюбии, о честности и
т.п.) поместить в очередном номере стенгазеты. Был и у меня этот сборник, но
мне никогда не приходило в голову воспитывать инженеров пословицами, что я
ему и высказал. Но он упрямо стоял на своем. Сейчас уже не помню, за кем оста-
лось последнее слово в том случае. Но уже тогда у меня созрело твердое решение,
что мне необходимо уехать.
Вспоминаю и другие не особенно приятные события. Одно из них связано,
как я теперь полностью осознал, со слежкой, и даже с неоднократными попытка-
ми провокаций в отношении меня со стороны спецслужб. Вместе с несколькими
молодыми специалистами из Днепропетровского госуниверситета (ДГУ) - Наза-
ренко, Свириденко и другими - пришел к нам в отдел и Валерий Фокович Семе-
ненко. Все они держали себя достаточно независимо и уверенно. Особенно выде-
лялся среди них В.Ф. Семененко. Выше он уже был упомянут. Специально я им
не интересовался, но откуда-то до меня дошли некоторые факты его биографии.
Был он сыном солдата, погибшего в Великой Отечественно войне. Кто-то из ро-
дителей у него был председателем колхоза (то ли отец, то ли мать). Сам он выде-
лялся какой-то несобранностью, неряшливостью. Был амбициозен. По любому
поводу мог вступить в спор. Скоро стал вызывать у меня раздражение.
И тут случилось происшествие. Как-то вечером, когда я был уже дома, зво-
нит мне инспектор 1-го отдела КБ-4 и просит придти на работу, так как В.Ф. Се-
мененко не сдал секретный документ. Я быстро собрался и вернулся в КБ. Пошли
в бывший актовый зал, где располагался в то время наш отдел (уже было построе-
но второе здание ОКБ с новым помещением для собраний). Открыли ящик стола
В.Ф. Семененко. Секретный документ был там, и мы составили необходимый в
этих случаях акт. Инспектор с бумагами ушел. Я же остался и обратил внимание
на то, что в рабочем столе этого моего подчиненного творится полный беспоря-
док: шелуха от семечек, огрызки карандашей и среди них какой-то свиток со сти-
хами. Начал читать. Стихотворения были на украинском языке. В них Украина
обвинялась в том, что она отдалась России, словно проститутка. Это я понял. Да-
лее читать не захотелось, тем более что перевод мне удавался с трудом, несмотря
на родственность украинского языка.
Через некоторое время меня вызвали в 1-й отдел ОКБ. Там меня неожидан-
но спросили: "Вы проверяете столы своих сотрудников? Вот только сегодня мы
при инспектировании обнаружили, что в столе Вашего инженера Семененко тво-
рится черт знает что!". Возражать я не стал, но и своего мнения не высказывал.
"Пришлите начальника сектора к нам!" Я хотел тут же позвонить В.А. Ткачеву и
вызвать его в 1-й отдел. "Нет, Вы нам больше не нужны. Пусть придет сам".
Я ушел в недоумении. Послал начальника сектора к инспекторам. Тот от-
сутствовал довольно долго. И, вернувшись, продолжительное время на мои во-
просы не отвечал, отмалчивался. Но, в конце концов, все же открылся. Из его слов
стало понятно, что В.Ф. Семененко - украинский националист. Ну, пусть так. Это
дело спецслужб. Никаких определенных эмоций это у меня не вызвало. Через не-
которое время мне стало известно, что В.Ф. Семененко пытался поступить в ас-
пирантуру ДГУ, но ему было отказано в приеме именно потому, что он был чле-
ном националистической организации. И, пожалуй, даже жалко, что его не приня-
ли. Глядишь, я бы от него отделался.
Прошло еще какое-то время, и меня вызвали к начальнику 1-го отдела КБ-4,
когда я там же в особой комнате работал с секретными документами. В кабинете
ко мне обратился какой-то незнакомый человек: "Вам известно, что в Свердлов-
ске ведут работы по пороховым двигателям?". Я долго не думал: было интересно
узнать, куда ведут эти вопросы. "Известно!" - "А откуда Вы это знаете?" - "При-
ходилось встречаться на различных конференциях с работниками, которые были в
курсе этого и вели разговоры в кулуарах". Человек немного подумал и сказал:
"Можете быть свободным!".
Выйдя, я вспомнил, как, работая еще на Урале, однажды был в команди-
ровке в Министерстве обороны. Там удалось получить проект порохового двига-
теля, разрабатываемого в Свердловске, кажется, в ОКБ Цирульникова. И я запи-
сал основные параметры этого изделия где-то в середине совершенно секретной
тетради и оставил запрос на ее пересылку на предприятие п/я 41. Такое в то время
практиковалось. Но тетрадь я в то время так и не получил, а после и сам уехал с
Урала. Полностью понять этот эпизод мне так и не удалось.
И вот уже совершенно необъяснимое событие. Где-то уже в году 1968 или
1969 однажды утром мне звонит секретарь И.И. Иванова и говорит, что я должен
подойти к проходной, мол, меня и еще нескольких человек ждет автобус. Пошел.
Действительно, стоит автобус, а в нем уже сидят несколько человек: Борис Губа-
нов, который в то время был заместителем главного конструктора, Вадим Сергее-
вич Инюшин, заместитель И.И. Иванова, и еще два-три человека, сейчас уже не
помню кто.
Нас повезли на угол ул. Короленко и Чкалова, где находилось областное
управление госбезопасности. Провели в одну из комнат, где за столом уже сидел
генерал (то ли генерал-майор, то ли генерал-лейтенант). Перпендикулярно к его
столу, как водится, стоял еще один длинный стол, на котором, словно на выстав-
ке, были разложены какие-то книги, брошюры. Генерал не заставил себя ждать и
стал объяснять, что в настоящее время на Украине ширится националистическое
движение, распространяются соответствующие издания, образцы которых пред-
ставлены вот здесь на столе (некоторые из нас взяли в руки первые попавшиеся, я
тоже начал листать какую-то брошюру, но она была напечатана плохо, читать у
меня никакого желания в этих условиях не возникло, и я положил ее обратно).
Генерал между тем приводил конкретные данные о внедрении националистов в
первую очередь в организации и предприятия связи. Обратил внимание и на В.Ф.
Семененко: вот, дескать, и у вас подобные факты имеются. Призвал к бдительно-
сти. С тем и отпустил.
Между тем наступило время ежегодного "сокращения штатов". Эту проце-
дуру установил М.К. Янгель. Каждый год руководители под этим предлогом из-
бавлялись от неугодных работников, а немного позже главный конструктор раз-
решал вновь довести персонал до прежнего уровня. Вот я и решил воспользовать-
ся очередной "чисткой", для того чтобы отделаться от В.Ф. Семененко.
Но прежде чем окончательно включить его в список сокращаемых, я позво-
нил в спецслужбу ОКБ (не по своему телефону, а с одного из аппаратов, установ-
ленных в переходах нашего здания) по специальному номеру. Его мне дал со-
трудник спецотдела, посетивший меня уже в первые дни моей работы начальни-
ком сектора.
Разговор состоялся любопытный. У меня уже тогда были некоторые подо-
зрения, что В.Ф. Семененко работает на наши органы и всячески старается вы-
звать меня на провокации. "Я хочу уволить Семененко по сокращению штатов.
Вы ничего не будете иметь против?" - спросил я. "А почему мы должны иметь
что-нибудь против?" - несколько раздраженно ответили мне также вопросом.
"Так он ведь находится под вашей опекой". В этом утверждении мной намеренно
была заложена двусмысленность. С одной стороны, он мог быть их тайным осве-
домителем, а с другой - я всегда мог оправдаться, сославшись на то, что имел в
виду его националистические наклонности и действия и то, что, по их же призна-
нию, они за этим следили. "Так, значит, я его увольняю?" - "Увольняйте, если хо-
тите!" И я подал И.И. Иванову список на увольнение по сокращению штатов, куда
вписал и В.Ф. Семененко. Я ожидал, что тот придет и будет пререкаться со мной.
Но он не зашел даже проститься.
Однажды, уже снова работая в Подмосковье, я встретился с ним в подзем-
ном зале Курского вокзала в Москве. Он шел одетый в овчинный полушубок, о
чем-то оживленно беседуя с группой молодых людей и девиц. Они обогнали ме-
ня. В.Ф. Семененко сделал вид, что мы незнакомы, или действительно не узнал. Я
его останавливать не стал.
Кончилось все это, как часто бывало у меня и до того, переводом в Балаши-
ху Московской области во Всесоюзный научно-исследовательский институт
криогенного машиностроения (ВНИИкриогенмаш). Причин моего перевода в
Подмосковье было две. Во-первых, сын, как я отметил выше, уже учился в
МФТИ, а еще раньше женился, и ему была нужна действенная поддержка в
Москве. К этому времени и у дочери, студентки Ростовского медицинского ин-
ститута, появилась возможность перевестись в такой же московский вуз. Вторая
причина, возможно, более веская - это вышеописанные передряги на работе.
Заместитель главного конструктора КБЮ по кадрам, который почему-то
был очень недоволен моим переводом, согласился подписать приказ о нем до 1
января 1970 года. И он оформил перевод с 30 декабря.
И здесь, в самом конце моей работы в КБ, возникло два инцидента. Первый
- это с парторгом ОКБ. Он чрезвычайно был недоволен тем, что я не получил
предварительного согласия парторганизации. И даже пригрозил не отпустить ме-
ня. Но, видимо, переговорив с И.И. Ивановым, подписал обходной лист. (М.К.
Янгель в это время лечился в Кремлевской больнице.)
Второй инцидент возник в бухгалтерии. Когда я пришел туда с обходным,
бухгалтер КБ-4 (она по некоторым причинам была настроена против меня) вдруг
встрепенулась: "Вы получили оплату за выслугу лет в текущем году. А Вы знаете,
что она выплачивается только лицам, проработавшим целый год? Я с Вас ее вы-
чту!". И побежала к своему начальнику. Но вернулась притихшая и разочарован-
ная. Видимо, главный бухгалтер Мотренко встал на мою защиту. Этот хмурый,
неразговорчивый человек, подчас казавшийся даже неприязненно настроенным,
оказался справедливым. Как это было и позже в случае с премией, о чем уже было
написано выше.
Я посетил все отделы, тепло простился с сотрудниками, зашел к М.Д. Наза-
рову и И.И. Иванову. Заглянул было к И.И. Купчинскому, но его не было на ме-
сте. Для всех мой перевод в Подмосковье оказался совершенной неожиданно-
стью. После этого, уже в конце рабочего дня, я вернулся в отдел. Там уже шел пир
горой по поводу встречи Нового года и прощания со старым. Все дружелюбно
приветствовали меня. Командовал за столом В.Я. Михайлов. Он предоставил мне
слово. А к выступлению я не успел подготовиться. Еще не прошло раздражение
от стычки в бухгалтерии. И сейчас не помню точно, что мной было сказано. Но
тут я и объявил, что встречаюсь с ними в последний раз и завтра (а у меня уже
был билет на следующий день) выезжаю в Москву к новому месту работы. Со-
трудники пришли в явное замешательство, и по моей вине предновогодний
праздник был испорчен. Мне бы нужно было провести застолье выдержанно и до-
стойно и лишь в конце объявить о своем отъезде, поблагодарить сотрудников за
дружную работу и пожелать им дальнейших успехов, но я этого не сделал.
На другой день, уже перед самым отъездом, В.Я. Михайловым (он все же
почувствовал свою вину) на квартире В.А. Ткачева было устроено нечто вроде
прощального "днeвника". Присутствовали некоторые ведущие работники отдела и
два-три человека со стороны - товарищи В.А. Ткачева. Один из них, долговязый,
отличавшийся прямотой в своих мнениях украинец, все приставал ко мне: "Борис
Александрович, разве Вам плохо здесь жилось и работалось? Почему же Вы уез-
жаете в Москву?". Но я отмалчивался. И "днeвник" прошел вяло, без прощальных
тостов.
ВНИИКРИОГЕНМАШ
Подмосковная Балашиха. - Директор В.П. Беляков. - Теперь я - началь-
ник лаборатории в Криогенмаше. - Проблематичные разработки. - Насос для
сельского хозяйства. - Повышение научного уровня сотрудников моего подраз-
деления.- Взаимоотношения с руководством института
В это время директором Криогенмаша стал бывший мой номинальный за-
меститель Виктор Петрович Беляков. В НИИ-88 он был начальником отдела, за-
тем работал в Загорске заместителем директора по научно-исследовательской ра-
боте. После этого по совокупности работ ему была присвоена ученая степень док-
тора наук, и он был назначен директором ВНИИкриогенмаша. Конечно, нельзя
отрицать и личные качества В.П. Белякова. Это был энергичный, глубоко эруди-
рованный, довольно властный человек. Он был способен многое схватывать бук-
вально на лету. Так, переключившись с ЖРД на криогенику, он вскоре стал мно-
гое понимать, анализировать и предвидеть значительно лучше, чем его ближай-
шие помощники и заместители. Лишь руководители отделений, вроде Федора Ан-
тоновича Русака, решались иногда на совещаниях вступать с ним в пререкания.
С В.П. Беляковым у меня была договоренность о моем поступлении к ним,
когда он работал еще заместителем директора института Криогенмаш, а теперь,
когда он стал уже и его главой, формальности выполнили быстро. Из этого под-
московного НИИ за подписью директора пришел запрос на мой перевод.
И.И. Иванов согласился, и дело было обеспечено. Однако моя жена, которая заве-
довала детской больницей в МСЧ-56 при заводе, категорически возражала. Но я
ее не послушал, и договорился, что она будет принята заведующей терапевтиче-
ским отделением в Балашихинскую центральную больницу.
А 2 января 1970 года я был уже в Москве, где вначале остановился в гости-
нице и там встретился с сыном, приехавшим ко мне из МФТИ. А 4 января (Новый
год тогда праздновали три дня) приступил к работе начальником лаборатории по
испытаниям на жидком водороде, по гидравлике криогенных жидкостей, в част-
ности по гидроудару. Попутно у нас работала и установка ГС-6 для производства
жидкого водорода. При обращении с ним требовалась особая техника безопасно-
сти. Поэтому в состав нашего подразделения позже был включен и сектор по ее
разработке.
Меня устроили в общежитии для молодых специалистов в комнате на двоих
в трехкомнатной квартире. Сразу же был включен в график по выносу ведра с от-
бросами и по мытью полов, что я и выполнял с точностью, а мусор выносил даже
вне очереди. Иногда меня просили приходить попозже, так как молодые специа-
листы устраивали свои вечеринки, к которым я по возрасту уже не подходил. Так
в свои 53 года я вновь вселился в общежитие, но хорошо, что ненадолго. Уже в
марте был построен очередной институтский дом и я в нем, из личного фонда ди-
ректора, получил трехкомнатную квартиру, точно такую же, в какой была и моя
комната в общежитии.
До меня начальником лаборатории работал кандидат технических наук Ми-
хаил Иванович Дьячков. Состояла она из двух секторов. Начальником одного из
них был Александр Борисович Буланов, с такой же ученой степенью, что и его
руководитель. Другим заведовал выпускник Казанского авиационного института
Анатолий Митрофанович Домашенко, инженер, переведенный вместе с В.П. Бе-
ляковым из Загорска. Мне уж так везло, что почти всегда среди ближайших моих
помощников оказывались выходцы из КАИ. На Урале это был Георгий Алексан-
дрович Овчинников, на Украине Игорь Глебович Писарев, а здесь - А.М. Дома-
шенко, достойный, инициативный и очень честный человек. Собственно, началь-
ником сектора он был сделан по моему представлению, а до меня занимал долж-
ность заместителя начальника отдела, которая также была за ним сохранена.
Именно он после защиты диссертации был назначен начальником лаборатории по
моему представлению. Я тогда уходил на пенсию.
Нужно честно признаться, что к 53 годам моя былая энергия несколько сни-
зилась. Да еще гипертония. По формальным условиям мне пришлось пройти ме-
досмотр. Так врач меня вначале отказался допустить к работе, и я несколько дней
провел в постели, потому что давление повысилось примерно до 200. И хотя оно в
норму не пришло, но все же необходимую справку я получил.
Сначала я был направлен В.П. Беляковым к его заместителю Владимиру
Григорьевичу Пронько. Тот, заслушав мою биографию, сказал, что, вероятно, ра-
бота начальником лаборатории мне будет по плечу, и представил личному соста-
ву, которому я снова рассказал о себе.
Я отлично владел термодинамикой, теорией теплопередачи. Но вот знаний о
криогенике у меня было мало. Слабо я разбирался и в гидравлике. А она была
крайне необходима в моей новой деятельности, так как основные направления
многих научных исследований лаборатории были сосредоточены на гидроударе в
криогенных системах. Но все же именно о нем нам прочел курс в академии ра-
ботник ОКБ-2 Сенкевич.
Вначале главной целью лаборатории было наладить производство жидкого
винила (жидкого водорода) на установке ГС. И о том, сколько его было изготов-
лено за прошедший день, я первым должен был докладывать на каждой оператив-
ке. Он использовался в основном для испытаний различных материалов, и в
первую очередь стали. Этим занималась лаборатория Степанова. Задача оказалась
для меня не такой уж и трудной. Я организовал работу установки в три смены, и
вскоре мы стали вырабатывать в день до 1 м3 жидкого водорода. После этого пре-
тензии ко мне прекратились.
С двумя другими задачами я не справился. Первая - монтаж установки для
производства жидкого водорода ВЖ-02. Это было громадное и сложное сооруже-
ние. Автором проекта был начальник отдела института Константин Стефанович
Буткевич. Она проектировалась и изготавливалась дважды. В первый раз еще при
старом руководстве института. Когда пришел В.П. Беляков, заместители уговори-
ли его переделать проект под нержавеющую сталь. Что и было исполнено. Изго-
товление поручили заводу им. 40-летия Октября, который работал в одной связке
с институтом (позже это предприятие и наше научное учреждение и составили
НПО "Криогенмаш"). Но у завода и без нас было полно заказов. С ними он справ-
лялся плохо, а наши просто срывал. И должного внимания к этому не было как со
стороны руководителя производства Аветика Бадемяна, так и Виктора Петровича
Белякова. Вложили в это дело кучу денег - несколько миллионов рублей. Наконец
все поняли, что эта установка нужна разве для того, чтобы проверить, правилен
ли замысел ее конструктора К.С Буткевича. Да и практически испытать ее было
проблематично.
Газообразный водород мы привозили из Загорска. Для этого у нас было два
реципиента по три баллона каждый общим объемом 3 м3 газа при давлении 150
или 200 ати. Водорода из этих сосудов еле-еле хватало даже для такой лаборатор-
ной установки, как наша ГС-6. Что же говорить о ВЖ-02, рассчитанной на произ-
водительность в 100 раз более высокую? А строительство электролизного цеха
даже не запланировали. Словом, это был мертворожденный проект. Постепенно
начальный ажиотаж вокруг установки пропал, а затем о ней вообще перестали
вспоминать.
Некоторые ИТР нашей лаборатории помещались в инженерном корпусе ин-
ститута. Наше оборудование также находилось в разных местах: в специальном
помещении общего здания и в отдельном корпусе. Последний, где строили уста-
новку К.С. Буткевича, был передан вновь организованной лаборатории, которую
возглавил его сын Игорь Константинович. И по иронии судьбы он-то и демонти-
ровал ее в далеком от готовности состоянии. Сын разрушил то, что отец так хотел
воплотить. Впрочем, это было уже после смерти Константина Стефановича.
Второй задачей, которую я не решил, было создание крупномасштабной
установки для получения шуги - смеси водорода кристаллического с жидким.
Опять же по тем причинам, из-за которых не состоялся монтаж ВЖ-02. Для осу-
ществления проекта завод уже поставил значительное количество узлов, в том
числе и два криогенных сосуда объемом 2,6 м3 для хранения жидкого водорода.
Но к этому времени практика космонавтики уже опровергла представление о
большой экономичности применения водородной шуги. Это показали и результа-
ты нашей командировки в один из институтов Харькова, где такую шугу делали
для лабораторных исследований.
Не могу похвастаться какими-либо разработками в Криогенмаше, в которых
бы я принимал особо активное участие. Правда, в 1973-1974 гг. нашему институ-
ту поручили исследовать рабочие режимы насосов для заправщиков и распыли-
телей жидкого аммиака. Эта НИР была, вообще говоря, не нашей тематики. Но
тогда всех заставляли заниматься техникой для сельского хозяйства. И вот одна-
жды совершенно неожиданно к нам привезли цистерны, одна из которых была с
жидким аммиаком. Вот эту-то разработку я и взял под полное свое покровитель-
ство.
Н.В. Филин хотел было поместить установку для отработки насосов в ос-
новном здании лаборатории, где было несколько стендов, в том числе и копер для
испытания образцов стали и материалов после охлаждения их до температуры
жидкого водорода. Я категорически восстал против этого, так как пришлось бы
полностью прекратить работы на стенде, а также все оборудование было бы ис-
порчено парами аммиака. Прямо на дворе нашлась свободная бетонированная
площадка, на которой и установили эти цистерны. Быстро, оперативно, как это
делалось еще в начале моей работы в Подмосковье, без всяких чертежей, по уст-
ным указаниям вокруг этих цистерн соорудили кожух, внутрь которого подавался
горячий воздух сначала от одного, а позже от двух и даже трех калориферов, до-
ставленных из каких-то цехов. Это нужно было для того, чтобы создать внутри
температуру +40 ОС.
Были скомплектованы из работников нашей лаборатории и привлеченных
дополнительно три смены во главе с инженером, и пошла трехсменная работа.
Задача заключалась в том, чтобы добиться от центробежного насоса, приво-
димого во вращение движком от электропилы, гарантированного срока работы.
Сам агрегат разработал и заказал нам его испытания какой-то НИИ сельского хо-
зяйства. Правда, конкуренцию ему как-то составил один из наших конструктор-
ских отделов. Этим подразделением была предложена новая схема поршневого
насоса, несколько образцов которого было изготовлено. Но конкурент быстро
сошел с дистанции.
Испытывал насосы в основном заказчик. Мы же обеспечивали бесперебой-
ное проведение экспериментов и устраняли некоторые выявленные недостатки
конструкций. Это мы делали с большим успехом. Пригодился мой уральский
опыт испытаний двигателей и средних частей. Осечек с нашей стороны не было.
И конструкторы из НИИ сельского хозяйства еле успевали за нашим темпом. Все
закончилось к обоюдному удовлетворению. Вот цикл успешно завершен, состав-
лен межведомственный отчет. И на ежеквартальном подведении итогов работы
научно-исследовательских лабораторий Н.В. Филин охарактеризовал эти испыта-
ния как блестящие.
Эта работа непрерывно сопровождалась громким жужжанием, превышаю-
щим всякие допустимые децибелы. Страдали и мы, и жители поселка, особенно в
ближайших к институту домах. И в наш адрес поступали многочисленные инди-
видуальные и коллективные жалобы. И когда людей довели до того, что они гото-
вы были подать на нас в суд, испытания были прекращены.
Очень часто на всяких совещаниях лабораторию хвалили за активную под-
готовку научных работников. Когда я поступил в Криогенмаш, в подразделении
было лишь три кандидата технических наук. Одного из них, Долгова, я принудил
уволиться, так как он абсолютно не соответствовал этой научной степени. А за
семь лет моего руководства лабораторией у нас защитили кандидатские диссерта-
ции восемь сотрудников. Не составляло большого труда и мне получить такую
степень. Но эксплуатацию своих подчиненных я категорически отвергал. А если
бы делал диссертацию, то от начала до конца только своими руками и мозгами.
Но для этого не было условий. Я был слишком занят административными забота-
ми и исследованиями. Да, кроме того, не нашлось мне и темы, настолько неорди-
нарной, чтобы "загореться", а я был очень придирчив и щепетилен в этом отно-
шении. Лаборатория неоднократно первенствовала в соцсоревновании, которое
было организовано в институте, прямо скажу, образцово.
С Виктором Петровичем Беляковым у нас не было никогда никаких друг к
другу претензий. Но вот с Н.В. Филиным мы постоянно испытывали взаимную
скрытую неприязнь. Я его не любил хотя бы потому, что он беззастенчиво поль-
зовался своим положением зам. директора.
Вот, пожалуй, и все, что я могу сказать о своей последней работе. Весьма
скудно, но что поделать, раз энергия и инициатива ушли на прежние дела.
ГЛАВНЫЕ РАКЕТЧИКИ И ДРУГИЕ
С.П. Королев. - В.П. Глушко. - А.М. Исаев. - В.П. Макеев. - М.К. Янгель.
- Д.Д. Севрук. - Г.М. Табаков. - И.И. Иванов. - В.П. Беляков
Из вышеизложенного ясно, что трудился я во многих местах. И на каждом
из них мне пришлось достаточно долго непосредственно общаться с выдающими-
ся деятелями освоения космоса, или близко наблюдать руководителей ракетного
дела. И было бы неверно, неправильно умолчать о моем субъективном впечатле-
нии от этих людей.
С.П. Королев
С главным конструктором Сергеем Павловичем Королевым мне пришлось
сотрудничать мало. Но свое мнение о нем я составил. Это был, несомненно, выда-
ющийся организатор, энтузиаст, можно сказать, фантазер и фанатик космического
движения. Отсюда его непреклонность в достижении, казалось бы, фантастических
целей.
Он мог быть очень жестким к неординарным людям и очень снисходитель-
ным к невольным ошибкам окружающих. СП, как его называли в своем кругу, не
изменял своим друзьям и твердой рукою устранял любых конкурентов. Так, в
ОКБ-3 НИИ-88 был в свое время инженер, начальник то ли отдела, то ли сектора,
некто Ганин, который разработал в свое служебное время со своими единомыш-
ленниками проект ракеты, запускаемой с подводной лодки. Поскольку все это он
не согласовал с С.П. Королевым, тот отстранил его от этой работы и весь проект
поручил осуществить одному из ближайших своих сотрудников. Для этого было
создано совершенно новое ОКБ, которое находилось под опекой С.П. Королева
вплоть до его смерти.
По внешности Сергей Павлович Королев представлял собой весьма мощную
фигуру: среднего роста, крепкого сложения, с большой головой и короткой шеей.
От него так и веяло уверенностью и силой. Он чем-то напоминал Уинстона Чер-
чилля. Я думаю, что такой человек мог бы стать чрезвычайно выдающимся деяте-
лем и в политике, в руководстве страной.
Еще в 1953 году, когда я присутствовал на его лекции в МВТУ, организован-
ной для широкого круга создателей космической техники, он, представляя резуль-
таты первых полетов подопытных собак за пределы земной атмосферы, сказал:
"Недалеко то время, когда и человек отправится в космос". Я тогда, хотя и считал
себя большим приверженцем фантастических проектов, подумал: "А ведь предвос-
хищение СП всего лишь пожелание, и человеку в космосе еще долго не бывать". А
вот в 1961 году мы все оказались свидетелями полета Юрия Алексеевича Гагарина
и других космонавтов. И хотя в этом достижении слились итоги труда многих уче-
ных, организаций и ОКБ, без С.П. Королева лично космические полеты в Совет-
ском Союзе были бы невозможными. И если на Луне первыми оказались амери-
канские астронавты, то потому только, что Сергей Павлович к этому времени был
уже мертв.
У меня существует твердое убеждение, что Сергей Павлович Королев был
злодейски умерщвлен с подачи американских резидентов, так как если бы он был
жив, то пальма первенства посещения Луны досталась бы Советскому Союзу. И
хотя некоторые утверждают, что стартовая мощность ракеты была недостаточна
для экспедиции на Луну, несомненно, что СП имел в своих задумках и резервы
усиления двигателей, и другие варианты. Об одном из них я говорил выше: это из-
менение коэффициента ? - отношения веса (массы) снаряженной ракеты к тяге
стартовых двигателей. Достаточно было увеличить объем топливных баков, что
технических затруднений не вызывает. Конечно, пришлось бы отойти от опти-
мального коэффициента ?, но получить необходимый конечный эффект.
Также можно было для полета на Луну использовать два космических аппа-
рата. При этом на первом из них космонавты достигли бы Луны, облетели ее и се-
ли, а возвратились бы на Землю на другом. Да мало ли глобальных, совершенно
неожиданных идей хранила в то время голова Сергея Павловича Королева!
В.П. Глушко
Вторым в этой плеяде главных конструкторов должен быть поставлен Вален-
тин Петрович Глушко. Не столько по своим знаниям, способностям теоретика и
организатора, не столько по своим личностным качествам (они были весьма за-
урядны), сколько по своему неуемному стремлению возвеличиться, утвердиться,
представить себя основоположником реактивного движения в Советском Союзе.
Все усилия В.П. Глушко в основном сосредоточивались на том, чтобы поддержи-
вать свой "имидж" в реактивной технике.
Для этого, кстати, им было выпущено две книги о сравнении эффективности
топлив для ракет. Первая вышла еще в 1933 году в академии им. Жуковского, а
вторая, во многом всего лишь повторение предшествующей, дополнялась полным
набором его авторских свидетельств на изобретения (в большинстве своем мелкие,
совершенно незначительные). В обеих книгах для оценки видов горючего он пред-
лагает метод, который иначе как коварным не назовешь, и делает вывод, на прак-
тике впоследствии опровергнутый, что жидкий водород как топливо для реактив-
ных двигателей не имеет никакого будущего.
Все притязания В.П. Глушко на непревзойденное первенство в разработке
ракетных двигателей сразу же развенчиваются, если взглянуть на все им созданное
до того времени, как к нему попала ракета Фау-2. Взять хотя бы его ускоритель
РД-1-ХЗ. Тяга всего 300 кгс, сложность конструкции прямо-таки невероятна, и ни-
каких дальнейших личных перспективных работ.
С презрением относился ко всем окружающим, которых считал неизмеримо
ниже себя, был мстительный, до предела самолюбивый. Как организатор он был
никудышный, как конструктор ниже всякой посредственности. И всем успехам
своего научного коллектива этот руководитель обязан тому, что по разным причи-
нам в его ОКБ оказались весьма сильные творческие личности: Владимир Андре-
евич Витка, Доминик Доминикович Севрук, Сергей Петрович Агафонов, Георгий
Николаевич Лист и некоторые другие.
Как преподаватель В.П. Глушко был весьма плох. Лекции читал нудно и ма-
лопонятно. Вычертит, бывало, на доске таблицу со свойствами различных реактив-
ных топлив, а объяснить толково и доходчиво не может. Было такое впечатление,
что и книги-то свои он писал не сам, а кто-то это сделал за него или сильно помог.
О мелочности этого человека говорит ставший известным в свое время факт,
связанный со сменой его местожительства в Москве. В своей бывшей квартире, ку-
да вселялся его заместитель В.А. Витка, он приказал везде, вплоть до прихожей,
вывернуть все электрические лампочки, а с работниками, взятыми для помощи при
переезде с подчиненного ему завода, расплатился... пустыми бутылками: "Вы их
возьмите и продайте!".
Вообще, он всегда выглядел весьма импозантно. Умел подать себя. Был не-
многословен. Не курил, не пил, но считался большим гурманом. Не любил поки-
дать свой кабинет для посещений даже подчиненных ему подразделений. Извест-
но, что на стрельбах ракет в Западной Германии, организованных американцами,
где был и В.П. Глушко, они дали ему определение "темная лошадка".
А.М. Исаев
Алексей Михайлович Исаев, главный конструктор, рядящийся под "своего
парня" демократичным поведением, действительно внешне отличался особой про-
стотой, изумлявшей многих. Как-то, кажется, с 50-летием поздравляли его главные
конструкторы. И вот одного из них секретарь впускает в кабинет, но А.М. Исаева
прибывший не видит. И вдруг откуда-то из-под стола раздается голос: "Проходите,
садитесь! Я вот простудил снизу и теперь лечусь". Алексей Михайлович сидит на
полу, прислонившись к отопительной батарее.
Этот руководитель часто устраивал коллективные выпивки, для организации
которых отдавал все свои премии. За так называемые "пьянки под шарами" его
разбирали в парткоме НИИ-88. Шары - это сосуды в лаборатории, под которыми
сотрудниками были сооружены столики и скамейки. Спирта на работе всегда было
хоть отбавляй. Вот его частенько там и распивали с участием А.М. Исаева.
Когда он ехал на машине на работу, то по пути не раз останавливался и под-
бирал идущих пешком своих людей. Коллектив у А.М. Исаева был дружен, удиви-
тельно изобретателен (возможно, и он сам тоже), и поэтому двигатели его кон-
струкции отличались простотой и надежностью. В.П. Глушко почему-то не считал
его своим учеником.
Мне довелось присутствовать на похоронах Алексея Михайловича Исаева,
кажется, в 1971 году. Поехали мы на "рафике" в Калининград. Уже приближаясь к
площади, заметили несколько грузовых машин, в кузовах которых стояли металли-
ческие пирамиды, ломившиеся под тяжестью множества венков. На площади был
митинг. Человеческое море. Выступали с прощальными словами друзья, сотрудни-
ки, представители организаций, главные конструкторы, в том числе, помню, В.П.
Макеев. После митинга кортеж машин с гробом А.М. Исаева на передней двинулся
к Москве, затем по Садовому Кольцу, где движение общественного транспорта
было перекрыто, к Новодевичьему кладбищу. На одном из поворотов мне удалось
окинуть взглядом длиннющую вереницу машин с людьми, сопровождавшими
Алексея Михайловича в последний путь. Это было впечатляющее зрелище. Кортеж
растянулся, наверное, не менее чем на километр.
Все-таки будь то даже показная демократия, но она сработала. А.М. Исаева
провожали массы народа. А на Новодевичьем кладбище над его могилой выросла
гора венков. Помню, как последние из них с великим трудом забрасывали наверх.
В.П. Макеев
Главный конструктор Виктор Петрович Макеев, очень способный и талант-
ливый организатор, бывший крупный комсомольский работник. И, по-видимому,
опыт деятельности в этом качестве ему немало помог создать молодой творческий
коллектив. Чрезвычайно решительный, общительный, как правило, не таящий зла.
Не брезговал, без всякой демагогии, отмечать праздники (дни рождения и пр.) со
своими ближайшими сотрудниками. Быстро сделал карьеру, сумел войти в доверие
к С.П. Королеву (явно имея в виду определенную выгоду). Любимым его героем
был морской волк Ларсен Джека Лондона. Он даже сравнивал страшные головные
боли, которые иногда испытывал этот персонаж, с аналогичными у себя.
Я не сторонник влезать в интимную жизнь этих больших людей, но о забав-
ном случае с Виктором Петровичем, событии, которое стало известно во всем его
ОКБ, стоит рассказать. Однажды В.П. Макеев получает письмо, в котором его из-
вещают о том, что он "проигран" в карты заключенными. А в то время город, где
он работал, был окружен исправительными лагерями. Он сдал это письмо в
спецорганы. Там оперативно провели следствие и определили, что автор этого
письма одна из женщин-инженеров ОКБ. Как-то она оставалась на ночное дежур-
ство в канцелярии главного конструктора, а В.П. Макеев, припозднившись на ра-
боте, якобы принудил ее к связи. Вот она и решила отомстить таким образом.
Впоследствии он стал сильно злоупотреблять спиртным, в конце концов и
умер 25 октября 1985 года как раз в свой 61-й день рождения.
М.К. Янгель
Михаил Кузьмич Янгель, в прошлом, также как и В.П. Макеев, видный ком-
сомольский работник, бывший одно время заместителем С.П. Королева, возглавил
новое ОКБ, отпочковавшееся от королёвского. Он не отличался ни значительным
организаторским талантом, ни особыми знаниями теории и практики реактивного
движения, ибо пришел на эту стезю поздновато. Но благодаря большой перспек-
тивности нового направления в создании стратегических ракет (одну из них, разра-
ботанную в его КБ, американцы окрестили "Сатаной"), а также талантливому, мо-
лодому коллективу (сам Михаил Кузьмич любил во всех выступлениях подчерки-
вать молодость своих сотрудников) быстро стал руководителем авторитетного КБ.
Ракеты различного типа конструировались и входили в серийное производство од-
на за другой, и скоро "ракетный щит Родины" стал состоять почти полностью из
ракет ОКБ М.К. Янгеля.
Человек незлобивый, ровного характера, даже доброжелательный, он стал
любимцем коллектива, хотя из-за болезни (он стал "попивать", нажил проблемы со
здоровьем) все более отходил от реального управления делами (большинство тех-
нических решений уже принималось без его участия).
Однако благодаря своим благородным сединам и осанке с честью представ-
лял ОКБ перед высшим руководством. Но все же это начальство воспринимало его
недостаточно серьезно. Так, известно, что на одном испытании логично было при-
нято решение, совершенно противоположное его мнению как главного конструк-
тора. И когда он со злостью сломал карандаш, кто-то из высокопоставленных чи-
нов сказал: "Ну что ты, Миша, успокойся!".
После из-за одной из крупнейших аварий на полигоне, в результате которой
погибло более сотни человек, М.К. Янгель совершенно сник и стал пить напропа-
лую, так что один из его начальников отделов, покойный Эрик Михайлович Каша-
нов, говорил: "Как зайдешь к Михаилу Кузьмичу в его кабинет, так после обяза-
тельно хочется закусить".
И вот как-то утром (это было в 1972 году, когда я уже работал в Балашихе)
мне позвонил по телефону начальник отдела кадров: "Послушай, ведь ты, кажется,
перевелся к нам из Днепропетровска?" - "Да".- "Ты знаешь Янгеля Михаила Кузь-
мича?" - "Конечно, знаю!" - "Так вот, нет больше твоего Янгеля, умер! Выходи из
института, садись на первое такси и поезжай к Дому Советской Армии, там вы-
ставлен его гроб. Может быть, еще поспеешь".
Я так и сделал. Выскочил из института, схватил проезжавшее такси, приехал
к Дому Советской Армии. Возле него на улице стояло не так уж и много народа. Я
встал в очередь. Становились и за мной. И вдруг милиционер, наблюдавший за по-
рядком, объявил, что доступ в здание прекращается, и преградил путь своим жез-
лом. Но я все же проскочил мимо него, попал последним к гробу и отдал дань
усопшему. Все-таки хороший был человек.
Ни в какой кортеж я не попал. Не было времени отыскать машину ОКБ, и я
помчался каким-то транспортом на Новодевичье кладбище. Кое-как пробился
сквозь оцепление. Начал моросить дождичек. Картина похорон была совсем иная,
нежели при похоронах А.М. Исаева. Народу было немного. Под дождем было не-
уютно. И ближайшие сотрудники М.К. Янгеля словно бы спешили выполнить воз-
ложенную на них неприятную и тяжелую обязанность.
Помню неприглядную картину. Гроб поднимали люди разного роста, и сзади,
чтобы он не соскользнул с их плеч, гроб подпирал, сам чуть не падая, помощник
покойного Петр Михайлович Колос. Едва закопали могилу, положили несколько
венков, и все стали спешно разбегаться с кладбища. Я остановил бывшего своего
сотрудника Игоря Писарева и попробовал было вместе с ним помянуть Михаила
Кузьмича, но Писарев к этому был явно не склонен. Он спешил по каким-то своим
делам. Ведь здесь, в Москве, он был всего-навсего в командировке в составе деле-
гации из ОКБ "Южное". И у него наверняка было запланировано кое-что купить и
пр. Больше никого из ОКБ я не встретил и удрученный этой неприятно выглядев-
шей церемонией небрежного прощания с таким, в общем-то, прекрасным челове-
ком возвратился в Балашиху.
Умер М.К. Янгель в день своего шестидесятилетия в приемной у министра
общего машиностроения С.А. Афанасьева. Главный конструктор, очевидно, ждал,
что к юбилею его чем-нибудь наградят, ну хотя бы орденом Ленина. Но министр
лишь сухо его поздравил (в это время заместителем Председателя Совета Мини-
стров СССР был Леонид Васильевич Смирнов, бывший директор завода, работав-
шего совместно с ОКБ М.К. Янгеля, непримиримый его недоброжелатель), и всё.
Такого унижения сердце Михаила Кузьмича не выдержало, и он, выйдя из кабине-
та министра, скончался в его приемной в присутствии врачей, сопровождавших его
из больницы.
Жена М.К. Янгеля, Ирина Стражева, была профессором Московского авиа-
ционного института и, не желая поступиться своим служебным положением, все-
гда проживала в Москве, приезжая в Днепропетровск лишь для того, чтобы забрать
у мужа деньги. Михаил Кузьмич долгое время жил в одном из номеров гостиницы
и лишь позже перебрался на скромную дачу, построенную в одной из городских
балок рядом с Комсомольским парком.
А менее чем через десять лет умер и его сын, Александр Михайлович Стра-
жев (он носил фамилию матери), но осталась дочь, Людмила Михайловна, по отзы-
вам, очень хорошая женщина.
Д.Д. Севрук
Под конец этой небольшой галереи ракетчиков хочу вспомнить главного
конструктора, который не стал Героем Социалистического Труда, не получил вся-
ких титулов и наград, однако, по моему мнению, был достоин занять второе место
после Сергея Павловича Королева. СП как-то презрительно назвал его "какой-то
полячишко", хотя в свое время они в качестве бортинженеров на самолете сов-
местно отрабатывали ускоритель В.П. Глушко с тягой 300 кгс и были, вероятно,
очень дружны.
Речь идет о Доминике Доминиковиче Севруке. Как я уже отметил, он был
одно время бортинженером у В.П. Глушко, затем тот назначил его своим замести-
телем по научно-исследовательским лабораториям, а в 1952 году он стал главным
конструктором ОКБ-3 НИИ-88.
Это был очень образованный, истинно интеллигентный человек с громадной
технической эрудицией. В своем ОКБ он действительно был главным конструкто-
ром, автором большинства технических новшеств, лично предлагал неординарные
идеи, воплощаемые в конструкциях двигателей. Был он и достаточно хорошим ор-
ганизатором, но вот неуступчивым в отношении вышестоящих начальников (в
частности, работая главным конструктором ОКБ-3 НИИ-88, немало конфликтовал
с М.К. Янгелем, тогда директором этого института). Обладал большим чувством
юмора, даже едкого на первый взгляд. Не все это понимали и считали его юмори-
стические и сатирические высказывания, замечания и реплики выражением непри-
язненного отношения к людям.
На самом же деле он был очень добрым, внимательным и заботливым чело-
веком. Я хорошо помню, как один из его даже не ведущих, а второстепенных со-
трудников, Владимир Андреевич Орехов попал в больницу с прободением язвы
желудка. И он бы погиб, если бы не Доминик Доминикович Севрук, который на
машине мотался по аптекам и лечебным заведениям Москвы до тех пор, пока не
нашел пенициллин, тогда (в 1947 году) большую редкость.
Но, видимо, не в последнюю очередь из-за своего острого языка он быстро
приобрел себе врагов, и в лице А.М. Исаева, с которым успешно конкурировал, и
среди сотрудников и руководителей КБ, в их числе был и его первый заместитель
(впоследствии зам. министра) Глеб Михайлович Табаков.
Д.Д. Севрук весь до конца отдавался работе. Настолько, что были случаи, ко-
гда он терял сознание на рабочем месте. Кончилось тем, что его выжили с должно-
сти главного конструктора ОКБ-3 и частично его разбил паралич. Что случилось
перед этим, я не знаю.
Затем он был назначен главным конструктором совершенно нового по за-
мыслу и типу электроядерного двигателя, с помощью которого только и могут
стать реальностью дальние полеты в космосе, например к Марсу. Но и здесь он ко-
му-то не потрафил, и его сделали главным конструктором проектируемого центра
для испытаний космических аппаратов в рабочих условиях (в громадных вакуум-
камерах). Этот объект он мечтал построить под Тарусой, в красивой местности на
Оке. Но проект не был осуществлен, и Д.Д. Севрук, будучи доктором технических
наук (эта степень была справедливо присуждена ему по совокупности работ в ра-
кетной технике), стал читать лекции в Московском авиационном институте.
Вот такой путь с непреодолимыми преградами в виде отрицательного отно-
шения к себе людей прошел этот неординарный, прекрасный по своему внутрен-
нему содержанию и даже по внешности человек, мало и неправильно оцененный
большинством его современников. По своему творческому потенциалу он мог бы
многое сделать для космической науки.
Г.М. Табаков
Не могу забыть и такую колоритную фигуру, как Глеб Михайлович Табаков.
Вначале он был в Загорске директором НИИ-229, который, что называется, сделал
своими руками от начала до конца. Затем был назначен заместителем к Д.Д. Се-
вруку, но, по какому-то недоразумению, вступил с ним в открытую борьбу, и сразу,
как мне известно, проиграл. Видимо, конфликт возник из-за близости Г.М. Табако-
ва к некоторым сотрудникам ОКБ-2 А.М Исаева. К тому же и ближайшее окруже-
ние Глеба Михайловича, прежде всего Сергей Дмитриевич Грунич, настроило его
против главного конструктора. Через некоторое время Г.М. Табаков был назначен
заместителем директора НИИ-88, позже снова возглавил НИИ-229, а вскоре стал и
заместителем министра общего машиностроения. Вряд ли он был на месте среди
тех бумажных душ, которые его окружали в министерстве. В НИИ-1 (НИИТП) ро-
дился стих, который отражал несколько пренебрежительное к нему отношение:
Кто нас учит, дураков?
Глеб Михалыч Табаков.
Был он человеком грубоватым, резким, не раз, разговаривая по телефону, так
вешал трубку, что весь аппарат разлетался вдребезги. Любил выносить выговоры.
Несколько раз в месяц. Но никогда не применял крайних мер. И нередко случалось,
что работник, имевший несколько выговоров, в конце месяца получал премию, го-
раздо б?льшую, чем другие.
Благодаря этим формальным выговорам улизнул в 1956-1957 гг. от назначе-
ния главным механиком машинно-тракторной станции (МТС) сотрудник бывшего
моего отдела Борис Павлович Пиколов. Кандидатуры направляемых на МТС, в
колхозы и совхозы обсуждались на общих партийных собраниях НИИ-88. Б.П. Пи-
колов договорился с кем-то из друзей, и когда была названа его фамилия, раздался
вопрос из зала: "А Вы имеете взыскания?" - "Да, имею выговоры". - "И сколько?"
- "Шесть за последние полгода!"
В зале поднялся шум, раздались возмущенные голоса, и как лично сам Г.М.
Табаков ни растолковывал, что эти выговоры просто так, одна формальность, зал
не удовлетворился его объяснением и кандидатура Б.П. Пиколова была почти еди-
ногласно отклонена.
Еще была у Г.М. Табакова такая особенность. Скажем, вечером он мог
накричать на человека, предъявить ему массу обвинений, а на утро дружелюбно
здороваться, словно ничего и не было. На пенсию из министерства он ушел рано.
Жив ли сейчас?
И.И. Иванов
Как это мог бы я обойти вниманием главного конструктора КБ-4 ОКБ "Юж-
ное" Ивана Ивановича Иванова, с которым мы в общей сложности вместе труди-
лись более десяти лет? Знал я его еще в ОКБ-456 В.П. Глушко, где он работал в
скромной должности начальника группы камер сгорания. В 1952 году при органи-
зации ОКБ М.К. Янгеля его перевели в Днепропетровск, вначале начальником от-
дела, а через некоторое время назначили главным конструктором КБ-4, курирую-
щим двигатели В.П. Глушко. Ему присвоили звание Героя Социалистического
Труда, впоследствии он стал членом-корреспондентом Академии наук Украинской
ССР. Занимаясь двигателями В.П. Глушко, создал и собственные конструкции: ру-
левые двигатели всех янгелевских ракет, "лунник" для С.П. Королева, двигатель
закрытой схемы по "сладкому" циклу (единственный в своем роде в Советском
Союзе, об этом я уже писал) и другие.
Был И.И. Иванов человеком, хотя и не выдающимся, но здравого ума и чрез-
вычайно осторожным. Ни разу за все время своей работы он не позволил даже по-
высить голос на какого-нибудь сотрудника. Исключительно порядочный, исполни-
тельный, добросовестный и работоспособный. Так что звание Героя Социалисти-
ческого Труда он заслужил честно. М.К. Янгель уважал И.И. Иванова и всегда при-
слушивался к его мнению.
Иван Иванович не делал гадостей кому бы то ни было. Возможно, это расце-
нивали как слабость и много пакостили ему. В первую очередь этим занимался
начальник отдела насосов его собственного КБ Владимир Федорович Егоров, кото-
рый вообще обладал невыносимым и паршивым характером. Специалистом же он
был неплохим. Случалось, что в споре с В.Ф. Егоровым И.И. Иванов не выдержи-
вал и уходил из кабинета, сказав: "Проводите совещание без меня!". Без него, ко-
нечно, все прекращалось.
Так же не раз доводил его до "белого каления" и Виктор Петрович Беляков,
который наезжал в КБ-4 в качестве председателя Государственной комиссии по
разбору аварий при пусках ракет. И тогда Иван Иванович выскакивал из своего ка-
бинета, оставляя распоряжаться заседанием спорных комиссий В.П. Белякова.
Остыв, он возвращался обратно.
В последний раз мне довелось встретиться с И.И. Ивановым в Балашихе, ку-
да он приехал, чтобы отдать последний долг Виктору Петровичу Белякову. В это
время он уже не был главным конструктором КБ-4, а руководил комплексом по
разработке жидкостных и трассовых двигателей. Ими непосредственно занимался
Владимир Иванович Кукушкин, а на место Ивана Ивановича был назначен Алек-
сандр Викторович Климов, который много сделал для поддержания авторитета
И.И. Иванова, в частности читал за него лекции в Днепропетровском государ-
ственном университете.
В.П. Беляков
Виктор Петрович Беляков был номинально моим заместителем еще в то вре-
мя, когда я работал начальником испытательного отдела в ОКБ-3, а фактически он
был ведущим инженером по одному из изделий Д.Д. Севрука.
Я полностью исключаю использование протекции С.П. Королевым для свое-
го выдвижения в главные конструкторы. Вряд ли было связано с какой-нибудь
особенной поддержкой и назначение В.П. Глушко. Это были старейшие работники
реактивной техники, которые переписывались еще с семьей К.Э Циолковского. У
меня не имеется данных о фаворитизме в отношении других главных и генераль-
ных конструкторов.
Виктор Петрович обладал большой эрудицией, изумительно быстро, на лету
схватывал новые мысли, выдавал их сам и был очень требовательным и даже жест-
ким (я не говорю "жестоким") начальником. Особенно непримиримо он относился
к тем своим сотрудникам, которые, не имея на это данных, пытались противопо-
ставить себя ему. Это касалось в первую очередь Вильяма Феликсовича Густова.
Вероятно, получил от него "по заслугам" и начальник отдела кадров Василий
Федорович Золотилин, который был уличен в распространении в Криогенмаше по-
рочащего Виктора Петровича мнения. (Это, кстати, удалось установить парторгу
института Леониду Николаевичу Чекалову: он случайно сравнил шрифт докумен-
та, выпущенного отделом кадров, с пасквилем.) Вскоре после этого В.Ф. Золоти-
лин, будучи, вероятно, под впечатлением разоблачения, переходя улицу, попал под
машину и погиб.
Доставалось от него и Константину Стефановичу Буткевичу, который умер
вскоре после начала моей работы в Криогенмаше. До больших скандалов доходили
на совещаниях и препирательства В.П. Белякова и начальника отделения Федора
Антоновича Русака, очень грамотного, работоспособного человека и умелого орга-
низатора. Ф.А. Русак безвременно умер (в 60 лет или на 61-м году). Он очень близ-
ко принимал все к сердцу.
Еще я был свидетелем, как в кабинете директора резал "правду-матку" в гла-
за его заместителю Николаю Васильевичу Филину Борис Александрович Иванов.
В.П. Беляков выслушал до конца и заметил только: "Ну, что ты скажешь, Николай
Васильевич? Ведь Иванов-то во всем прав!".
Виктор Петрович не раз высказывал свое "кредо", что он просто ненавидит
людей, которые при своем возвышении в борьбе "за место под солнцем" на чем-то
останавливаются и перестают двигаться дальше.
За свою упорную работу В.П. Беляков заслужил звание Героя Социалистиче-
ского Труда, стал членом-корреспондентом АН СССР, лауреатом Ленинской пре-
мии и незадолго до смерти генеральным конструктором по криогенной технике.
Судьба была несправедлива к нему: сын кончил жизнь самоубийством, вы-
бросившись из окна; внучка, которую он безумно любил, скончалась от рака, бу-
дучи ученицей еще только первого или второго класса. Сам В.П. Беляков послед-
ние лет десять болел лейкемией и спасался лишь тем, что ему ежегодно делали не-
сколько переливаний крови.
Работал до последнего дня. Придя домой, почувствовал себя плохо. Срочно
позвонил своему референту (можно подозревать, что это был ставленник КГБ)
Юрию Михайловичу Брошко: "Приезжай! Я загибаюсь!". Тот примчался на своей
машине, вынес Виктора Петровича на руках, отвез в Кремлевскую больницу, но
было уже поздно. Скончался Виктор Петрович Беляков 27 августа 1986 года на 64-
м году жизни. Менее чем за год до этого я ходил к нему подписывать ходатайство
по размену жилой площади и выразил свое удовлетворение тем, что он так хорошо
выглядит. "Хорошо-то, хорошо! Но вот если бы и внутри так же было хорошо", -
сказал Виктор Петрович. Был жизнерадостен, шутил, ругался по телефону со Ста-
рожиловым, председателем райисполкома. И вот...
Это, пожалуй, и все, что следовало изложить о делах и людях, с которыми я
повсеместно делил трудовые будни.
Чистополь - Казань - Германия - Химки - Подлипки -
Златоуст - Днепропетровск - Жуковский - Балашиха
1992 г.
--------------
------
3
Свидетельство о публикации №214122802140