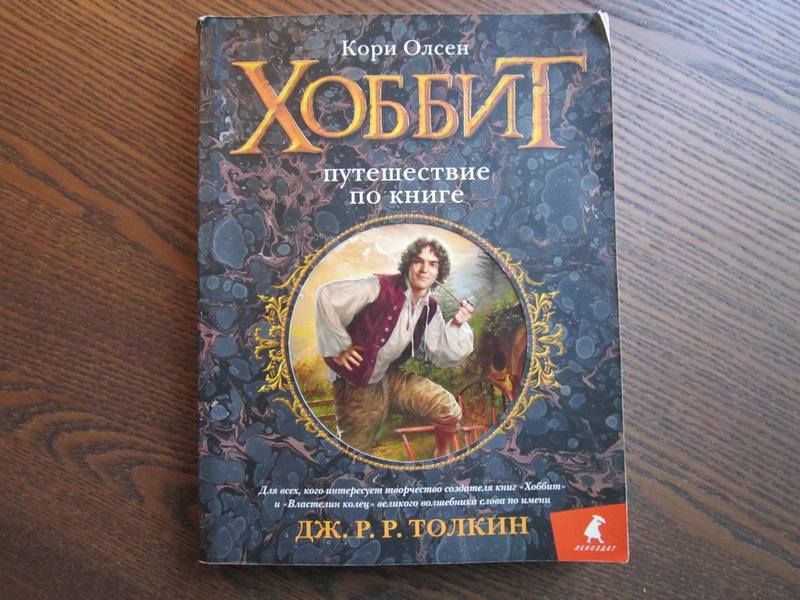Hobbit как абсолютный дух небольшого размера
«Хроника Фредегара», неизвестный автор, VII в. Р. Х.
Prologos
О хоббитах. Ну, казалось бы, что может быть проще, чем написать: "В земле была нора. А в норе жил хоббит..."
Удивительную историю о том, как всего лишь из одного древнего, а главное, "непроясненного" (для профессора английской словесности Дж. Р. Р. Толкина) слова - a hobbit - родилась вселенная Средиземья, дотошный читатель может прочесть в книге Тома Шиппи "Дорога в Средиземье", а ленивый - по меньшей мере, в статье одного из первых (и лучших!) переводчиков "Властелина колец" В. Муравьева "Предыстория", которой издательство АСТ стало предварять многие современные издания "Властелина колец" и "Полной истории Средиземья". В последние годы все новые и новые издания Толкина в самых разных сериях хоть в большинстве своем весьма скромны в техническом исполнении (за исключением разве что серии "Золотой фонд мировой классики"), но зато выходят в приличных переводах. А для издания Толкина на русском языке проблема перевода является фундаментальной.
I.
Первая часть вышедшего на экраны художественного фильма "Хоббит" свидетельствует о развитии таланта режиссера Питера Джексона и его команды в деле воплощения литературного жанра фэнтези на киноэкране. Экранизация "Властелина колец", во-первых, показала, что ЭТО, вообще, возможно; во-вторых, задала такую планку, что всем остальным деятелям кино, замышляющим съемки фильмов в жанре фэнтези, теперь есть к чему стремиться и на что ориентироваться.
В свою очередь, новое творение Джексона эту планку поднимает еще выше. И дело не только в технических новшествах. Он снял фильм единственным способом, позволяющим "Хоббиту" не выглядеть слишком наивным и детским, а именно - с точки зрения читателя и зрителя "Властелина колец", знакомого со всей последующей историей «войны за Кольцо».
Джексон существенно расширил сюжетные и драматические рамки толкиновской повести. И я не случайно начал статью с упоминания об одном слове, изменившем, если хотите, судьбу не только вымышленного мира Средиземья, но и вполне реального нашего мира.
Это слово hobbit.
Известно, что "Хоббит" и "Властелин колец" стали самыми издаваемыми и читаемыми книгами ХХ века. Возможно, останутся таковыми и в веке XXI-м. Они повлияли на самые разные поколения так, как прежде влияла только Библия - самая издаваемая и читаемая книга всех времен и народов. В известном смысле, "Властелин колец" стал Библией ХХ века - века секуляризма и воинствующего атеизма, а слово hobbit стало логосом, из которого вырос мир Средиземья, его нравственные и идейные интенции, воспринятые людьми ХХ века.
Все толкиновские лейтмотивы, образы, сюжеты нашли неожиданно сильный отклик в сердцах самых разных читателей.
С момента первой публикации «Хоббита» в 1937 году мир изменился так сильно, как ранее менялся раз в 500, а то и в 1000 лет. Чудовищная, небывалая в мировой истории война, изменившая мир, по своему масштабу и значению была сродни описанной впоследствии Толкином «войне за Кольцо всевластья».
Несмотря на то, что Толкин как яростный противник аллегорий и воспеватель «чистой поэзии мифа» всю жизнь яростно открещивался от параллелей и сопоставлений «Властелина колец» с реальной историей, получилось так, что именно дистанцирование автора от грубых аллегорий, но вместе с тем мифологическое повествование о том, что более всего волнует всех людей в мире, принесло автору и его произведениям успех, которого не ожидал никто, включая самого профессора Толкина.
Вместе с тем, Толкин, будучи истинным католиком, стал чуть ли не единственным христианским автором ХХ века, оказавшим достаточно большое влияние на становление личности и мировоззрение его читателей. Казалось бы, на эту роль скорее претендовал его друг и коллега, протестант К. С. Льюис, автор «Хроник Нарнии».
Но вот смотрите, Льюис был христианским писателем, претворяющим притчу и аллегорию в любимый массовым читателем жанр приключенческого романа. Успех у него был. Есть. И будет. Но намного меньший, чем у Толкина, создавшего «мифологию-до-Христа» или миф-провозвестник Христа. И ведь это сильнее подействовало на читателей ХХ века, века-утратившего-Веру, века попрания христианства и христианских основ существования. Значит, была внутренняя потребность у людей к тому, чтобы заново открыть для себя то, чему учил Христос. Книги Толкина внесли не столь очевидный, но зато неоценимый (и неоцененный!) вклад в сохранение христианской сущности Западной цивилизации, включая и Россию.
О глубоко христианской сущности "Властелина колец" - не осознаваемой большинством зрителей и читателей, но воспринимаемой подсознательно - можно прочесть в уже упомянутой мною книге Тома Шиппи "Дорога в Средиземье".
Да, Толкин, сочиняя "Хоббита", имел весьма смутное представление о том, во что это все выльется. Тем удивительней и, если хотите, волшебней представляется дальнейшая судьба его изначальной задумки.
Прежде чем обратиться к «программной» и отвечающей на многие наши вопросы лекции профессора древнеанглийской словесности Дж. Р. Р. Толкина «Беовульф: чудовища и литературоведы», хотелось бы сказать несколько слов о критиках и литературоведах сегодняшних. С одной стороны, хорошо, что Толкина они в грош не ставят («э-э… это разве литература?») – нет нужды опровергать их мудрые мысли и тонкие замечания. Дай им волю – они и Библию разнесут в пух и прах («право слово, ну что за текст, что за стиль – не то, что мсье Музиль!...»).
Если бы я назвался просто филологом - поклонником и пусть даже исследователем Толкина – еще ничего. Но для «истинного» литературоведа – это просто какой-то моветон. Что ж, такой литературовед напоминает мне старого библиотекаря Хорхе из «Имени Розы» У. Эко – убийца радости, враг смеха и уж, конечно, ненавистник волшебной сказки.
II.
Итак, прочитанная 25 ноября 1936 года в Британской Академии лекция профессора Толкина «Беовульф: чудовища и литературоведы» стала поворотным моментом между академической гуманитарной наукой и широкой публикой.
Лекция, посвященная главному памятнику древнеанглийской литературы, может быть рассмотрена и понята как некий научный манифест, программа, имеющая своей целью легитимизировать то, что буквально через несколько лет будет названо словом fantasy. Если попытаться кратко обозначить ее суть и смысл, то следует вот что сказать. Долгое время ученые-филологи и простые читатели были существами, чьи пути никогда не пересекались в пространстве памятников средневековой литературы (поэзии). В свою очередь, филологи и историки рассматривали эти памятники со своих колоколен, с которых они не слезали даже ради дружеского чаепития с обитателями соседней башни.
Профессору Толкину это было настолько не по душе, что всеми своими лекциями, статьями, выступлениями он старался показать, что эпические памятники прошлого – «Беовульф», «Калевала», «Старшая Эдда» - это не просто потерянные сокровища, но и произведения, которые могут быть увлекательными и интересными для современников. Сегодня это кажется невероятным, но в ученой среде никто до Толкина так не говорил о них и не рассматривал их потенциальную востребованность массовым читателем. Еще бы! Гуманитарные науки Нового времени немало сил потратили на то, чтобы Средневековье ассоциировалось у «просвещенных» людей с дикостью, невежеством и мракобесием.
Уже романтики XIX века с их интересом к фольклору, братья грим, появившиеся в каждой европейской стране, казались подозрительными личностями. Хотелось бы в связи с этим привести важнейший, на мой взгляд, для читателя XXI века отрывок из текста лекции Толкина о «Беовульфе»:
«Но полагаю, перед нами также и вопрос вкуса: считается, что хороший героический или трагический сюжет априори должен оставаться в рамках человеческого измерения. Рок представляется менее литературным, чем ;;;;;;; [36]. Мнение это подается, похоже, как само собой разумеющееся. Я с ним не согласен, даже если мой взгляд покажется неразумным или недостаточно здравым. Но сейчас для этого спора не время, и я не стану пытаться развернуто защищать мифологическое воображение, а также отделять друг от друга миф и фольклор, перепутавшиеся во мнениях критиков. Миф не ограничивается (ныне развенчанной) формой аллегории природных явлений: солнца, смены времен года, моря и тому подобного. Термин «народная сказка» может сбить с толку, а его снисходительный тон не оправдан. «Народные сказки» в том виде, в каком они рассказываются (ведь «типичная народная сказка» - это не существующая в реальности ученая абстракция), часто действительно содержат элементы дешевые и убогие, не обладающие даже потенциальной ценностью; но в них немало и куда более важных составляющих, которые невозможно полностью отделить от мифа - их источника. В руках поэта они могут снова превратиться в миф, то есть исполниться еще большей важности - в виде целого, не подлежащего анализу. Значимость мифа не так–то просто расписать на бумаге с помощью аналитических рассуждений. Лучше всего ее способен выразить автор, скорее ощущающий, чем четко выражающий то, что подразумевает его тема, и воплощающий ее в историческом и географическом мире, как это сделал наш поэт. Таким образом, защитник оказывается в незавидном положении: если он не будет крайне осторожен и не станет говорить иносказаниями, он рискует убить предмет своего изучения вивисекцией, так что ему останется только формальная или механическая аллегория, да, скорее всего, еще и недейственная. Миф исполнен жизни весь целиком и во всех своих частях, и он умрет прежде, чем его расчленят. Я думаю, что возможно ощущать власть мифа, но не понимать собственного чувства, приписывая его всецело иным источникам воздействия: искусству стихосложения, стилю или лексике поэта. Здравый и рациональный вкус, возможно, откажется признать, что мы - гордое мы, включающее в себя всех ныне живущих образованных людей, - можем интересоваться троллями и драконами; поэтому его немало озадачит тот странный факт, что поэма об этих безнадежно устаревших существах доставляет такое удовольствие. Автору можно приписать «гениальность», как это сделал мистер Гирван, но чудовищ необходимо признать злополучной ошибкой.
Различия между современными и древними вкусами не так очевидны, как иногда представляется. По крайней мере, автор «Беовульфа» на моей стороне, а это был великий человек, не чета большинству из нас…»
Так что же скажет нам современный литературовед, если его спросят о fantasy? Фу, сказки! Ерунда какая-то. Но оказывается, что не глупость и не ерунда. Оказалось, что люди самого разного возраста страшно тоскуют по сказочному, чудесному и сверхъестественному. Причем эта тоска и интерес к драконам, эльфам и гномам никак не отнесешь к влиянию «праздной фантазии».
Несмотря на возрастающее в связи с «прогрессом» цивилизации глобальное торжество рационального мышления, воинствующий атеизм, развитие науки и техники, люди тоскуют по канувшим в Лету временам живой поэзии, когда барды и миннезингеры услаждали сказаниями о рыцарях и чудовищах не только обитателей замков, но и простых людей, которые вовсе не жили во «тьме невежества».
Оказалось, что на рубеже XIX-XX веков европейцы почти полностью утратили свою культурную память. Их представления о Средневековье как «темных веках» человеческой истории, внушенные эпохой Просвещения, были столь же наивны, сколь ограниченны и несправедливы. В первой половине ХХ века исправить это положение взялись историки-энтузиасты французской исторической школы ;cole des Annales (или La Nouvelle Histoire, Новая историческая наука): Марк Блок, Анри Пиренн, Андрэ Сайу, Жак Ле Гофф, Фернан Бродель и многие другие - совершили революцию в науке, вернув европейцам забытое и потерянное прошлое, пробудив интерес людей к собственной истории, сделав ее понятной, доступной, осознаваемой. Массовый интерес к средневековой жизни стал возможен благодаря концепции «живой истории». Эта история рассказывала о том, как жили и чем питались люди в Средние века, какова была их культура, мода, обычаи, повседневная жизнь, какую роль в ней играли религия, мифы и символы, и соответственно, мифологическое и символическое мышление. Они перевели с древне- (французского, немецкого, английского и др.) огромное количество манускриптов, которыми, как оказалось, были завалены подвалы древних магистратов и монастырей, куда никогда не ступала нога «просвещенного» историка-гуманиста.
И вот подобно тому, как историки ;cole des Annales открыли европейцам удивительный, яркий и вовсе не мрачный и не скучный мир Средневековья и привлекли к нему внимание массового читателя, так и профессор Толкин приложил немало усилий для популяризации древних эпосов. Отметим, что все эти процессы в гуманитарных науках, отказ от высокого ученого академизма, обращение к «живому мифу (живой поэзии)» и «живой истории» были вовсе не случайны в начале ХХ века – эпохи становления индустриальной цивилизации. Весь ХХ век можно назвать «веком Сарумана» - если воспользоваться для сравнения одним из самых аллегорических образов «Властелина колец».
Но все же трудно современному человеку читать произведение, скажем, XII века. Не мог не понимать этого и сам профессор Толкин. Решение диллемы оказалось случайным и простым. Когда-то Толкин, как и все добропорядочные родители, рассказывал своим детям на ночь сказки. Но отличался он от большинства тем, что сам эти сказки и придумывал. То есть был вот у него такой навык, благодаря которому и появился «Хоббит». Откуда? Да ниоткуда, на ровном месте, сказочным образом, ни с того ни с сего. Легенда гласит: как-то профессор взял чистый лист да и записал: «In a hole in the ground there lived a hobbit…» С этой фразы, с этого слова – hobbit – как мы отмечали, все и началось. А из «Хоббита» вырос «Властелин колец». Так и получилось, что самой востребованной книгой ХХ века оказалась… волшебная сказка! Конечно, сказка не простая. В тысячу страниц. Вобравшая в себя всю мощь, силу и красоту древних эпосов Европы, но при этом показавшая читателю нечто, дотоле невиданное: волшебный мир, в котором прахристианство соединино с доблестью «добродетельных язычников», которым Апостольская Церковь Христова отвела свой предел в грядущем Царстве Божием.
Сочетание, антагонизм и взаимоотношения (пра)христианства и «язычества» (в самом широком смысле) в контексте литературного произведения – это важнейший, ключевой момент для понимания самой сущности fantasy, и эта интенция была задана именно Дж. Р. Р. Толкином.
Один из главных жанровых приемов в fantasy заключается в том, что в реальные или квазиреальные исторические события вплетены события фантастические и легендарные. Перед автором стоит нелегкая задача — отобразить мир глазами средневекового человека, для которого все то, что мы считаем сейчас мифическим и сказочным, было абсолютно реальным. Вообще-то, образцом для иллюстрации этого приема как осмысления литературного наследия Толкина следовало бы взять произведения Анджея Сапковского – цикл романов о Геральте и Цири и т.н. «Сагу о Рейневане» («Башня шутов», «Божьи воины» и «Свет вечный»). Но поскольку творчество Сапковского – это предмет для особого разговора, я осмелюсь в качестве иллюстрации для вышеизложенного тезиса привести отрывок из давней своей рецензии на роман Андрея Мартьянова «Беовульф», тем более, что его сюжет и его персонажи весьма уместны в нашем разговоре.
«… За основу сюжета Мартьянов берет едва ли не единственный сохранившийся до наших дней осколок, а точнее будет сказать, драгоценный камень древнеанглийской эпической поэзии. Однако "Беовульф" — не какой-то там камешек. Это алмаз. Причем редчайший — и по размерам, и по блеску…
… В романе затронута очень интересная эпоха. На руинах Римской империи зарождается новый мир варваров — пришельцев с севера и востока. Франки, готы, алеманы, вандалы, аланы, гунны, лангобарды, даны, саксы… Величайшее движение народов Евразии. Христианство встречается с язычеством. Конец V века от Р.Х. Первые варвары отрекаются от своих древних богов, преклоняясь перед силой Бога Единого. Однако должны быть те, кто явит им эту силу. Первые епископы христианской церкви в землях франков. Один из них, умный и образованный римлянин Ремигий Ланский сумел расположить к себе варварского короля германцев Хлодвига, сына Хильдерика, и со временем превратился в его советника. И хотя немногочисленна еще была паства Ремигия, да и сам рикс Хлодвиг и не думал отвергать идолов, Ремигию представился шанс показать королю варваров силу новой веры. На поле битвы с алеманами в Арденнах.
Не будем раскрывать секретов, а расскажем только о том, как это все оказалось связано с Беовульфом.
Епископа сопровождал племянник — юный картулярий (книжник, архивариус) реймсского диоцеза Северин Магнус Валент. Уже после битвы с алеманами при Стэнэ, парню довелось на себе испытать ужас Арденн — нападение ubilsaiwalas, волков-оборотней. Очнулся он в холодных водах Меза, и мог погибнуть, если бы не сильные руки людей из идущей неподалеку лодки… Люди оказались непростыми. Дружина Беовульфа, отправляющаяся сейчас в страну данов, опустошаемую чудовищем Гренделем… Все то, что образованный римлянин Северин считал варварскими сказками, обернулось жутковатой явью.
Любопытная задумка автора — сделать главным персонажем Северина. Именно его глазами мы видим просиходящее. Он — как луч христианского света в сердце сурового языческого мира, где боги еще покровительствуют героям, а чудовища так же реальны, как дым от костра или плеск весел ладьи Беовульфа».
III.
«Хоббит», «Властелин колец» и «Сильмариллион» Дж. Р. Р. Толкина стали источником fantasy как литературного жанра и направления. Это звучит как дежурная фраза для краткой статьи в энциклопедическом словаре. Ваш покорный слуга не ставил своей целью в рамках одного эссе описать этот жанр и проследить его эволюцию, но я не мог отказать разуму в наблюдениях, которые, смею надеяться, помогут читателю лучше понять смысл и значение fantasy, чтобы оценить его должным образом.
В наше время, говоря о fantasy, нельзя обойти вниманием кино. Премьера «Хоббита», собственно, послужила отправной точкой для рассуждений в данном очерке. Этот фильм не нуждается в каких-то рецензиях критиков и киноведов – как не нуждаются в научном литературоведческом анализе тексты толкиновских произведений (речь не идет, разумеется, об интерпретациях, поиске смыслов и прочих играх разума).
Следует подчеркнуть только то, что Питер Джексон не домысливает ничего за Толкина (как это может многим показаться на первый взгляд), расширяя границы "Хоббита" и показывая сцены, которых не было в тексте повести. Он рассказывает эту историю от лица летописца Гондора после окончания войны за Кольцо всевластья.
У Толкина повествователь «Хоббита» - это или сам хоббит, или некто, смотрящий на события с точки зрения малого роста хоббита. Он ведать не ведает о Большом мире, о его войнах и сражениях, интригах и политике (Гэндальф отделывается на этот счет в повести вскользь брошенными фразами-прибаутками), для него поход к Одинокой горе – всего лишь приключение, вдруг ожившая сказка. Но стоит только сменить повествователя, как это делает Джексон, стоит только подняться выше и увидеть это «приключение» с высоты первых лет Четвертой эпохи, как те же самые события можно рассказать и показать совсем по-другому, в контексте всеобщей истории Средиземья.
Читатель и зритель «Хоббита» должен понимать, что во время написания этой повести Толкиным уже давно была разработана модель мироздания Арды и в существенной мере написана «история Средиземья» - то есть все то, что мы знаем как «Сильмариллион».
С учетом этого знания ни у читателя, ни у зрителя не должно возникнуть никаких вопросов и, тем более, претензий к Питеру Джексону.
Возвращаясь к теме популяризации с помощью fantasy древней истории, мифологии и эпической поэзии, а также, безусловно, философии и теологии, нельзя не отметить общие тенденции в литературе, кино и даже изобразительном искусстве. Благодаря успеху в деле экранизации Толкина, кинематографисты самых разных стран обратились не только к другим произведениям fantasy, но и к древним эпосам. Толкин о такой популяризации и не мечтал. Появилось сразу несколько экранизаций «Беовульфа», историй о Нибелунгах и короле Артуре (особенно надо отметить фильмы Ули Эдела «Кольцо Нибелунгов» и «Туманы Авалона»). И ведь очень многие зрители и читатели начинают интересоваться первоисточниками, а также «живой историей» Средневековья, а через нее – историей человеческого духа, исканий Бога и нахождения Его, а также корнями извечной борьбы Добра и Зла, выяснением своей собственной позиции в этом противостоянии и своего отношения к таким понятиям, как мужество, милосердие, долг, честь, слава.
И этим интересом к славной древности, этой тоской по утраченной в наши дни силе человеческого духа, осознанию того, что Слабому оказывается под силу противостоять Бремени зла, сломившему и развратившему Сильных мира сего, глубокой вере в грядущее торжество Истины – мы, люди XX и XXI вв. от Р.Х., во многом обязаны профессору Толкину. А также хоббиту – абсолютному духу небольшого размера.
Рига. Январь 2013
Свидетельство о публикации №216080101235