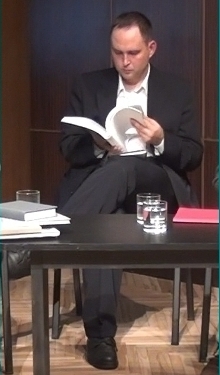Вик. Ерофеев и Вас. Розанов интертексты провокации
Этот текст - попытка интертекстуального исследования творчества Виктора Ерофеева и Василия Розанова, имеющее целью проследить зарождение и эволюцию стратегии провокационного дискурса в русской литературе. Она продолжает и развивает идеи, мысли, положения, намеченные в моей работе «Феноменальность письма и стиля Виктора Ерофеева» (Рига, 2001), в которой был сделан следующий вывод: Виктор Ерофеев в современной литературе продолжает осуществлять миссию Василия Розанова по «подрыву доверия» к русской литературе и к самой сути печатного слова. Для этого он имеет в своем «арсенале» новое «оружие», созданное общеевропейской (но в особенности – французской) ситуацией постмодернизма: игра и интертекстуальность, центонность и симуляция, стилизация и монтаж стилей, обращение к маргиналиям, коллаж и мозаика типов письма, антисциентизм и антилогоцентризм постструктуралистских грамматологических концепций (телесное, физиологическое переживание письма).
Область функционирования письма Виктора Ерофеева расположена в пограничном литературном пространстве двух культур: русской и французской (начала-середины XX века), но так, что предпочтение нельзя отдать какой-либо из них. Ерофееву в равной степени близки с одной стороны – Розанов и Набоков, а с другой, например, – Камю и Виан.
Розанов, Ерофеев и теория письма
Тема нашей работы в немалой степени связана с понятием «письма», поэтому необходимо прояснить, что такое «письмо» и почему эта категория выбрана нами как приоритетная в изучении творчества Виктор Ерофеева, и в частности, в вопросе об интертекстуальной связи его произведений с сочинениями Василия Розанова.
«Письмо» представляет собой русский вариант понятия «ecriture», введенного в научный обиход литературоведения французскими постструктуралистами. Впервые термин «письмо» в специфическом значении категории анализа художественного текста использовал Ролан Барт в своей работе «Нулевая степень письма» для выяснения специфики новых подходов в литературоведении и литературной критике. По словам Барта, его работа – это «введение в книгу, которая могла бы стать Историей письма».
Понятие «письма» возникает в контексте различения «языка» и «стиля». Письмо есть «некое формальное образование, связывающее язык и стиль. Язык, по Барту, носит надындивидуальный характер и является «естественным продуктом времени», результатом Истории и Общества. В то же время язык – «не столько запас материала, сколько горизонт, то есть одновременно территория и ее границы». Это анонимная потенциальность – «площадка, заранее подготовленная для действия, ограничение и одновременно открытие диапазона возможностей». Напротив, стиль означает кумулятивность телесного опыта пишущего, «он обусловлен жизнью тела писателя и его прошлым… превращаясь мало-помалу в автоматические приемы его мастерства».
Итак, язык – это территория, на которой размещается аккумулированное прошлое писателя, или архив, в который проникает телесность. Стиль – это сырье, «природная «материя» писателя, его богатство и его тюрьма, стиль – это его одиночество». Горизонт языка и вертикальное измерение стиля производят пространство, где и появляется ПИСЬМО – «сознающая себя форма», благодаря которой писатель «приобретает отчетливую индивидуальность», принимая на себя социальные обязательства. Таким образом, письмо выступает как деятельность, обусловленная сознательным выбором определенной позиции, тогда как «язык и стиль – слепые силы», ибо ни язык, ни стиль нельзя выбрать, «язык и стиль – объекты; письмо – функция; она есть способ связи между творением и обществом». Для нас важно отметить, что «способ связи», изобретенный в свое время Розановым, был впоследствии воспринят и использован Виктором Ерофеевым в целом корпусе произведений.
Как говорит Барт, «письмо – это не что иное, как компромисс между свободой и воспоминанием, это воспоминающая себя свобода, остающаяся свободой лишь в момент выбора, но не после того, как он свершился». («Свобода в момент выбора» - впервые в русской литературе это понял Розанов, за что был атакован «либералами», не признающими «компромиссов между свободой и воспоминанием».)
Выбор письма – «это выбор в сфере духа, а не в сфере практической эффективности. Письмо – это способ мыслить Литературу, а не распространять ее среди читателей… писать – значит предоставлять другим заботу о завершенности твоего слова; письмо есть всего лишь предложение, отклик на которое никогда не известен».
Письмо есть «точка свободы писателя между языком и стилем».
Эволюция письма привела к появлению его так называемой «нулевой степени», которую Барт анализирует на примере романа Альбера Камю «Посторонний». Выводы Барта были, в свою очередь, изложены и интерпретированы Виктором Ерофеевым в работе «Мысли о Камю»:
«Ролан Барт в работе «Нулевая степень письма» назвал автора «Постороннего» «родоначальником письма, которое порождает идеальное отсутствие стиля»: «если письмо Флобера содержит Закон, а письмо Малларме постулирует молчание, если письмо других писателей, Пруста, Селина, Кено, каждое по-своему основывается на существовании социальной природы, если все эти стили предполагают непрозрачность формы… нейтральное письмо действительно вновь обнаруживает первое условие классического искусства: инструментальность». «Если письмо в самом деле нейтрально, если язык, вместо того чтобы быть громоздким и необузданным действием, достигает состояния чистого уравнения… тогда Литература побеждена, человеческая проблематика обнаружена и бесцветно раскрыта, писатель безвозвратно становится честным человеком». Однако это идеальное, по Барту, состояние оказывается лишь призрачным: «К сожалению, нельзя доверяться чистому письму; автоматические действия возникают на том самом месте, где находилась первоначально свобода, сеть жестких форм все больше и больше сжимает первоначальную свежесть речи…» Писатель становится эпигоном собственного творчества, «общество превращает его письмо в манеру, а его самого в пленника своих собственных формальных мифов».
В отношении «Постороннего» этот анализ столь же справедлив, сколь и жесток. В романе происходит не только рождение, но почти одновременно и вырождение «нейтрального письма»».
Вообще, понятие «письмо» как русский вариант «;criture» подразумевает наличие многоуровневой семантики – той, что присутствует во французском языке:
- письмо, письменность
- почерк
- стиль, манера письма
- запись
- Священное Писание
Ролан Барт дополняет:
«… В письме уничтожается всякое понятие о голосе, об источнике. Письмо – та область неопределенности, неоднородности и уклончивости, где теряются следы нашей субъективности, черно-белый лабиринт, где исчезает всякая самотождественность, и в первую очередь, телесная тождественность пишущего».
Руководствуясь подобного рода размышлениями, мы можем выделить ряд семиотических особенностей письма в контексте культуры. Это особенно важно для последующего понимания определенной творческой сверхзадачи, которой проникнуты произведения и Виктора Ерофеева, и Василия Розанова. Эта сверхзадача связана с организацией «культурного взрыва» эпохи. В данном исследовании наше внимание привлекают именно тексты-«детонаторы» такого «культурного взрыва». Сама возможность «детонации» заложена в письме.
По словам Н. Автономовой в работе, посвященной анализу книги Деррида «О грамматологии», «общей установкой постструктуралистских концепций, формой смешанного духовно-телесного удовольствия стало наслаждения чтением и письмом как универсальными процедурами культуры» [Автономова: 183].
У Виктора Ерофеева есть множество текстов, посвященных этой «процедуре» («Болдинская осень», «Попугайчик», «Белый кастрированный кот с глазами красавицы» и др.). У Розанова – все «Уединенное», все «Опавшие листья».
(Ср. у Р. Барта по поводу принципиального различения «писания» («ecrivance») и «письма» («ecriture»): если «писание» есть «функциональная и внесубъектная языковая деятельность», то «письмо» представляет собой нечто принципиально иное, а именно – «сладострастную» игру языка, его самодостаточную процессуальность («я всегда писал книги только для удовольствия» - говорит Барт), не результирующуюся в том или ином конкретном тексте, хотя реально своего рода побочным продуктом этой процессуальности и выступает то, что Барт обозначает как «эйфорический текст».)
Стоит ли удивляться тому, что русский религиозный философ Василий Розанов вдруг вписывается в созданную полувеком позднее французскую постструктуралистскую концепцию?
Для ответа на этот вопрос нам необходимо рассмотреть понятие «интертекста».
1. Теория интертекста
Удачнее всего понятие интертекста определено в работе Вячеслава Курицына «Русский литературный постмодернизм»:
«Текст есть поле взаимодействия смыслов АВТОРА, ЧИТАТЕЛЯ и ПИСЬМЕННОЙ ТРАДИЦИИ… Текст всегда пронизан скрытыми и открытыми цитатами из других текстов… Причем под другими текстами могут пониматься и тексты других искусств, и текст быта, и биография как род текста.
… У исследователя нет запретов на установление связей между текстами – запретов, связанных с «исторической реальностью», мнением автора и т. д. Автор может сколько угодно отказываться от атрибутируемой ему связи с такими-то и такими-то предшествующими текстами: права интерпретатора в обнаружении такой связи не меньше, нежели права автора. Эта связь не требует сознательного агента – она обнаруживается в процессе чтения, ее корректно «вчитать» в изучаемое сочинение. При такой постановке вопроса цитирующий текст может хронологически предшествовать цитируемому: линейные модели здесь работать перестают» [Курицын: 203].
В моей работе теория интертекста имеет важное значение прежде всего потому, что Виктор Ерофеев – не просто писатель, хорошо знакомый с русской и европейской литературой, но он также является ее пристрастным исследователем, и это, в свою очередь, не может не отражаться на его собственном творчестве. Тем более что в ряде случаев, вообще, сложно различить грань между научно-исследовательской и художественной составляющей его произведений. Так концептуальный корпус эссеистических текстов Ерофеева «В лабиринте проклятых вопросов» настолько же далек от традиционных трудов по литературоведению, насколько и интересен как сборник произведений именно исследователя литературы.
Ерофеев весьма иронически относится к тому, что его называют «постмодернистом»: «… теперь безжалостный постмодернист определит степень твоего интертекстуального невежества» («Как свежи были розы»).
Ерофеев очень хорошо понимает, что не существует никакого «постмодернизма». Этот «термин» в различных источниках употребляется совершенно произвольно. Единственное, что его (термин) характеризует – это неопределенность и разнородность его многочисленных трактовок:
«Строго говоря, нет ничего такого, к чему можно было бы однозначно приложить существительное «постмодернизм». Это не «течение», не «школа», не «эстетика». В лучшем случае, это чистая интенция, не очень к тому же связанная с определенным субъектом. Корректнее говорить о «ситуации постмодернизма», которая на разных уровнях и в разных смыслах открывается-отражается в самых разных областях человеческой жестикуляции. В лингвистике (постструктурализм), в философии (деконструктивизм), в изобразительном искусстве, в литературе…» [Курицын: 9].
Итак, под «постмодернизмом» мы понимаем «ситуацию постмодернизма». Она вовлекает современного писателя в положение «двойного агента»:
«… Фидлер именует художника «двойным агентом». В «массовом» художник представляет «элитарное», а в «элитарном» - «массовое», в «вероятном» он заложник «чудесного», и наоборот. Постмодернистский художник всегда находится как минимум в двух «плоскостях», у него нет четкого топоса, нет «точки опоры»… сознание его всегда в какой-то мере раздвоено» [Курицын: 14].
Характерная особенность Виктора Ерофеева как субъекта разнообразных модусов письма также состоит в раздвоенности повествователя в его текстах, с одной стороны, и с другой – в постоянном балансировании Ерофеева-автора, но не между ролью «массового» и «элитарного» писателя, а между положением «расчленителя» литературы (ученого, разборщика) и ее создателя (писателя, сборщика). Это положение провоцирует совершенную жанровую неопределенность его текстов, но в то же время не влияет на выбор письма.
Современный писатель, когда пишет, хочет он того или нет, постоянно находится в интертекстуальном пространстве – таков диктат общекультурной «ситуации постмодернизма» в постиндустриальную эпоху тотального, едва ли не насильственного проникновения информации.
Термин «интертекст», которым мы оперируем, является производным от понятия «интертекстуальности». С точки зрения «постмодернизма», любой текст есть интертекст. По словам Р. Барта: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры… Обрывки старых культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты идиом и т. д. – все они поглощены текстом и перемешаны в нем, поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык».
Категоричность утверждения Барта («текст есть интертекст») несколько сглаживается уточнением, вытекающим из следующего за ним рассуждения. То есть: каждый текст может быть представлен (истолкован, интерпретирован) как интертекст.
Кроме того, Барт опровергает понимание интертекстуальности сугубо в плане генетического возведения текста к его «так называемым источникам». Во-первых, «в явление, которое принято называть интертекстуальностью, следует включить тексты, возникающие позже произведения: источники текста существуют не только до текста, но и после него». И, во-вторых, феномен интертекстуальности значим в плане не столько генетического, сколько функционального своего аспекта – «интертекстуальность не следует понимать так, что у текста есть какое-то происхождение; всякие поиски «источников» и «влияний» соответствуют мифу о филиации произведений».
В парадигме, определяемой «ситуацией постмодернизма», под «цитатой» понимается не только вкрапление текстов друг в друга, но и потоки кодов, жанровые связи, тонкие парафразы, ассоциативные отсылки, едва уловимые аллюзии и т. д. – именно здесь, «на полях текста», происходит на уровне письма интертекстуальная «встреча» Виктора Ерофеева и Василия Розанова. Следовательно, надо ее обозначить и прояснить.
Провокация как дискурсивная стратегия
Поскольку нас интересует интерпретация Ерофеевым розановского письма, необходимо определить, ЧТО прежде всего интересует Ерофеева как писателя в произведениях Розанова, в его дискурсе. В этом плане наше внимание обращено к тексту Ерофеева «Розанов против Гоголя» - одному из главных и программных исследований сборника «В лабиринте проклятых вопросов». Здесь автор обосновывает провокативность письма Василия Розанова.
Мысль об определенной стратегии провокации в его текстах прослеживается не только у Ерофеева. Так, известный франко-швейцарский славист, профессор Женевского университета Жорж Нива в работе «Розанов, русский эготист» отмечает:
«… в это время Розанов шел едва ли не на вс е ради скандала: его излюбленный тезис – святость пола и полового акта, признаваемая в Ветхом Завете и табуированная аскетами-христианами, «людьми лунного света». Розанов предлагал на первые ночи брака оставлять молодоженов в церкви – можно доже в алтаре… Из негодующих откликов своих оппонентов он с ликованием составил несколько сборников – настоящих полемических трактатов, где парадоксы чередуются с возражениями» [Нива: 170].
Подобное дискурсивное поведение не раз демонстрировал и Виктор Ерофеев, с тем же «ликованием» приводя возмущенные отклики литературных оппонентов о себе и своем творчестве (например, в «Учении ЕПС»: «- В лесу раздавался топор гомосека… - тихо сказал кто-то в зале, когда я читал «Жизнь с идиотом». – Пидерасы! – заорал литературовед Андреев. Началась кровавая драка…»).
Стратегия провокации из ранней публицистики Розанова (статьи, трактаты как религиозно-философского, так и злободневного содержания) переходит и в главные произведения, принесшие ему славу «изобретателя нового жанра словесности» (Нива) – «Опавшие листья», «Уединенное», «Апокалипсис нашего времени».
Эготизм Розанова повергал в шок современников. Да и трудно себе представить иную их реакцию, если «Розанов отвергал любые нравственные критерии (есть только «мне интересно» и «мне хочется»), любые планы, просчитывающие что-то наперед: с его точки зрения, политические взгляды – род помешательства, причина которого – в личных несчастьях. «Я сам «убеждения» менял, как перчатки, и гораздо больше интересовался калошами (крепки ли), чем убеждениями (своими и чужими)»» [Нива: 174].
В основе провокативности розановского письма – бесцеремонное отношение автора к читателю («… не церемонюсь я с тобой, читатель!… К черту!…» - в самом начале «Уединенного»). Именно эта черта его дискурса привлекает особое внимание Ерофеева:
«Нелюбовь Розанова к читателю имеет скорее не литературную, а идейную подоплеку. Для него российский читатель-современник как собирательное лицо представляет собой продукт того литературного воспитания и того устоявшегося либерального общественного мнения, которые ему глубоко антипатичны. Ему нужен не доверчивый и благодарный, а именно не на шутку разъярившийся читатель и критик, который, утратив самообладание, в ярости сморозит явную глупость и выкажет себя дураком… Тонкий и удачливый провокатор, Розанов высмеивает читательское представление о писателях (представление, которое сообща создали читатели и писатели), вызывая, что называется огонь на себя. Читатель верит в исключительные качества писателя? В его благородство, высоко-нравственность, гуманизм? Розанов в своих книгах не устает выставлять себя некрасивым, неискренним, мелочным, дрянным, порочным, эгоистичным, ленивым, неуклюжим… Но если читатель вообразит себе, что перед ним автопортрет Розанова, то он в очередной раз ошибется. Розанов вовсе не мазохист и не раскаявшийся грешник. Он снисходит до интимных признаний не с целью исповедального самораскрытия, а с тем, чтобы подорвать доверие к самой сути печатного слова. В конечном счете, ему важны не изъяны писателя, а изъяны писательства. Есть в Розанове и лирическая струя, но она не находит самостоятельного выражения… Преображение розановского слова совершается, как правило, в явной или тайной полемике» (выделено М. Г.).
«Подрыв доверия» к печатному слову – стратегия письма самого Ерофеева, вне зависимости от жанровой принадлежности текста.
Так, в скандально знаменитом (А. Шнитке даже поставил оперу в Голландии) рассказе «Жизнь с идиотом» повествователь вдруг заявляет:
«Ну, а теперь, читатель ***в, кем бы ты ни был: другом или гадом, эстетом, снобом, чернью или КРАСНЬЮ, какая б жизнь тебе не предстояла, какая б смерть тебя не стерегла, запомни, твоим сужденьем я не дорожу; я счастьем обожрался, как обжора, нажравшийся блинами с икрой. И суд твой – нищий суд, а я – богатый парень…»
Или научная работа вдруг превращается у Ерофеева в «Драматическое эссе в стихах: «Ученые мира об Андрее Белом, или Во мне происходит разложение литературоведения»».
Провокативный дискурс всегда включает в себя реакцию читателя, причем поскольку отрицательная обычно больше по модулю, чем положительная, то автору она даже предпочтительней.
Стратегия провокации существенно расширяет эмоциональный простор восприятия художественного текста.
Виктор Ерофеев и Василий Розанов: вопрос о преемственности письма
Вопрос об уместности сопоставления Розанова и Ерофеева представляется вполне естественным в силу причин, которые при ближайшем рассмотрении оказываются мнимым препятствием для выявления преемственности письма.
Казалось бы, явный маргинал, литературный экстремист, недруг академического литературоведения (Ерофеев) никак не может быть представлен «преемником» русского писателя и религиозного философа конца XIX – начала ХХ века (Розанова). Однако «несопоставимые» вещи явно тяготеют друг к другу в интертекстуальном пространстве.
Необходимо правильно расставить акценты в нашей исследовательской установке: «преемственность письма Розанова и Ерофеева» - это вовсе не «преемственность Розанова и Ерофеева», какой бы соблазнительной не казалась эта рефлекторно возникающая в сознании читателя понятийная подмена. Воззрения, образ жизни, «творческий путь» - здесь абсолютно ни при чем. Нас интересует исключительно «письмо» - именно как способ мыслить литературу, а не распространять ее среди читателей.
На момент знакомства Виктора Ерофеева с произведениями Розанова (70-е годы) имя последнего не было и не могло быть знакомым широкому кругу читателей. Советское же литературоведение было просто обязано заклеймить Розанова как реакционера, махрового консерватора и мракобеса.
Все эти ярлыки были совершенно справедливы, причем как с точки зрения советской идеологии, так и с позиций дореволюционного русского либерализма. Главная тому причина – яркий розановский парадоксализм. Стихийный («неприкаянный») славянофил, Розанов сочетал в себе «утробный» антисемитизм и преклонение перед «половой силой» иудаизма, язычество и православие, глубокую религиозность и яростную критику церкви.
Все это провоцировало неоднозначное отношение к Розанову со стороны современников. В одном только Религиозно-философском обществе был настоящий раскол по этому вопросу. (В конечном итоге, Розанов-таки был исключен из «Общества» за выступления в печати по «делу Бейлиса».) Владимир Соловьев прямо называл его врагом христианства, тогда как, например, Брюсов им восхищался, вспоминая, как в религиозно-философском собрании «Мережковский кричал, что он с Розановым не согласен, но что Розанов ближе ему и более верующий, чем церковники» [Брюсов: 143]. Схожее парадоксальное отношение к Розанову испытывали многие знавшие его люди.
Сам же Розанов был явно доволен такой скандальной ситуацией. Значит, его «уколы» попали в болевые точки общественного сознания.
Как отмечает Виктор Ерофеев («Розанов против Гоголя»):
«Розанов… получал удовольствие от «либеральных» камней, полетевших в его огород. За ним с легкой руки Вл. Соловьева закрепилась репутация Иудушки Головлева, но он презирал Соловьева не меньше, чем самого Щедрина, и готов был страдать, словно желая доказать читателям, что праведники и пророки находятся не в том стане, где их ищут, - в том [либеральном – М. Г.] стане нетрудно выдвинуться: достаточно насмешливой фразы. Кто сказал, что в России невыгодно быть обличителем? Это, утверждал Розанов, обеспеченная общественная карьера, несмотря ни на какие гонения. Гонения выдумала глупая власть для поощрения гонимых, для раздувания шума вокруг их имен. В России куда более опасно быть консерватором: съедят, даже не выслушав до конца, не разобравшись, что и как. В этом Розанов был убежден на примере того же Н. Страхова, К. Леонтьева, Н. Данилевского – «литературных изгнанников», мимо которых прошел, как утверждал Розанов, русский читатель».
Когда после 1905 года мечты Розанова как государственника-монархиста и славянофила-ретрограда, врага прогресса и народного просвещения, погибли, он «предстал перед читателем грудой разноцветных обломков, «опавшими листьями» прежней мечты, и именно эти «опавшие листья» и есть тот настоящий Розанов, который стал уникальной фигурой в русской словесной культуре ХХ века».
Эти слова Ерофеев продолжает мыслью, которая во многом проясняет его собственное критическое отношение к социальной роли Великой Русской Литературы (классики XIX века) и русской либеральной (дворянской и разночинной) интеллигенции:
« «От всего ушел и никуда не пришел», - писал Розанов о себе. Из «листьев» Розанову удалось создать мозаический узор мысли. Мечта погибла, но сохранилась ностальгия по ней и вопрос: кто виноват? Кто виноват в гибели мечты? Розанов отвечает: все. Радикалы и консерваторы, русская история, сам Розанов, церковь и шире – христианство и, наконец, вся русская литература».
Заметим, что Ерофеев вовсе не выражает согласия с Розановым. Но его чрезвычайно занимает сам модус розановского отношения к такому, казалось бы, незыблемому, священному культовому сооружению, как Великая Русская Литература. Это модус не просто жесткой критики, но – прямого обвинения во всех грехах российского неблагополучия, вплоть до приуготовления грядущего «Апокалипсиса» - революции 1917 года. Это модус, рожденный отчаянием – обвинительный приговор литературе, говорившей «несвоевременную» правду.
Как выразился Розанов, распространись по всей России «высокая человеческая правда» Новикова и Радищева, страна не имела бы духа «отразить Наполеона». Никто еще до Розанова так яростно не восставал против всей русской литературы (и только фигура Пушкина была исключена из «черного списка»). Ерофееву близок этот бунт отчаяния. Во множестве произведений субъект ерофеевского письма – человек, «отравленный» идеями, содержанием, стилем русской классики и пытающийся избавиться от этого влияния, как от навязчивого кошмара.
Вспомним также слова Ерофеева, посвященные Розанову, но вполне применимые для характеристики позиции самого Ерофеева:
«Для него российский читатель-современник как собирательное лицо представляет собою продукт того литературного воспитания и того устоявшегося общественного мнения, которые ему глубоко антипатичны».
Отсюда следует и выбор письма, в основе которого лежит провокативный дискурс.
Кроме того, Ерофееву близка магистральная розановская тема – метафизическое измерение «всего русского» и России. Его книга «Энциклопедия русской души» целиком посвящена этой теме и построена в соответствии с изобретенной Розановым моделью письма, где, как выразился Ж. Нива, «невыносимая заносчивость проявляется всегда экспромтом, понемногу, по щепотке, в игре разговорного стиля и печатного текста».
(Сравн.
Розанов («Опавшие листья»):
«Да, они славные. Но все лежат (вообще русские)»
Ерофеев («Энциклопедия русской души»):
«Чтобы понять Россию, надо расслабиться. Снять штаны. Надеть теплый халат. Лечь на диван. Заснуть (метод)»
Розанов:
«Русский «мечтатель» и существует для разговоров. Но для чего же он существует? Не для дела же? (едем в лавку)»
Ерофеев:
«У каждого русского тяжелое детство. Русское детство должно быть тяжелым. Иначе разве это детство?»
Розанов:
«О, мое печальное детство…
О, мое печальное детство…
Почему я люблю тебя так и ты вечно стоишь передо мной? «Больное-то дитя» и любишь…»)
К письму Ерофеева в полной мере относятся слова Ж. Нива: «Абсолютно несочетаемая с реалистической словесностью, розановская модель служит сегодня [выделено нами – М. Г.] маяком для тех, кого реализм раздражает» [Нива: 177].
Конечно, далеко не все произведения Ерофеева построены в соответствии с этой моделью. Ведь Ерофеев не подражает Розанову. Собственно, письму невозможно «подражать» (по определению). «Подражать» можно стилю, письмо же – это «выбор». Преемственность письма – не торжественная передача красного знамени. В определенном смысле тексты Ерофеева – тоже «опавшие листья», но только не русской «мечты» (как у Розанова), а русских «цветов зла». В одноименном эссе Ерофеев говорит о том, что в последнюю четверть ХХ века литературная Россия нарвала целый букет «fleurs du mal», которые, по его мнению, определили лицо так называемой «другой литературы», не советской и не антисоветской (Ю. Мамлеев, В. Сорокин, С. Соколов, Э. Лимонов, В. Пьецух, Д. Пригов, В. Попов):
«В том, что никто не вынашивал стратегический план раскрытия зла, заключена сила этой литературы. Сместилась четкость оппозиций: жизнь переходит в смерть, везение в невезение, смех в слезы. Смешались мужчины и женщины. Уже не разобрать их «минимальных» различий. Возникла тяга к маргинальным сексуальным явлениям, извращениям, святотатству. Казалось бы, САТАНИЗМ захватил литературу (о чем говорит «нравственная критика»). На самом деле маятник качнулся в сторону от безжизненного, абстрактного гуманизма, гиперморалистический крен был выправлен. В итоге русский классический роман уже никогда не будет учебником жизни, истиной в последней инстанции».
Заметим, что именно Розанов был первым обличителем «русского классического романа» как «учебника жизни». Таким парадоксальным образом сошлись в интертекстуальном пространстве столь различные явления, как Розанов и литература «русских цветов зла», одним из наиболее значительных представителей которой является Виктор Ерофеев.
Интимизация в художественном тексте
Яркой особенностью письма интересующих нас авторов является предельная интимизиция текста. Термин «интимизация» не имеет четкого определения, тем не менее, мы считаем необходимым его актуализировать в настоящей работе. Смысл и содержание понятия «интимизация» могут быть прояснены в контексте тех или иных рассуждений.
Интимизация – это некий модус взаимоотношений между автором и читателем, возникающий непосредственно в процессе чтения текста. Интимизация не может быть отнесена к категориям стиля, поскольку в ее проявлении задействован читатель. Интимизация – продукт определенной стратегии письма. Интимизация может быть также охарактеризована как способ дискурсивного поведения: средствами письма автор создает в тексте «интимную» атмосферу, в которую вовлекается читатель.
Что касается Розанова, то он был как раз первооткрывателем письма, демонстрирующего художественные возможности интимизации. Об этом – значительная часть рассуждений Ж. Нива в работе «Розанов, русский эготист»:
«Абсолютное господство интонации, ощущение домашней интимности и едва ли не бесстыдства текста, упоминания о том, в каких обстоятельствах написан каждый из лоскутков, сосуществование противоречий в доказываемых тезисах – короче говоря, поэтика, основанная на одной личной прихоти, на культе отрывка. Пестрая смесь газетных рецензий, личного дневника, поваренной книги, полученных писем складывается в некий гербарий человеческих слов: услышанных, пробормотанных, недоговоренных…» [Нива: 171].
Интимизация в произведениях Розанова возникает как феномен письма, имеющий в своем основании определенную философскую позицию. Новаторство Розанова заключается в выборе такого письма, которое позволяет эту позицию реализовать именно как «жанр словесности». Литературная концепция Розанова столь же оригинальна, сколь и одиозна. Розановская непримиримость в отношении «ненастоящей литературы» граничит с несправедливостью в отношении едва ли не всей русской классики. В письме Розанова провозглашается настоящий культ интимности, и в нем единственным критерием «подлинности» литературы становится верность сиюминутному настроению пишущего.
Характеризуя «Уединенное» и «Опавшие листья», Ж. Нива уделяет особое внимание аспектам интимизации:
«Объяснения в любви и ненависти к литературе сменяют друг друга. Настоящая литература должна быть интимной и теплой, как «мои штаны», второй кожей [это телесное, буквально физиологическое переживание письма полувеком позднее станет важной составляющей европейских постструктуралистских концепций «;criture» - М. Г.], которая защищает и маскирует. Розановская литература – нежная, пассивная, послушная телу, полностью домашняя. Но есть и другая [литература – М.Г.]. В ней автор отделен от самого себя и от читателя, мысль «рожденная» - от мысли «развитой»; такая литература … рисует одни «края жизни», у нее лживая лакейская душа, которая служит двум хозяевам одновременно; даже Толстого Розанов обвиняет в том, «что уже от начала всякое его произведение есть в сущности до конца построенное». Розанов хотел бы быть писателем «до Гутенберга»: ему ненавистна продажность купленной или взятой в библиотеке книги. Он любит дорогие, редкие, целомудренные, интимные, «как семя человеческое», книги. Его не заботят трудности публикации: какая разница, тридцать томов или больше? Он тщательно выстраивает свою книгу, ориентируясь на единственный критерий: верность настроению» [Нива: 172].
Нива приходит к выводу о парадоксальности розановского письма, вызванной нарушением сложившихся в традиционной литературе отношений между автором и читателем. Основной парадокс состоит в том, что пишущий и адресат стремятся к совпадению, отрицая тем самым субъектно-объектные отношения. Однако мы не случайно сказали «стремятся к совпадению», а не «совпадают», поскольку достигнуть идеального состояния Розанову, по счастью, не удается, потому что интимизация, генерируемая розановским письмом, в том числе является и литературным приемом. То есть мы подозреваем Розанова в лукавстве, когда он говорит о том, что, сколько бы он ни усиливался представлять себе читателя, никогда не мог его вообразить, ни одного лица ему не представлялось. («Пишу для каких-то неведомых друзей, а хоть бы и не для кому…»; «Читатель имеет вид осла перед тем, как ему зареветь. Зрелище не из приятных. Ну его к Богу!…»)
Франко-швейцарец Нива тонко улавливает интимно-физиологические моменты жанра «Уединенного» и «Опавших листьев». Розанов удивительным образом предвосхитил поиски европейских (французских) сюрреалистов в этом направлении. Нет никакой странности и никакого противоречия в соотнесении Розанова и Дали, Батая, Бретона. Речь не идет о каком-либо конкретном влиянии. Его нет и не может быть. Мы имеем дело с атмосферой эпохи, состоянием культуры первой половины ХХ века. «Что-то такое» носилось в воздухе затхловатой реалистической словесности: в России, во Франции, во всей Европе. Неважно, кто кому предшествовал, важен сам факт грандиозной ревизии литературы, ее сущности – это революция на уровне письма. Француз Нива смотрит на Розанова со своей колокольни, однако при этом он замечает то, о чем, может быть, догадывается, но молчит русский:
«Писать – значит опорожнять кишечник… Это должно происходить регулярно, это противоположный конец жизни… Розанов предавался страстному и непреклонному очищению русской литературы, словно кормил ее слабительным» [Нива: 173-177].
Интимизация в текстах Розанова доведена до предела, поэтому ее естественным итогом является сакрализация полового акта:
«Настоящая Россия для Розанова – грязная, теплая, как животное (как утроба), без стыда и содержания. Розанов в сходных выражениях пишет о «бесформенной» России и «незавершенности» половых органов, единственных «неопределенных» частей человеческого тела, теряющих это свойство только в совокуплении…» [Нива: 174].
Розановская интимизация – это и культ домашней жизни: поход «по грибы» важнее какой бы то ни было политической ориентации.
«Розанов пишет о литературе и религии в стиле кулинарном, обонятельном, детском, но уж никак не в профессиональном: литературном, религиозном, - подчеркивает Нива, - Его язык отмечен лингвистической инцестуальностью: рядом появляются слова, которые в принципе не могут быть соположены; о метафизике и литературе он выражается в терминах аппетита. Вероятно, Розанова можно назвать лингвистическим сенсуалистом, пересоздающим мир и человека на основании чисто чувственных словесных эффектов» [Нива: 177].
Эффект непосредственности – важнейшая составляющая интимизации. Незаконченность суждений, «болтовня» говорящего становится здесь особым приемом письма. Кроме того, выделенное курсивом комментирование опорного текста придает написанному двойную интимность: «… Нам предлагается палимпсест настроений. Разные голоса накладываются друг на друга, перемешиваются: сотни Розановых перекрещиваются» [Нива: 176].
Стремясь передать ускользающую полноту мгновения жизни, Розанов жертвует тем, чем обычно дорожит писатель: своей репутацией, мнением критики и, вообще, публики о себе и собственном творчестве, писательской корпоративностью. «Честное имя» - пустое для Розанова. Ему – «неинтересно» это, не «трогает». Розанов – русский эготист.
Мы, в свою очередь, утверждаем, что Виктор Ерофеев – тоже русский эготист, со всеми особенностями, обусловленными современной социокультурной ситуацией. Наша состоит в том, чтобы через понимание эготизма Розанова охарактеризовать эготическую сущность творчества Вик. Ерофеева. Методика деконструкции ерофеевского письма путем обращения к провокационной стратегии розановского представляется не только оправданным, но и необходимым шагом, потому что позволяет современному читателю понять: Ерофеев как писатель вырос «не на пустом месте», он очень хорошо знает традиции русской словесности, и обращение к Розанову является для него если не творческим методом, то, по крайней мере, чем-то необычайно важным (интимным), тем, что определенно влияет на него как на русского писателя.
Есть два главных момента, определяющих то интертекстуальное пространство, в котором «встречаются» Ерофеев и Розанов в роли субъектов письма как деятельности, обусловленной сознательным выбором определенной позиции. Отметим, что речь не идет, собственно, о схожести «выбора». «Выбор», как раз, у Ерофеева и Розанова – различный. Ключевые слова здесь: «деятельность», «сознательный» и «позиция». (Тогда как «одинаковый выбор» письма исключает проявление индивидуальности; так же лишен ее «стилизатор», демонстрирующий «одинаковый выбор» стиля).
Итак, первый момент.
По словам Ж. Нива, «парадоксы опровергают утверждения Розанова о том, что он пишет для себя одного: парадокс имеет смысл только в том случае, если есть собеседник, осмеивающий или подхватывающий его. Розанов – архикривляка, комедиант в литературе» [Нива: 177].
Если же свести воедино все критические высказывания о том, что «делает» в литературе Виктор Ерофеев, то и будет: «архикривляка» и «комедиант».
Второй момент.
Свою статью о Розанове профессор Нива заканчивает так: «Страдание облеклось в совершенно неподражаемый голос, стиль, тон, и с его появлением пробил последний час литературы «крупных жанровых форм». О себе самом Розанов говорил: «Я только судорога, нищета и беспорядок». Певец интимности склонялся над трещиной в бытии. «Режет Темное, режет Черное. Что такое? Никто не знает» («Опавшие листья», короб первый)» [Нива: 177].
О том, «ЧТО режет» и «ЧЕГО никто не знает» Виктор Ерофеев написал целую книгу: «Энциклопедия русской души»; она же – ерофеевские «опавшие листья». Умный, «кривляющийся» «комедиант» дает ответ на вопрос «ЧТО режет?»
Этот ответ: «Серый».
Литература «крупных жанровых форм» бессильна описать «Серого». Зато, благодаря опыту Вас. Вас. Розанова, это способен сделать Виктор Ерофеев.
«Тысячи Розановых»: палимпсест настроений,
свобода интерпретаций
Поскольку главным объектом нашего внимания является творчество Виктора Ерофеева, мы не ставим перед собой частную задачу общего обзора розанововедения (российского и западного). Но для нас важно отметить определенный научный источник, к которому, главным образом, обращался Ерофеев как литературовед, когда стал всерьез заниматься Розановым. Этот источник – посвященная Розанову работа Виктора Шкловского. Свое «программное» исследование «Розанов против Гоголя» Ерофеев закончил в 1983 году. Едва ли в то время могла идти речь о доступности научных материалов, посвященных Розанову. Так или иначе, относительно доступная (конечно, по спецдопуску в соответствующий библиотечный фонд) работа Шкловского стала отправной точкой для многих последующих интерпретаторов разбросанной и разрозненной розановской «листвы». Любопытно, что каждый исследователь ссылается на Шкловского по-разному. У Ерофеева это выглядит так:
«Как показал В. Шкловский в своей ранней брошюре о Розанове…»
И далее сноска: «См.: Шкловский Виктор, Розанов. – Пг.,1921».
Жорж Нива замечает в развернутом эссе «Розанов, русский эготист»:
«Виктор Шкловский разбирает новаторство этого жанра в статье «Сюжет как феномен стиля» (1921)…»
При этом женевский профессор ссылается на Шкловского гораздо активней, нежели Ерофеев:
«Шкловский показывает, что жанр «Опавших листьев» (два «короба» которых образуют вкупе с «Уединенным» трилогию) родился в тот день, когда Розанов перестал печатать в левых и правых изданиях свои реакционные или прогрессистские статьи (писавшиеся одновременно) и занялся сочетанием противоречивых настроений в одной – новой, парадоксальной – литературной форме» [Нива: 171].
«… «это роман без фабулы», - подчеркивает Шкловский».
«Виктор Шкловский заметил, что Розанов создал новый жанр, родственный пародийному роману Стерна. Розанов смещает ось словесности по направлению к личному дневничку и поваренной книге» [Нива: 177].
Ссылки на Шкловского находим, например, и в очень важной для нас в данном исследовании работе Никиты Елисеева «Отто Вейнингер и Василий Розанов: проблемы самоненависти»:
«… «Книга Розанова была героической попыткой уйти из литературы, «сказать без слов, без формы» - и книга вышла прекрасной, потому что создала новую литературу, новую форму», - писал о Розанове в 1921 году футурист Виктор Шкловский…» [Елисеев: 215].
Елисеевский «футурист Шкловский» не менее показателен, чем если бы он был «формалист Шкловский». То есть речь идет о том, что каждый исследователь не просто на свой лад интерпретирует Розанова, но он также привлекает в качестве аргументов выдержки из Шкловского, который приобретает статус некоего универсального координатора, определяющего главные особенности новаторского розановского письма. Формализм Шкловского парадоксальным образом способствует пониманию предельно не-формального рода словесности.
Для нас чрезвычайно важно высказать следующее соображение: сама постановка вопроса об уместности тех или иных сопоставлений («Розанов и Ерофеев», «Розанов и сюрреалисты», «Розанов и Вейнингер»), в общем, лишена смысла. Например, Шкловский говорит об «Уединенном»: «Это роман без фабулы». Дело здесь не столько в содержательной парадоксальности высказывания, сколько в абсолютной несопоставимости слова «фабула» с самим существом розановских сочинений. Конечно же, нет «фабулы» и не может ее быть в «поваренной книге».
Тем не менее, Шкловский прав: «Уединенное» - в самом деле «роман без фабулы».
Выражаясь метафорически, Розанов «живет» в каждом своем интерпретаторе, в его мыслях и в его произведениях. Подобно тому, как сотни «розановых» перебивают друг друга в «Опавших листьях», тысячи их что-то нашептывают «на ушко» читателям последующих поколений.
Задача состоит в том, чтобы прояснить, что же такого важного «нашептал» Розанов Виктору Ерофееву.
Образ «нашептывающего» Розанова вовсе не случаен – ему, в сущности, посвящен весь «Задумчивый странник» Зинаиды Гиппиус. Ее взгляд на Розанова противоположен «научному» (формальному) взгляду Шкловского. Рассказывая о Розанове, вспоминая о нем, она использует приемы розановского же письма (субъективность, верность пишущего одному лишь «моему мнению», избирательность памяти, прихоть настроения, интимизация), в результате чего добивается поразительной художественной адекватности «Задумчивого странника» и «Уединенного». Безусловно, говоря о Розанове, Гиппиус все равно говорит о «своем». Но именно этот момент и привлекает наше внимание, потому что именно здесь кроется вторая составляющая также и ерофеевского отношения к Розанову. (Первая – это внушенное Шкловским понимание ФОРМЫ розановских сочинений, то есть «научный» взгляд.) Охарактеризовать вторую составляющую можно следующим образом: абсолютная интимизация художественного слова в собственном творчестве. Розановское «бесстыдство» слова открывает новые перспективы самовыражения. В этом смысле Розанов всегда актуален. И каждый столкнувшийся с ним на страницах «Уединенного» открывает его для себя заново.
Для Виктора Ерофеева – это более чем «столкновение». «Розановизм» взят им на вооружение как метод художественной рефлексии, познания окружающего мира, понимания «загадочной русской души». Это «понимание» не есть что-то свершившееся. Это – процесс, постоянное усилие, штурм. Проникновение в то, что Ерофеев называет «щелью»:
«Секрет русского человека в том, что у него есть щель. Или – дыра. Или пробоина, если прибегнуть к морскому сравнению. Во всяком случае, в нем определенно нет герметичности. Нет осознания себя как целостности, как законченной, завершенной формы. Где щель, там расколотость, разбитость, опустошенность. Звук, если постучать, не звонкий, странный, глухой, загадочный. Цельная вещь не вызывает стольких вопросов, она есть. Плохая или хорошая, она существует и все. А здесь: кто разбил? Когда? С какой целью? Или с самого начала, от природы – с щелью? Замучаешься отвечать…»
Тем не менее, Ерофеев предпринимает мучительную попытку «ответить».
«Щель» как квинтэссенция «розановской» темы у Виктора Ерофеева
Ерофеев ни в коем случае не подражает Розанову. Влияние на него розановского письма всегда осуществляется «экспромтом, по щепотке, в игре разговорного стиля и печатного текста» (слова Ж. Нива в отношении самого Розанова). Но у Ерофеева есть магистральная тема, которую следует назвать «розановской». Границы этой темы размыты, в ней властвует чересполосица современных контекстов и извечно русских размышлений экзистенциального свойства. Сам Ерофеев называет это «проклятыми вопросами». Сведение воедино посвященных им текстов привело к созданию большого корпуса эссе, получившего название «В лабиринте проклятых вопросов». «Щель» - тезисный, программный текст этого корпуса.
«Через щель русская душа видна невооруженным глазом. Ее можно потрогать пальцем или даже пощекотать. Когда русская душа смеется от щекотки, смех стоит на всю Ивановскую. Русское веселье – дело надрывное, переходящее зачастую либо в рыдание, либо в драку. Перещекотали. Русские песни тоже надрывны. Надсадны и жалобны, А русские сказки то слащавы, то дивно циничны. В них презираются ум и работа. Там торжествует обман и чудо…
Недаром теологов тянет к русскому человеку: он метафизичен, из него лезет наружу мистическая субстанция души, как носовой платок из кармана. При всей своей обрядовой помпезности, русское православие – тоже с щелью. Оно похоже на спущенное колесо. Весомо лежит, скверно едет. Сидя на этом колесе, замечательно глядеть на звездное небо и рассуждать [выделено нами – М. Г.] о русском хлебосольстве».
(«Русский человек и существует для разговоров. Но для чего же он существует? Не для дела же?…» - говорил Вас. Вас. Розанов)
«Через щель русская душа непосредственно наблюдает мир, не прибегая к помощи банального человеческого зрения, и напрямую общается с Богом. Этот опыт уникален. С точки зрения не вечности, но щели. Этот опыт – достояние русской культуры. Прошлой и – будущей. Она никогда не останется безработной в отличие от неуместной российской цивилизации. В цивилизации русские – обидчивые подражатели, охваченные парадоксальной думой о том, что они изобрели все раньше и лучше других, но их на ярмарке идей обобрали евреи и иностранцы…»
У Розанова есть много рассуждений на эту тему в «Листве», однако пример отмеченной Ерофеевым парадоксальности таких «дум» русского человека хотелось бы привести из бытовых свидетельств современников Розанова. Как известно, он стремился запечатлеть на письме все, что приходило на ум, но кое-что «ускользало», «не успевал», тем не менее «незаписанное» - тоже дискурс. Корней Чуковский отметил в своем дневнике:
«Был у Розанова. Впечатление гадкое… Жаловался, что жиды заедают в гимназии его детей. И главное чем: симпатичностью! Дети спрашивают: - Розенблюм – еврей? – Да! – Ах, какой милый. – А Набоков? – Набоков – русский. – Сволочь! – Вот чем евреи ужасны…» [Чуковский: 56].
Ерофеев продолжает:
«Щель – основная причина извечной русской неудовлетворенности, ненасытности, неприхотливости, требовательности и лени. Лучший мифический образ русской души - помещик Обломов. Он красиво и правильно проспал всю жизнь. [Ср. у Розанова: «Они славные. Но все лежат (русские)» - М. Г.] Пробовал влюбиться – не получилось. Любовная энергия ушла через щель. Через щель уходит вся жизненная энергия. В щель забивается весь мусор мира. Чтобы сберечь энергию, нужно подолгу спать. Русской душе нужен покой. Русская душа никогда не обретет покоя.
Крестьянский народ, чуть ли не тысячу лет назад ушедший от ласкового солнца разоренного после степных набегов Киева в таежную хлябь Северо-Востока, и не подозревал, что там, на болоте, родится новая общность сильно разобщенных людей с ранимыми душами, страдающими от своенравия климата, поганой почвы и тошного вынужденного зимнего безделья».
Последняя мысль данного отрывка представляется особенно любопытной, поскольку во многом объясняет те «проклятые вопросы», которыми в свое время так мучился Розанов, когда размышлял о «нашей хмурой и несчастной Руси» («Апокалипсис нашего времени»).
Действительно, этногеографический фактор своеобразного «исхода» русских от «ласкового солнца» Киева сыграл значительную роль в формировании той русской души, как знали и познавали ее Достоевский и Розанов. В пользу данного утверждения свидетельствует также тот факт, что, например, украинский народ ни в чем таком, что эксклюзивно свойственно «русской душе», не замечен. Трудолюбивый, хваткий, хозяйственный, не склонный к метафизике, словом, совсем другой, хотя в сущности родной брат русского. Про различия между русским и украинцем созданы тысячи анекдотов – это целый фольклор, но ведь «всего-то» у украинца – «ласковое солнце» и едва ли не две трети лучшего чернозема Европы, земли отборнейшей, той, что и не снилась русскому Северо-Востоку, настроение которого так пронзительно выражено в жалобном розановском: «Мало солнышка… да долгие ноченьки».
Русский всегда мечтает о том, чтобы получить чего-нибудь даром. Ему так понравилось ходить «за халявой» (то есть, согласно Далю, за дармовыми сапогами), что слово «халява» прочно вошло в обиходное употребление всего народа и теперь, судя по всему, передается как архетипическое понятие генетически – из поколения в поколение. О том же у Розанова:
«В России вся собственность выросла из «выпросил» или «подарил», или кого-нибудь «обобрал». Труда собственности очень мало. И от этого она не крепка и не уважается…»
«Вечно мечтает, и всегда одна мысль: как бы уклониться от работы (русские)».
Украинец же уважает «труд собственности» и «от работы» не уклоняется. Нам, конечно, легко рассуждать об особенностях этногеографии восточных славян, так сказать, post-factum или, как выразился о нашем времени Эмиль Чоран, «после конца истории». В эпоху Розанова «историзм» был в расцвете своей силы. Существовало много трактовок русской истории, в сущности, литературных произведений о ней. По мнению Розанова, беда русских состояла в том, что они не знали и не читали Ключевского – «первого и последнего русского историка». «Последнего», потому что –
«Лучше не надо. Я даже не хочу чтобы «лучше Ключевского объясняли историю»: я хочу, чтобы непременно объясняли и чувствовали, как Ключевский» («Сахарна»).
И не случайно Виктор Ерофеев (он потомок, он вооружен знанием будущего) говорит в «Щели»:
«Историк Ключевский, шесть лет не доживший до большевистской революции, оказался куда более точен, нежели Достоевский, указав не на соборность и коллективизм русской души, а на ее беспробудную одинокость:
«… Великоросс лучше работает один, когда на него никто не смотрит, и с трудом привыкает к дружному действию общими силами. Он вообще замкнут и осторожен, даже робок, вечно себе на уме, необщителен, лучше сам по себе, чем на людях, лучше в начале дела, когда еще не уверен в себе и в успехе, и хуже в конце, когда уже добьется некоторого успеха и привлечет внимание: неуверенность в себе побуждает его силы, а успех роняет их»…»
«С щелью нормально жить невозможно. С щелью нельзя прилежно работать, думать о быте, обзаводиться семейным добром, покупать шелковые галстуки. С щелью не выстроишь ровной дороги, не станешь аптекарем…»
Последний отрывок ерофеевского текста весьма примечателен как демонстрация выбора розановского письма. Ведь Ерофеев – наш современник. Отчего же: «не выстроишь дороги» и «не станешь аптекарем»? Это во времена Розанова ТАК БЫЛО. СЕЙЧАС ситуация иная. Ерофееву ли не знать, что сегодня не все аптекари – «жиды и немцы»? Чем же является утверждение Ерофеева: неправдой, клеветой, художественным преувеличением, субъективным взглядом?
Ерофеев абсолютно точен и ПРАВ, однако его ПРАВОТА заключается не в логическом соотнесении того, что ВИЖУ и того, что ГОВОРЮ об этом, а в метафизическом измерении русской души, о котором «нашептал» Ерофееву Розанов и продемонстрировал его глубинные онтологические возможности. Поэтому «выбор» ерофеевского письма ретроспективно возвращает нас к реалиям эпохи Розанова.
В этой связи заслуживает особого внимания созданный средствами письма эффект «двойной хронологии» в рассказе Ерофеева «Бердяев». Здесь возникает ощущение топографического присутствия сразу в двух временных срезах: где-то в период между русскими революциями 1905 и 1917 годов и в начале 80–х г.г. ХХ века. Знаком первого присутствия является письмо, воспевающее атмосферу дореволюционного быта русской интеллигенции:
«… ибо в деятельности ее давно позабытого, однако, как выяснилось, еще живого отца мне неизменно виделась не забота о пользе отечества, а спесь зарвавшегося фаворита…
…Помню, как в детстве, я созерцал его однажды в родительском доме, за праздничным столом, по правую руку от моей матушки… помню, как прожорливо ел он руками лакомые куски индейки и поминутно брался за фужер, оставляя на нем виноградины своей дактилоскопии и отпечатки губ, доставшихся Наталье, как оттянув мизинцем рот, он сладостно ковырял зубочисткой в отдаленных зубах, словно наводил порядок в отдаленных губерниях, а позже, отяжелев, задремал за десертом…»
«А я бы, - блеснул глазами Круглицкий, - на месте Мишеля отоварил бы ее разок, а летом хоть в рудники».
«Когда наконец сделают реформу орфографии? – негодовала Юлия, обращаясь к хозяйке. – Как надоели все эти «яти» и «еры»! – И уж тем более «ижицы»! – подхватила Наталья».
«Я заявлю в полицию!»
«После революции мы вас повесим вот на этом фонаре!»
И спустя какие-то минуты (Филонов и Юлия выходят из гостей на улицу) повествователь радикально меняет стиль наррации и буквально опрокидывает читателя в 80-ые годы:
«Безлюдный проспект. Здесь, как всегда, ветер. Не люблю я эти новые районы! – поморщилась она. – А вы где живете? – В Кунцеве. – Тоже мне старый район! – Конечно старый! – Не знаю, - я пожал плечами, - не нравится мне ваше Кунцево. И никто вас туда не повезет. Посмотрим – сказала она с вызовом. Мы стали ловить и смотреть. Машины изредка останавливались, но никто не хотел ехать в Кунцево…» [выделено нами – М. Г.]
Примечательно, что в рассказе «Бердяев» персонажи постоянно спорят о Розанове, причем до ссоры и чуть ли не до драки. Образ Розанова предельно актуализирован, несмотря на то, что дореволюционные декорации и жаркие философские диспуты о русской душе и о русском народе, а также о возможной революции оборачиваются в итоге поездкой «в Кунцево». Розанов предстает здесь знаковой, культовой фигурой русской интеллигенции:
«Наши беседы протекали разнообразно: то вы бывали любезны и оказывали мне всяческие знаки внимания, вплоть до того, что однажды поднесли горящую спичку, когда я вынул сигарету… то дело вдруг начинало «пахнуть Сибирем», если принять во внимание Розанова, которого Юлия, это меня не удивляет, ТЕРПЕТЬ НЕ МОГЛА (ах, ты, моя птичка!)…»
«От Юлии, как от трамвайной дуги, летели во все стороны искры. Разговор, как водится, зашел о Кюстине. Я позволил себе несколько критических замечаний. Юлия высмеяла меня как квасного славянофила. Юлия набросилась на Розанова, потому что тот ничего не понял в Христе. Мы сцепились с ней, но не потому, что Розанов ничего не понял в Христе, а по поводу равенства…»
Розанов проникает к нам сквозь все временные, пространственные и метафизические «щели».
«Щель»:
«Щель можно спрятать, как звериный хвост, зажав его между ног. Щель, на худой конец, можно заклеить. Но звук все равно будет не тот: глухой и загадочный. Можно только притворяться, что все нормально. Хитрить и лукавить. Однако лукавь не лукавь, а почему-то так неудержимо хочется рвать и пачкать обои!
Щель – великое преимущество русского человека. В том, что он лучшее из того, что сотворил Бог, русский человек, даже самый скромный и мягкий, включая Чехова, никогда не сомневался. В том, что он говно, он тоже нисколько не сомневается. Вся русская философия замирала от такой нежданно-негаданной полярности. Вся русская литература восхищалась широтой своего героя. Иностранцы тоже дивились, в блаженном неведении. А как им понять, когда у них все задраено, если у них – ни щелочки?
Посмотришь на русского человека острым глазком. Посмотрит он на тебя острым глазком. И все понятно, и никаких слов не надо. Вот чего нельзя с иностранцем. Так резонно рассуждал Василий Розанов в начале ХХ века».
Но «со щелью» - «нормально жить невозможно» (Ерофеев). Экзистенциальное неблагополучие русской души не могло не привести Розанова, и Ерофеева к тому, что в русском языке не имеет устойчивого определения как понятие, но что немцы называют «selbstha;» - «самоненависть».
Парадоксы «самоненависти»
I. Розанов и «selbstha;»
Немецкое слово «selbstha;» - «самоненависть» - предложил для характеристики розановского «Уединенного» и «Опавших листьев» Никита Елисеев в своей работе «Отто Вейнингер и Василий Розанов: проблемы самоненависти». Несмотря на несколько формальный подход Елисеева к розановским произведениям, представляется вполне оправданным применение для характеристики их повествователя понятия «самоненависть».
Мы, безусловно, отдаем себе отчет в том, что все, написанное Розановым, есть дань сиюминутному настроению, воплощение на письме «верности моменту», тем не менее, нельзя не признать исключительную важность розановского вымученного признания в «Уединенном»:
«Вот и я кончаю тем, что начинаю все русское ненавидеть. Как это печально, как страшно. Печально особенно на конце жизни. – Эти заспанные лица, неметеные комнаты, немощеные улицы. Противно, противно. (Луга – Петерб., вагон)»
И далее:
«Сам я постоянно ругаю русских. Даже почти только и делаю, что ругаю их. «Пренесносный Щедрин». Но почему я ненавижу всякого, кто их ругает?… Между тем я бесспорно и презираю русских, до отвращения. Аномалия (за нумизматикой)»
Н. Елисеев обращает внимание на то, что «… «аномалия» весьма изящно «встроена» в безупречную логическую систему. Силлогизм: я презираю и ругаю русских . Я – русский. Стало быть, я ненавижу и презираю себя. Я ненавижу всякого, кто ругает русских. Сам я только и делаю, что ругаю русских. Стало быть, я ненавижу себя! Сам я русский. Стало быть… - и так далее. Выстраивается дивный логический круг, кольцо, из коего не вырваться…» [Елисеев: 218].
С точки зрения психоанализа, в личной судьбе Розанова было много причин для возникновения самоненависти: полубезумная больная мать, пьяный безалаберный отчим, «паукообразная» первая жена (Аполлинария Суслова, бывшая любовница Достоевского; в этой связи приобретает особый, злой смысл розановское «Достоевский вцепился в сволочь на Руси… Достоевский, как пьяная нервная баба…»), нравы провинциальных гимназий, где преподавал Розанов… Мог ли после них, сам разночинец, Розанов не возненавидеть разночинцев же и грязных «демократишек» (то есть «себя» как сословие)?
Из воспоминаний П. Д. Первова «Философ в провинции»:
«Классик-картежник М. В. Десницкий в учительской то и дело насмешливо провозглашал по адресу В. В. Розанова: «Нашелся понимающий среди ничего не понимающих». Один раз Розанов попал на холостую попойку учителя женской гимназии Желудкова. Здесь слово за слово разгорелся спор между Розановым и Десницким. В разгар спора Десницкий схватил книгу «О понимании», преподнесенную Розановым Желудкову, положил ее на пол, расстегнул брюки и обмочил ее, при общем хохоте всех присутствующих, приговаривая: «А ваше понимание, Василий Васильевич, вот чего стоит!…»»
Петербург также не принес благополучия в жизнь Розанова. И хотя он боготворил свою вторую жену, попадью Варвару, обожал детей и старался, как мог, чтобы обустроить быт семьи надлежащим образом, все время что-то было не так… И от «ЭТОГО» бежал Розанов «в себя» - так родился жанр «Уединенного».
Отрывочные свидетельства современников, близко знавших Розанова, часто содержат какие-то зловещие факты – не о том, что видел Розанов из своего «подполья», а о том, что происходило в самом этом «подполье». Так Корней Чуковский заносит в свой дневник рассказ о знакомстве с Шурой, «падчерицей Розанова, высокой, красивой девушкой», которая призналась ему: «… Я сифилитичка! Посмотрите! (И показала болячки во рту, на шее) Я сама себе отвратительна. У моего отца (священника) был сифилис…» Далее Чуковский говорит о том, что гулял с ней весь день по городу, стараясь отвлечь от черных мыслей, читал ей стихи, она, казалось, немного успокоилась. Но автор дневника заканчивает: «… На следующий день она повесилась. Как В. В. Розанов любил свою Варвару! Здесь была его святыня – эта женщина с неприятным, хриплым голосом, со злыми глазами, деспотичка…» [Чуковский: 482].
Но обстоятельства личной жизни только углубляют те одолевающие Розанова психологические комплексы, что лежат в основе «самоненависти», реализованной в его письме до последнего предела чрезмерности.
Когда Н. Елисеев говорит о «самоненависти» Розанова, то имеет в виду, что ненависть к себе является следствием ненависти ко всему русскому, или наоборот, ненависть к «русскому» рождена ненавистью к себе. Аргументы Елисеева формально логичны, однако в том и состоит основной парадокс, что на самом деле, в Розанове параллельно сосуществуют две самоненависти: «к себе» и «ко всему русскому».
При этом каждая из них странным образом уживается с соответствующей «любовью» - «к себе» (эготизм) и «ко всему русскому» (славянофилия и черносотенный патриотизм). Розанов формально логичен в одних высказываниях (на что обратил внимание Елисеев) и противоречит себе в других. Он внутренне непоследователен во всем, в том числе и в том, что касается его любви-ненависти к «русскому».
Единственное, чему верен Розанов в своем письме – это настроение. Так, «в вагоне Луга-Петербург» он говорит о появившейся ненависти и презрении к русским – «до отвращения».
Между тем, в «Опавших листьях» записывает:
«Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы должны ее любить именно когда она слаба, унижена, наконец глупа, наконец даже порочна…»
И еще там же:
«До какого предела мы должны любить Россию?… До истязания самой души своей… Любовь к родине чревна».
Розановский патриотизм складывается из двух противостоящих друг другу составляющих: «патриофилии» и «патриофобии». Причем «филия» - сродни половому чувству, любви к женщине (см. множественные рассуждения Розанова о «женственной природе русских»; например, в статье «Возле русской идеи» (1911)), тогда как «фобия» - результат не метафизического видения родины, а наоборот, «физического», когда внешне Россия предстает взору писателя во всей своей неприглядности.
Иногда эти составляющие розановского патриотизма парадоксальным образом сочетаются в одном высказывании: «… Русская жизнь и грязна, и слаба, но как-то мила».
Раздирающие Розанова противоречия между «патриофилией» и «патриофобией» не могут не привести к возгласам, родственным отчаянию:
«Запутался мой ум, совершенно запутался… Всю жизнь посвятить на разрушение, что одно в мире люблю: была ли у кого печальнее судьба?»
Именно в таких рассуждениях, случающихся уже «на конце жизни», Розанов как никогда ранее близок к тому, что немцы (русские - нет) называют «самоненавистью». И если «уединенные» мысли о том, как ему противна собственная фамилия («Удивительно противна мне моя фамилия. Всегда с таким чужим чувством подписываю «В. Розанов» под статьями. Хоть бы «Руднев», «Бугаев», что-нибудь…») и как ненавистна «мизерабельная» внешность, еще вызывают подозрения (в смысле: невротизм, реализованный в письме), то появляются также признания, которые предельно интимны и откровенны:
«Я знаю, что изображаю того «гнуса литературы», к которому она так присосалась, что он валит в нее всякое дерьмо. Это рок и судьба».
«Во мне ужасно много «гниды», копошащейся около корней волос. Невидимое и отвратительное».
«Что-то такое противное есть в моем слове. Противное это в каком-то самодовольстве. Даже иногда в самоупоении…»
Внутренне осознание собственной порочности – вот ключ к «самоненависти» Розанова:
«Все мои пороки мокрые. Огненного ни одного… У меня чесотка пороков, а не влечение к ним, не сила их. Это – грязнотца, в которой копошится вошь; огонь и пыл пороков – я его никогда не знал».
Но парадокс в том, что эти слова сказаны глубоко верующим, религиозным человеком. ТАКОГО не могли простить Розанову многие современники, несмотря на всю симпатию к его литературному таланту. У «церковников» были все основания отказывать Розанову в ортодоксальной (православной) религиозности; они логично (но что Розанову логика! – ничто) подозревали его в язычестве. Даже близкий Розанову священник Павел Флоренский признавал: «Существо его – богоборческое; оно не приемлет ни страдания, ни лишений, ни смерти, ему не надо искупления, не надо и воскресения, ибо тайная его мысль – вечно жить, и иначе он не воспринимает мира».
«Опавшие листья»:
«…Что значит, когда «я умру»?
Освободится квартира на Коломенской, и хозяин сдаст ее новому жильцу.
Еще что?
Библиографы будут разбирать мои книги. А я сам?
Сам? – ничего.
Бюро получит за похороны 60 руб., и в «марте» эти 60 руб., войдут в «итог». Но там уже все сольется тоже с другими похоронами; ни имени, ни воздыхания.
Какие ужасы!»
Размышляя об абсурдности смерти, Розанов в сущности задает «проклятые вопросы» будущего экзистенциализма.
«Мне 56 лет: и помноженные на ежегодный труд – дают ноль.
Нет, больше: помноженные на любовь, на надежду – дают ноль.
Кому этот «ноль» нужен? Неужели Богу? Но тогда кому же? Зачем?
Или неужели сказать, что смерть сильнее самого Бога. Но ведь тогда не выйдет ли: она сама – Бог? На Божьем месте?
Ужасные вопросы.
Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь».
Другие отказывали Розанову в порядочности, говоря, что он пишет сразу двумя руками, левой – в левых газетах, правой – в правых. «Дело Бейлиса» и розановские статьи в черносотенной прессе, наполненные утробным антисемитизмом, переполнили чашу терпения, например, Религиозно-философского общества, из которого Розанов был торжественно исключен.
В ретроспективном взгляде кажется вполне естественным тот факт, что современники в большинстве своем не улавливали в «двуличности» Розанова совершенную (наивную) искренность. Все яростно с ним спорили, чему Розанов был приятно удивлен и искренне же рад – и тоже спорил в ответ, и все это было бесконечно. Но «понимания» было немного. (Хотя о «понимании» Розанов написал целый трактат, благополучно забытый на сто лет…) Оно, скорее, проявлялось в каких-то бытовых воспоминаниях.
Вот запись в дневнике К. Чуковского:
«Страшно хотел [Розанов – М. Г.], чтобы Репин написал его портрет. Репин наотрез отказался: «лицо у него красное. Он весь похож на…» Узнав, что Репин не напишет его портрета, Розанов в «Новом Времени» и в «Опавших листьях» стал нападать на него, на Наталью Борисовну и выругал мой портрет работы Репина. Но все это простодушно [выделено нами – М. Г.]; при первой же встрече он сказал: «Вот какую я выкинул подлую штуку»…» [Чуковский: 483].
Э. Голлербах, близко знавший Розанова, продемонстрировал недостающее многим «понимание»:
«Розанов не был двуличен, он был двулик. Подсознательная мудрость его знала, что гармония мира в противоречии. Он чувствовал, как бессильны жалкие попытки человеческого рассудка примирить противоречия, он знал, что антиномии суть конститутивные элементы религии, что влечение к антиномии приближает нас к тайнам мира» [Голлербах: 98].
Вышеизложенное подводит нас к тому, чтобы констатировать неоднозначность и противоречивость мнений о Розанове и его творчестве. Очевидно, что это спровоцировано противоречивостью личности самого Розанова, «реализованной» в письме, невероятная сила которого заключена в сочетании дара и откровенности, являющейся собственным, глубоко интимным откровением.
Современников пугало то, что для Розанова нет ИСТИНЫ, есть лишь ее МОМЕНТ, вечно ускользающее мгновение жизни, настроение, отражающее существование «ЗДЕСЬ» и «СЕЙЧАС». Розанов случайно зафиксировал наступление «Конца истории» и распад («разъятие» - по его собственным словам) литературы. Еще не был написан Шпенглером «Закат Европы», еще не выступал с лекциями доктор Фрейд (см. «разъятие»), но Розанов уже почувствовал и выразил то, что впоследствии станет неотъемлемой частью европейской философии и литературы ХХ века.
Было бы некорректно предполагать, что Розанов на кого-то или на что-то «повлиял». Это не в его духе. Все, что он делал, носит принципиально случайный характер, но это ни в коей мере не мешает интертекстуальному прочтению и пониманию его сочинений. Именно поэтому Шкловский увидел в Розанове новатора литературной формы и разложил отмеченные инновации «по полочкам», чем, безусловно, помог последующим исследователям элементарно «ориентироваться» в розановском письме. З. Гиппиус «по-символистски» назвала автора «Уединенного» «задумчивым странником», а К. Чуковский пошел еще дальше, охарактеризовав Розанова как «физического» и «метафизического» Постороннего, предвосхитив, между прочим, знаменитый экзистенциалистский образ Мерсо из одноименного романа А. Камю:
«Розанов – посторонний… Вся сила Розанова в том, что он никого и ничего не умеет слушать, никого и ничего не умеет понять. Ему объясняли, но он не слушал и выдумал свое…» [Чуковский: 31].
Наконец Н. Елисеев логически доказал, что Розанов в своем интимном, «психоаналитическом» письме был движим чувством, которое немцы называют «самоненавистью».
И если выражение Зеньковского «религиозный натурализм» применительно к Розанову звучит спокойно и научно, то существуют и более экзотические характеристики. Насколько они несправедливы объективно, настолько же логичны и неоспоримы с точки зрения тех, кто их высказал.
Так Лев Троцкий заявляет:
«Розанов был заведомой дрянью, трусом, приживальщиком, подлипалой» [Троцкий: 31].
Но в то же время певец революции, «самый пролетарский» писатель М. Горький восторженно писал Розанову:
«Схватил, прочитал раз и два, насытила меня Ваша книга, Василий Васильевич, глубочайшей тоскою и болью за русского человека, и расплакался я, - не стыжусь признаться, горчайше расплакался. Господи, помилуй, как мучительно трудно быть русским!…»
Надо сказать, это не было просто сиюминутной эмоцией 1912 года; даже в революционную разруху Горький, чем мог, пусть копейками, помогал голодающему Розанову.
Зато на Троцкого охотно ссылаются более поздние дискредитаторы Розанова. Например, мнение К. Шлегеля:
«Если бы большевики не захватили власть, то, по мысли Троцкого, «за пять лет до похода на Рим в России появилось бы русское название для фашизма»; эта мысль получает подтверждение при знакомстве с идейным арсеналом Розанова» [Шлегель: 151].
Соответствующая глава книги Шлегеля так и называется: «Василий В. Розанов. Предфашистский модернист».
Сам Розанов с готовностью принял статус изгоя русского либерализма и вполне был согласен пострадать за идеи русского же «предфашизма»:
«… «Всеми презираемый Розанов…» - пишет Кугель (еврей, «День). Почему «всеми», если борюсь с евреями. Почему за вас, евреи, должны «все презирать» человека, если он с вами борется?» («Мимолетное»)
Но парадоксалист Розанов не оставляет своим обвинителям (в черносотенстве, в квасном патриотизме) никаких шансов даже для маневра, когда признается, одновременно проясняя глубинные истоки своего selbstha;:
«… Не думайте, когда «истинно русское» станет торжествующим, я уйду от него. Ведь оно захрюкает. Но я безумно люблю его в теперешнем страдальчестве. Пока оно гонимо. А оно неоспоримо гонимо…» («Мимолетное»)
То есть «патриофилия», по Розанову, естественным образом ведет к «патриофобии», когда любимое метафизическое «русское» начинает «хрюкать» - это и есть почва для зарождения selbstha;.
Для нас важно отметить, что Виктор Ерофеев в своей интерпретации розановских текстов - мыслей – «опавших листьев» не соответствует (в полной мере) ни одному из вышеизложенных мнений. Ему на руку сыграло то обстоятельство, что в конце 70-х, когда он стал заниматься Розановым, о последнем не было и не могло быть никакой дискуссии в СССР – ни научной, ни публицистической (разве что – «кухонной»).
Ерофеев, по большому счету, оказывается «наедине» с Розановым. Так рождается понимание «Уединенного», «Опавших листьев», «Апокалипсиса нашего времени». Интереснее всего то, что у Ерофеева совершенно особая интерпретация того розановского чувства, которое мы определили как selbstha;. Оригинальность Ерофеева не столько в сомнении, существует ли она вообще (прямых доказательств такого сомнения у нас нет; Ерофеев просто не говорит об этом, точнее, не произносит слова «самоненависть»), сколько в постановке необычного вопроса: С какой целью реализуется в письме то, что может быть названо selbstha;?
«Розанов в своих книгах не устает выставлять себя некрасивым, неискренним, мелочным, дрянным, порочным, эгоистичным, ленивым, неуклюжим… Но если читатель вообразит себе, что перед ним автопортрет Розанова, то он в очередной раз ошибется. Розанов вовсе не мазохист и не раскаявшийся грешник. Он снисходит до интимных признаний не с целью исповедального самораскрытия, а с тем, чтобы подорвать доверие к самой сути печатного слова» («Розанов против Гоголя») [выделено М. Г.].
Подчеркивая тезис о «подрыве доверия к самой сути печатного слова», мы переходим к selbstha; самого Виктора Ерофеева.
II. Ерофеев и «selbstha;»
Selbstha; Виктора Ерофеева – нечто ускользающее, неявное, замаскированное понемногу в различных текстах. Однако то, что мы склонны называть «самоненавистью», существует, и его природа сродни розановской selbstha;, представляющей парадоксальное сочетание «патриофобии» и «патриофилии».
Розанов в свое время не без оснований рассуждал о том, что России нужна не великая и прекрасная литература, а великая и прекрасная жизнь. Если вспомнить о том, что для Розанова «литература» была тождественна тому, что относится более к области политики (в силу выдвинутого XIX веком тезиса о социальной роли литературы), то приобретают особый, розановский», смысл выводы Виктора Ерофеева, сформулированные в эссе «Переживет ли Россия ХХI век?»:
«Сегодня в России основная борьба идет не между левыми и правыми, демократами и коммунистами, молодыми и старыми, западниками и славянофилами, а между продуктивными [выделено нами – М. Г.] и контрпродуктивными элементами общества. Самые простые положительные желания – жить лучше, зарабатывать больше денег, создавать здоровую семью – в России до сих пор значительной части населения кажутся непонятными. Напротив, культивируются разрушительные ценности».
Можно сказать, что и Розанов сто лет назад восставал именно против «контрпродуктивности» российского общества. Но если сейчас перед нами целый набор (или, как выразился бы Виктор Ерофеев, «букет») «контрпродуктивных» элементов, то при Розанове главным таким элементом была литература, причем не по «форме» своей («формой» нельзя было не восторгаться; «словечки – как ни у кого!» - Розанов о Гоголе), а по «содержанию»:
«В большом царстве, с большою силою, при народе трудолюбивом, смышленом, покорном – что она [литература – М. Г.] сделала? Она не выучила и не внушила выучить – чтобы этот народ хотя бы научили гвоздь выковать, серп исполнить, косу для косьбы сделать… Народ рос совершенно первобытно с Петра Великого, а литература занималась только, «как они любили» и «о чем разговаривали»…» («Апокалипсис наших дней»).
Как убежденный консерватор Розанов молился на правительство (власть) – оно не вняло его чаяниям, как не вняло и идейному учителю Розанова Константину Леонтьеву, который предлагал (правительству, монархии, государству) «подморозить Россию». Оставалась еще «интеллигенция», то есть «общественное мнение» - однако интеллигенция вся как один чтила (читала) Гоголя, Щедрина и прочих «клеветников на Россию». Немудрено, что смех, производимый этим «чтением», казался Розанову сатанинским. Сложно сказать, когда Розанов окончательно осознал, что победа «контрпродуктивных» сил неизбежна, возможно – после публикации «Рассказа о семи повешенных» Леонида Андреева; возможно – после революции, «postfactum», когда вырвалось: «Прав этот бес Гоголь…»
То, о чем говорил Розанов, сегодня мы читаем у Ерофеева – о современной России:
«Ни власть, ни интеллигенция этой проблемы [контрпродуктивности – М. Г.] не видят, и, следовательно, ее не решают. Неудивительно: они сами по большей части контрпродуктивны. Власть в России исторически склонна к насилию. Интеллигенция исторически кончилась, хотя это ей пока неизвестно. Это была специальная русская секта, которая занималась тем, что хотела народу счастья [об этом хотении вместо делания особенно много говорилось у Розанова – М. Г.]. Теперь непонятно, что такое счастье и что такое народ. Все запущено до беспредела…» («Переживет ли Россия XXI век?»)
Весьма примечательно, что критик и литературовед Н. Елисеев, предложивший термин selbstha; в отношении Василия Розанова, то же самое понятие – «самоненависть» - применяет для характеристики книги Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». В своем эссе «Викер» он говорит о «самоненависти» Ерофеева в тех же выражениях и с использованием той же методологии, что и в исследовании, посвященном Розанову и Вейнингеру.
По-фрейдистски намекая на то, что истоки ерофеевской «самоненависти», которая выплеснулась в полную силу на страницах «Энциклопедии русской души», находятся в детстве автора, Елисеев затем формально логически доказывает, что, будучи русским, Ерофеев терпеть не может все русское, ненавидит его, следовательно, ненавидит себя… и т.д.
Такой подход представляется не то чтобы в целом неверным, но слишком прямолинейным и поверхностным.
О парадоксальных авторах (или авторах парадоксов), таких, как Розанов и Ерофеев, едва ли можно судить, руководствуясь исключительно формальной логикой. Тем не менее, заслуга Елисеева – в указании на «самоненависть» как таковую в письме интересующих нас авторов.
Следуя розановским путем, Ерофеев склонен к искреннему и беспощадному анализу «всего русского», то есть – к самоанализу, или еще даже – к самопсихоанализу:\
«Основная ошибка России в том, что она видит свои беды не в своих пороках, а в чужих намерениях. Главный враг русского – он сам, но русский вытесняет [характерный лингвофрейдизм – М. Г.] внутреннего врага с отменным постоянством и находит его попеременно то на Западе, то на Кавказе, то в евреях, то в происках сверхъестественных сил…»
Как в свое время Розанов, Ерофеев констатирует тот факт, что у русского народа «все ценности находятся в разболтанном состоянии», поэтому:
«Предугадать развитие России невозможно. Она может и развалиться, и сохраниться. Каждый жест, который делается в России, толкает ее то в одну, то в другую сторону. Этим Россия и интересна. Опасно интересна [выделено нами – М. Г.]. Так мне нашептывает моя собственная контрпродуктивность» («Переживет ли Россия…»).
Ерофеев ничуть не отрекается от своего «врага внутри». Более того, он к нему с интересом прислушивается.
Здесь вырисовывается еще ряд силлогизмов. В «Энциклопедии русской души» Ерофеев остроумно замечает, что Россия – это «рай для писателей и ад для читателей». И ему как писателю жить в России просто творчески необходимо именно потому, что здесь все так плохо и невыносимо тошно. Можно ли то, что «плохо» и «тошно» любить? Вопрос совершенно розановский. Сам Розанов отвечал на это: «должно!»
Но есть все основания полагать, что «про себя» (это «мимолетно» читается, почти угадывается в его «уединенных» междустрочиях) добавлял: «однако невозможно» или – «страшно тяжело!» Поэтому у него в конце концов и вырывается стон отчаяния: «ненавижу все русское!»
Нечто подобное происходит и с Ерофеевым, и охарактеризовать это можно так: как «писатель» он – патриофил, а как «читатель» (то есть простой, «физический» человек) – патриофоб. Из этих двух составляющих (патриофилии и патриофобии) и складывается Selbstha;, что мы уже проследили на примере Розанова.
«Читатель» ведь не только «книги читает», ему еще кушать необходимо, иметь комфортный быт, интересную работу и т.д. Этого-то, как раз, Россия своему «читателю» предложить не может. Спасение – пожалуйста, колбасу – извините! Впрочем, и со «спасением» в России все запутано. Одна из критико-эссеистических работ Виктора Ерофеева так и называется: «Ни спасения, ни колбасы». Она посвящена личности маркиза де Кюстина и его «небезызвестной» антироссийской книге «Россия в 1839».
Ерофеев подчеркивает, что Кюстин отнюдь не русофоб, он не враждебен русскому народу, хотя и относится к нему как к доброму, бедному варвару, выживающему в разбойничьем и вороватом (как тут не вспомнить карамзинское «Воруют!») государстве исключительно за счет природного лукавства. Но все российские реалии повергли Кюстина в такой ужас, что он не смог удержаться от соблазна их беспощадного обличения, хотя направлялся в Россию совсем с другой миссией: воспеть просвещенный абсолютизм николаевской монархии – по «высочайшему» заказу государя. Можно понять негодование императора, когда Кюстин задуманный «белый PR» легко обернул в «черный».
В своем исследовании истории написания и публикации «изящного эпистолярного пасквиля» Кюстина Ерофеев отмечает важную вещь, во многом соприкасающуюся с размышлениями о том, почему Россия – рай для писателей и ад – для читателей (в сущности, это один из «проклятых» розановских вопросов):
«Устойчивая оппозиция видимости цивилизации (Россия) и цивилизации подлинной (Европа) разработана маркизом на века:
«Здесь, в Петербурге, [заменив «Спб.» на «Москву», получим 2003 год, - М.Г.] вообще легко обмануться видимостью цивилизации. Когда видишь двор и лиц, вокруг него вращающихся, кажется, что находишься среди народа, далеко ушедшего в своем культурном развитии и государственном строительстве. Но стоит вспомнить о взаимоотношениях различных классов населения, о том, как грубы их нравы и как тяжелы условия их жизни, чтобы сразу увидеть под возмущающим великолепием подлинное варварство»…
В чем все-таки причина русской неспособности к цивилизации? Вопрос актуален… Можно сказать, что в России нарушен баланс между культурой и цивилизацией. Вот сущность отечественного максимализма: нельзя одновременно любить колбасу и Андрея Рублева. Или-или. Русская интеллигенция никогда, и сейчас это повторяется, всерьез не боролась за колбасу для народа; она боролась за его освобождение. Абстрактное мышление превалировало; меньше, чем на спасение, интеллигенция не соглашалась, в результате чего в России не было ничего: ни спасения, ни колбасы…»
Мы, в свою очередь, не можем не констатировать факт, сближающий Ерофеева и Розанова: оба более озабочены индивидуальным спасением и индивидуальной колбасой, нежели выписыванием рецептов решения извечных проблем смутно определяемого «народа». И это несомненная патриофобия, обусловленная «эготизмом» обоих авторов.
По поводу книги Кюстина все русские негодуют со времен Николая Первого. Однако все здравомыслящие русские ее же читают взахлеб, тому есть множество подтверждений в ерофеевской работе о Кюстине. Один из наиболее показательных примеров – слова самого Бенкендорфа, заявившего императору с жандармской прямотой: «Г-н де Кюстин лишь сформулировал те мысли, которые у всех издавна существуют о нас, включая нас самих».
Когда-то Розанов заявил, что если бы в России распространилась «высокая человеческая правда» Новикова и Радищева, то страна не имела бы духа «отразить Наполеона». Однако ведь сам Розанов – читал и Радищева, и Гоголя, и других «кюстинов». Потому что – «правда». И парадоксальное добавление: «правда», которая не должна быть сказана, так как пагубна для державного духа. Значит, все же – патриофилия? Получается, что в масштабе страны наличествует патриофилия, а в масштабе «неметеных улиц» и, скажем, вокзала в Рыбинске – патриофобия:
«Еще бы русские не эллины.
Настоящие эллины. Выхожу из вокзала в Рыбинске и говорю в толпу жадно ждущих «ездока» извощиков:
- Какая здесь лучшая гостиница в городе?
- ***ва…»
(«Мимолетное»)
«Проклятый Кюстин! – восклицает Ерофеев. – Чтение его книги для русских – это настоящий бум печальных ассоциаций, невыгодных сравнений и личных неприятных воспоминаний.
Василий Розанов как-то заметил, что он сам многое ненавидит в России, но возмущается, когда Россию критикуют иностранцы. Это, надо сказать, чуть ли не общерусский взгляд на вещи. Наверное, потому и не печатали Кюстина в России. Русские, как правило, не прощают «холодного», трезвого взгляда со стороны на свою родину. Мы, как дети, хотим, чтобы нас любили. А кто не любит детей, тот враг человечества» («Ни спасения, ни колбасы»).
Поэтому неудивительно, что во «враги человечества» регулярно зачисляются такие парадоксалисты, которые любят Россию «странною любовью». Парадоксальные мнения оскорбляют слух «рядовых» патриотов, а зачастую и литературные вкусы – прежде всего идейных антагонистов среди собратьев по перу. Последние иногда так увлекаются «неподаванием руки» (например, Розанову – после «дела Бейлиса», Ерофееву – после акций объединения «ЕПС»), что становятся совершенно неспособными к объективному анализу.
Проблема «негодования» в отношении таких авторов, как Розанов и Ерофеев, связана с размытостью и неоднозначностью субъекта письма в их произведениях. Вот почему современники Розанова возмущенно заявляли, что он пишет одновременно «левой» и «правой» рукой, что он «язычник» (одни) или что - «еретик» (другие), то есть были не готовы к восприятию неизбежного парадоксализма, вызванного склонностью субъекта розановского письма к мгновенной изменчивости, зависящей лишь от ежесекундной прихоти авторского настроения.
Ерофеев, в этом смысле, несомненный «розановист». Конечно, в данном случае речь идет лишь о том корпусе произведений Ерофеева, жанровая неопределенность которых созвучна парадоксальности выбранного (субъектом повествования) письма.
Мы можем наметить круг этих произведений:
«В лабиринте проклятых вопросов», «Шаровая молния», «Мужчины», «Энциклопедия русской души».
В этих текстах, верных лишь «настроению» и «мне интересно», патриофилия легко переходит в патриофобию, а самовосхваление (эстетическое самолюбование) – в самоненависть. Так, книга «Мужчины» открывается рассказом «Утреннее чудо», настоящим гимном мужской эрекции, текстом, написанном «семенем человеческим» (как выразился бы Розанов). И уже буквально в следующем за ним «Геологическом сдвиге» читаем:
«Что было – то прошло. Русский мужик встает с карачек. Пора ему превращаться в мужчину. Ну и рожа!»
- А чего?
- Отряхнись…
- Ну!
- Причешись…
- Ну!…
И лишь иногда в бане, глядя на себя сверху вниз при мытье, он обнаруживал странные желания, но журнал «Плейбой» в то время не продавался, и он не знал, что делать с собой в этих случаях…»
Примеры патриофобии более многочисленны, нежели искры патриофилии («Я испытываю боль за русский народ, потому что он вял и сир, а я излучаю энергию). В тех же «Мужчинах»:
«Будь я поляком, я бы все русское ненавидел и презирал до бесконечности. Хаос, грязь, помойка мира – а при этом весь мир хотят переделать по собственному образцу… Будь я поляком, я бы очень просто доказал русским, что у них нет ни совести, ни исторической памяти…»
(«Будь я поляком»)
Однако Ерофеев предусмотрителен – ведь «будь» как бы не считается. Он все время выдает субъекта своего письма за «другого», провоцируя у многих подозрения в двуличности, если не в «двурушничестве», с целью скрыть собственную самоненависть, обусловленную разнообразными психологическими комплексами. Н. Елисеев прямо говорит об этом в «Викере»:
«Очень интересная проблема начинает занимать внимательного читателя (рассудительного читателя), едва лишь он (бульк!) окунается в мир Викера [Виктора Ерофеева – М. Г.]. Это животрепещущая (как недавно выуженная рыба на влажном песке) проблема самоненависти. Selbstha;, как говорят немцы. Шафаревич неправомерно ее сузил [автор имеет в виду скандально известную книгу И. Шафаревича «Русофобия» (в новом издании – «Трехтысячелетняя загадка») – М. Г.]: русофобия – не совсем то, что самоненависть. Если верно, что расизм – примитивная форма мизантропии, то утонченная форма мизантропии, разумеется, самоненависть…» [Елисеев: 48].
Елисеев анализирует исключительно «Энциклопедию русской души», попадая в ловушку, устроенную Ерофеевым «внимательному читателю», который полностью отождествляет субъекта письма с личностью автора; (если бы это было не так, Елисеев не сводил бы все к «барчуковому» детству писателя):
«Самоненависть выпотрошена у Викера. Пустая шкура. Это – не вампирьи клыки [на обложке «Энциклопедии…» помещено фото В. Е. «с клыками» - М. Г.], это… оскал клоуна, который разучивается смешить, и поэтому старается пугать. «Сесиль трахалась всем телом, усидчиво, бурно, остервенело, как будто чистила зубы, но было что-то механическое в подергивании ее французских сисек». С сожалением должен признать: это – автохарактеристика стиля и метода Викера. Его самоненависть – такая же… «всем-телом-усидчиво-бурная, остервенелая»… но что-то есть механическое в подрагивании его почти-французского стиля» [Елисеев: 49].
Любопытно, что универсальный ответ на критику «в стиле Елисеева» Ерофеев предусмотрительно дал еще в 1993-м в эссе «Место критики»:
«Мне хороший комментатор ближе Бахтина… [не можем не отметить совершенно «розановский» «вкус» данного высказывания (емкая сила, безаппеляционность, заносчивость, провокативность, точность…), хотя он едва ли выразим вербально – М. Г.]
… Давно пора отправить отечественную критику на ее место – в лакейскую. Советская власть, слава Богу, кончилась. Нужно заново наладить службу писательского барского быта. Пусть в лакейской критика судит о писательских причудах и умиляется им, сдувает пылинки с барских шуб, пьет шампанское из недопитых бокалов, кайфует от сплетен о барских грехах. Именно там она сослужит литературе добрую службу, и та подарит ей на праздник немного денег. И милостиво протянет руку для поцелуя».
Ерофеев, правда, лукавит: где как не в ответах на уничижительную критику может реализоваться его полемический задор? Однако ясно, что лукавит он – тоже «по прихоти». Это подозревают, но не осознают до конца сами «критики». Елисеев как бы с неудовольствием замечает:
«Тотальная ирония спасает Викера. В любой момент он может сказать: я всего только издеваюсь. Это – не моя речь, речь «другого», «чужого»; та речь, чьи комические нелепости я вижу не хуже вашего».
Елисеев под «другим» разумеет не субъекта письма в целом, а повествователя исключительно «комических нелепостей», коими изобилуют миниатюры, составляющие текст «Энциклопедии русской души»:
«В эпопее не так заметны «шероховатости стиля», как в… (скажем нежно) «крохотке». Более того» Шероховатости украшают эпопею, тогда как «крохотку»… мда… мда… «крохотку» шероховатости губят. «Крохотки» Викера особого рода. Викеру – страшно. Эмоциональная основа «Энциклопедии русской души» - такая же, как в фильме Германа «Хрусталев, машину!». Страх, вырвавшийся не из взрослой души художника, а из его детства…» [Елисеев: 50]
Вот к каким психоаналитическим обобщениям приходит Елисеев, забывая (не зная) о главном, стратегическом, «розановском» принципе ерофеевского письма, которое можно охарактеризовать как выбор, сделанный исключительно по прихоти настроения. (Так, в «Пяти реках жизни» или, например, в рижском интервью 1999 года «Россия – это сказка с оторванным концом» – тема та же, но «настроение» совершенно иное.)
Наконец, Елисеев упускает самое главное: Ерофеев не устает выставлять себя «таким-то и таким-то», дрянным, мерзким, порочным, противным самому себе, в конце концов, самоненавистником – не с целью «интимного самораскрытия», а с тем, чтобы вслед за Розановым «взорвать» печатное слово.
Но если Розанов в силу своей убежденности, что «во всем виноват Гутенберг», был всего лишь озабочен «подрывом доверия» к слову, то Ерофеева также занимает подрыв собственно слова.
Краеугольным камнем мировоззрения Ерофеева, а также проблематики «самоненависти», сочетающей «патриофилию» и «патриофобию», является придуманный им афоризм: «Русское слово – чудесно, а русское чудо – словесно». Одним из следствий этой мысли является высказывание: «Россия – это рай для писателей и ад для читателей». Ерофеева, как и Розанова («Ну, школишек кое-каких построили…»), волнует мысль о невозможности построить цивилизацию в России. В интервью Дарье Невской Ерофеев выразился следующим образом:
«Если на Западе реальность – это поле деятельности, и человек участвует в реальности своей активностью, то в России он участвует в реальности своим болезненным и гипертрофированным воображением. Вся Россия состоит из слов…
Банальные слова Киплинга «Запад есть Запад, а Восток есть Восток и вместе им не сойтись», Россия опровергла. Они сошлись, а склейка между ними оказалась словесной. В этом сила культуры России, когда каждое слово превращается в ворожбу или шаманство [и в величайшую клевету! – добавил бы Розанов, - М. Г.]. И на таком слове можно сделать большую литературу, но невозможно построить цивилизацию. Также цивилизацию невозможно сделать на расколотости сознания между Востоком и Западом. Когда русский человек говорит себе: «Надо построить дом», - он экзистенционируется как западный человек. Но потом у него включается другая часть сознания, и он говорит себе: «А зачем строить – все равно умрем». Это сочетание западной предпосылки и восточной рефлексии, этот раскол сознания и является частью России. Можно долго размышлять над тем, хорошо это или плохо. Так есть. Надо и работать с этим…»
«Работа с этим», в свою очередь, приводит неизбежно к тому, что мы назовем парадоксами самоненависти. Ерофеев любит Россию, она – его кислород как писателя:
«Я очень хорошо себя чувствую в России. И считаю, что русский язык, женщины и икра – наше национальное богатство, неразменная валюта…» (из интервью).
Но вместе с тем, Ерофеев – русский европеец, галломан, и он, как маркиз де Кюстин, «от всей души» изобличает русскую грязь (в широком смысле). Поскольку он русский, его русофобия не может быть в той или иной степени не быть направленной на самого себя. А как галломан и европеец он (с сожалением!) констатирует:
«В Европе происходит энтропия духовной жизни. И там мне всегда недостает «фантазмов» славянской души. Они там считают неприличным бросаться словами. А как же русскому человеку без слов-то…» (из интервью).
Возникает вопрос: не слишком ли много самоненависти возникает в результате стольких парадоксов и противоречий между верностью культуре (русской) и эстетской приверженности цивилизации (западной)?
Ерофеев изящно опровергает возникающее (у «внимательного читателя», как выразился Елиссев) подозрение в определенном садомазохизме:
«Я – не мазохист. Я люблю уютные кафе [речь в тексте идет о Венгрии – М. Г.]. Но как писатель я с ужасом понимаю, что ад жизни [то есть Россия – М. Г.] слаще пирожных» («Большая и малая порнография», из сборника «Шаровая молния»).
Когда же «ад жизни» непосредственно становится предметом письма, возникают такие произведения, как «Энциклопедия русской души».
Не согласившись с тем, что самоненависть – это «утонченная форма мизантропии» (Елисеев), определим ее как выбор письма, обусловленный сложной авторской саморефлексией и психоанализом национальной ментальности.
В «Энциклопедии русской души» этот выбор реализован концептуально, в полную силу, поэтому данное произведение требует отдельного интертекстуального рассмотрения.
«Энциклопедия русской души» Виктора Ерофеева как выбор «розановского» письма
«Энциклопедия русской души» Ерофеева – это, своего рода, его собственное «Уединенное» (как род письма, «жанр словесности»).
Сам характер произведения, формальный и содержательный, можно определить как «розановский». Розанов писал о себе, о России, о русской душе, о религии, о противоречии между культурой и цивилизацией – в период слома эпохи, разрушения традиционных ценностей и воцарения хаоса в умах и в государстве, наконец, в период «Апокалипсиса» революции. Розанов стал для русской культуры одновременно Ницше и Фрейдом. Письмо, изобретенное Розановым, по большому счету, не находило применения в последующей русской литературе.
Виктор Ерофеев показал на примере «Энциклопедии русской души», что выбор этого письма возможен вновь. По прошествии 80-100 лет проблематика «русской души», России, вообще, «всего русского», нуждается в определенных уточнениях сообразно современным реалиям, хотя сама суть этой проблематики не изменилась со времени Розанова. Россия по-прежнему находится, как принято выражаться, «в глубоком кризисе», духовном и государственном (Ерофеев писал свою «Энциклопедию» в 1998 г.), все так же туманны пути выхода из хаоса, не видно никаких перспектив. В общем, «ни спасения, ни колбасы»: православие по-прежнему воюет с «язычеством» (которое пополнилось рок-музыкой и mass-культом), «либералы» - с «консерваторами» и т.д.
Формально ерофеевская «Энциклопедия» весьма схожа с «Уединенным» и «Опавшими листьями» - емкие, точные миниатюры, наблюдения, созданные «по прихоти настроения», но объединенные общей проблематикой и имеющие внутреннюю логику развития, образующую в сказанном своеобразный эффект сюжета (отличного от другого, декоративного сюжета, названного нами «Поиски Серого»; о нем – далее в главе). Законченность и разрозненность миниатюр, являющихся структурными единицами – «статьями» «Энциклопедии», позволила Ерофееву в свое время публиковать их отдельно в «Общей Газете» как вполне самодостаточные тексты.
Если в тематическом плане произведение Ерофеева является совершенно «розановским», то различия касаются прежде всего субъекта письма и отображенных им реалий современности. У Розанова субъект письма – это эготист Розанов, у Ерофеева этот субъект размыт и/или раздроблен. Несомненно в целом, он – эготист Ерофеев, но во множестве миниатюр автор сознательно от него дистанцируется, предлагая читателю включиться в игру текста и, возможно, узнать в субъекте письма самого себя. Ерофеев стремится позиционироваться как «посторонний наблюдатель», эдакий маркиз де Кюстин, и это совершенно естественно, если учесть «европейскую» составляющую личности Ерофеева. Вместе с тем ее «русская» составляющая, хочет того автор или нет, способствует как раз «интимному самораскрытию».
Говоря о «постороннем наблюдателе» в отношении Ерофеева и о выборе письма, обусловленном социальной позицией, вспомним о том, что и Розанов в определенном смысле позиционировал себя как «постороннего», человека из «подполья», по крайней мере, таким он виделся наиболее проницательным современникам. Хорошо знавший Розанова и очень ценивший его творчество К. Чуковский писал:
«… Человек подошел к кучке народа [отметим эготическое противопоставление «человека» безликому «народу» - М. Г.]. Что здесь случилось? Убийство. Лежит убитая женщина, неподвижная в кровяном ручье, а подле нее убийца с ножом. – Тут нужно доктора – не спасет ли он убитую, тут нужно здоровых, смелых людей – связать убийцу, обезоружить, не убил бы еще кого? И вдруг является Розанов, суется в толпу, мешает всем и нашептывает:
- Погодите, я объясню вам психологию убийцы; погодите, вы ничего не понимаете, он заносит нож – по таким-то и таким мотивам, он убегает от нас по таким-то и таким-то причинам.
- Объяснения, может быть и хороши, но только зачем же мешать ими доктору. – Каждая минута дорога. Доктора отвлечешь от работы и т.д. В участке разберут.
Розанов – посторонний. Разные посторонние бывают. Иной посторонний из окна глядел – сверху, все происшествие видел. Такому «со стороны видней» и понятней. А другой посторонний подошел к вам: что здесь случилось, господа? Г. Розанов несомненно именно такой посторонний. Он подошел к революции, когда она уже разыгралась вовсю (до тех пор он не замечал ее). Подошел к ней: что здесь случилось? Ему стали объяснять. Но он «мечтатель», «визионер», «самодум», человек из подполья. Недаром у него были статьи «В своем углу». Вся сила Розанова в том [выделено – М. Г.], что он никого и ничего не умеет слушать, никого и ничего не умеет понять [вспомним розановское «есть только «мне интересно»…» - М. Г.]. Ему объясняли, он не слушал и выдумал свое. Это свое совпало с Марксом (отчеркнутые страницы) – он и не знал этого, и отсюда та странная (вечная у Розанова) смесь хлестаковской поверхностности с глубинами Достоевского – не будь у Розанова Хлестакова, не было бы и Достоевского…» [Чуковский: 31]
Резкость вышеприведенной оценки только подчеркивает силу воздействия розановского письма. Розанов, а вслед за ним Ерофеев – не «посторонние» со стороны, а «посторонние» изнутри, «из подполья». Их «посторонность» - это взгляд из глубины русской ментальности, из русского национального подсознания: русское «ницшеанство» и русский «фрейдизм».
Анализируя «Энциклопедию русской души», мы говорим о розановской тематике и о выборе письма. Текст состоит из миниатюр, вмещающих в себя что угодно – законченную мысль, афоризм, мимолетное наблюдение, вспышку памяти, вещь в себе, описание целого космоса или проникновение в «глубины Достоевского». Верность единственно лишь авторскому настроению (сколько об этом говорил Розанов!) меняет субъекта ерофеевского письма до неузнаваемости: европеец-западник, русский-славянофил, антисемит, евразиец, «азиопец» (выражение Н. Елисеева), глубоко верующий, издевательский атеист, писатель «Виктор Ерофеев», немолодой плэйбой, наконец - посторонний (что здесь случилось? «Ему объясняли, он не слушал и выдумал свое…»).
В «Энциклопедии» верность настроению иногда является самим сюжетом миниатюры:
«Призрак русской свиньи»
«Бывает, сидишь на балконе, пьешь чай, ведешь беседу с друзьями, спокойно, весело на душе, ничто не предвещает беды, как вдруг потемнеет в глазах, почернеет в природе, поднимутся враждебные вихри, послышится топот, в секунду все сметено, все в миг окровавится. Нет больше тебе ни чая, ни грез, ни друзей. За чаем выстраиваются километровые очереди, балкон обвалился, друзья обосрались от ужаса жизни. И думаешь посреди этого великолепия:
- Спасибо, Боже, за науку, спасибо за испытания».
В «Энциклопедии» существует условный сюжет, который можно определить как «Поиски Серого». «Серый» - это и есть главная тайна русской души и русского национального сознания и подсознания. Ее пытаются найти («вычислить») как заинтересованные лица из высших эшелонов государственной власти, так и американские шпионы, воплощающие образ Запада в целом. Представители российских силовых структур обращаются к писателю Виктору Ерофееву с просьбой (за деньги) помочь в поиске «Серого». И поясняют: реформы в стране не идут, нет объединяющей русской идеи, нашлись только разъединяющие, а все потому, что во всем русском (В России, в русских, везде) существует «передвижная черная дыра», воронка, куда исчезает энергия национального прогресса – как в воду канет. Виноват в этом «Серый», которого и предписано разыскать… Похмельный писатель с неохотой берется за это безнадежное, по его мнению, дело.
Главное в «Энциклопедии» - составляющие ее «статьи». Они возникают по ходу жизни, из наблюдений, заметок на полях, внезапных озарений, циничных («утренних») откровений и религиозных («ночных») видений. Их принципы – необязательность, спонтанность, мимолетность, субъективность, заносчивость. И еще совершенная посторонность человека «из подполья» и его совершенная безответственность.
И розановская «Листва», и ерофеевская «Энциклопедия» - это взгляд из эготического подполья на «все русское», которое парадоксальным образом можно (почти одновременно) любить и ненавидеть. Это взгляд сквозь призму самоненависти, саморефлексии, самопсихоанализа. Это размышления о возможности построения цивилизации в России или, скорее, о невозможности – ввиду противодействия культуры.
Мы попытаемся соблюсти определенную последовательность рассмотрения «Энциклопедии», придерживаясь линейного прочтения. (Хотя Н. Елисеев, например, остроумно предложил Ерофееву расположить миниатюры в алфавитном порядке – так, дескать, будет смешнее и логичнее.)
«Эготист» Ерофеев начинает с отчетливого осознания себя «врагом народа», но точнее – врагом местоимения «мы»:
«Враг народа»
«… Я – враг народа. Чувство не из приятных, нечем гордиться. В состав презрения входит, скорее, не высокомерие, а безнадежность…
«Народ» - одно из самых точных понятий русского языка. Оно подразумевает двойной перенос ответственности: с «я» на «мы» и с «мы» на – род: «мы-они», внешне-внутренний фактор, что означает вечные поиски не самопознания, а самооправдания…
Изначально я был смущен и щедро испытывал чувство вины. Перед тем же народом. Но спутавшие самоуправление с самоуправством, русские превратились в слипшийся ком, который катится, вертится, не в силах остановиться, вниз по наклонной плоскости, извергая проклятия, лозунги, гимны, частушки, охи и прочий национальный пафос…»
Как уж тут быть «другом народа»? – такова риторика ерофеевского повествователя-эготиста. Человеку из подполья удается уловить «zeitgeist» (нем. – «дух времени»), витающий над страной. Его наблюдения точны и беспощадны:
«Крутые девяностые»
«Мало кто в России жил в 90-е годы – почти все плакали. По разным поводам. Плакали от радости, получив свободу. Плакали обкраденные. Плакали обстрелянные. Почти все пугливо озирались, держась за карман, не включаясь в игру, шаря на обочине…
Деньги валялись на бульварах и площадях, залетали с ветром в подъезды, кружились на лестничных клетках… Обменный пункт стал посильнее, чем «Фауст» Гете. Он работал без выходных…»
Русский национальный спорт – вечный поиск козла отпущения за то, что все «не так», за то, что «хотели, как лучше – получилось, как всегда». Если «просто русскому» везде мерещатся евреи, В. В. Розанова неотступно преследует образ «клеветника Гоголя», то ерофеевский повествователь одержим призраком «русской свиньи»:
«Еще о русской свинье»
«Надо воспеть русскую свинью…»
«Стаханов»
«Стаханов – это такое животное. Вроде свиньи…»
«Водка»
«Водка – это такое животное. Вроде свиньи…»
«Царь»
«Царь – это такое животное. Вроде свиньи. Царь во всем виноват, но он наш…»
Такие миниатюры составляют не очень большую по объему, но весьма значимую часть «Энциклопедии» - это заметки на полях несуществующего романа о русской душе. Несмотря на краткость, мимолетность, явную поспешность записывания этих мгновенных впечатлений. Они вполне самодостаточны. Их риторика не требует комментариев:
«Где он?»
«Где искать Серого? Зачем искать? Если не найти теперь Серого, Россия потеряет свое лицо. Возможности России состоят в воображении русского человека».
«Суд»
«Русский суд страшнее Страшного Суда».
«История»
«Ни одного солнечного дня».
«Родина»
«Некоторые считают, что слово «родина» надо писать с большой буквы и носить на сердце, а другие – с прописной и носить в штанах. Вот, собственно, и вся разница между почвенниками и западниками…»
«Среда»
«Одних – среда заела, другие – среду заели. А вот и Серый».
«Революция»
«Серый взял в руки красный флаг и пошел куда глаза глядят».
«Евреи»
«Серый мутным взором посмотрел на еврея».
(Перекличка с розановским: «Посмотришь на русского острым глазком, посмотрит он на тебя острым глазком, и все понятно…»)
«Пидерасы»
«Серый встретился с пидерасом и перекрестил его».
(Совсем как Розанов – Вейнингера; см. Н. Елисеев «Отто Вейнингер и Василий Розанов: проблемы самоненависти».)
«Гордость»
«Когда мы все совсем разбазарили и опростоволосились, тогда мы с особой силой стали гордиться собой…»
«Худшие»
«В России методично перебили всех лучших. Перебили русскую аристократию, лучших попов и монахов, лучших предпринимателей, лучших меньшевиков, лучших большевиков, лучшую интеллигенцию, лучших военных, лучших крестьян. Остались худшие. Самые покорные, самые трусливые, самые никакие. И я – среди них. Тоже – из худших. Из отбросов. Мы засоряем землю. И понять, какими были эти лучшие, уже нельзя. Да и не надо. Все равно из худших не слепишь лучших…»
В «Худших» ерофеевский герой включает себя в ненавидимое «мы», однако едва ли он называет себя «самым худшим, гнусным, трусливым, никаким» с целью интимного самораскрытия, как не делал того и Розанов, живописуя в «Листве» собственную «гнусность». Вслед за Розановым, Ерофеев только изображает себя мерзким и гнусным – это самобичевание исходит из глубин подсознания русского человека, это его метафизическое изображение. Закономерный итог здесь – самоненависть:
«Надоело»
«Россия меня загрызла вконец. Боже, как надоела! Она срет по ногам. Она срет. Мы срем…»
(Ср. у Розанова: «… вот и я кончаю тем, что все русское начинаю ненавидеть… противно, противно».)
«Энциклопедии» Ерофеева можно предпослать длинный ряд эпиграфов, и все они будут «из Розанова». К примеру:
«Два ангела сидят у меня на плечах: ангел смеха и ангел слез. И их вечное пререкание – моя жизнь. (На Троицком мосту)».
Вообще, произвольное прочтение наиболее афористичных миниатюр «Энциклопедии русской души» созвучно аналогичному «из Розанова». В «Уединенном», «Опавших листьях» читаем:
«Никакой человек не достоин похвалы. Всякий человек достоин только жалости».
«Печать – это пулемет: из которого стреляет идиотический унтер. И скольких Дон Кихотов он перестреляет, пока они доберутся до него. Да и вовсе не доберутся никогда…(16 декаб. 1911 г.)».
«Литература вся празднословие… Почти вся… Исключений убийственно мало».
«Вечно мечтает, и всегда одна мысль: - как бы уклониться от работы (русские)»
«Сам я постоянно ругаю русских. Даже почти только и делаю, что ругаю их… Но почему я ненавижу всякого, кто тоже их ругает? И даже почти только и ненавижу тех, кто русских ненавидит и особенно презирает.
Между тем я, бесспорно, и презираю русских, до отвращения. Аномалия. (За нумизматикой)»
«У русских есть живучесть дождевого червя. Правда, - его перережут заступом – живут обе половины. Нечего есть – он подсохнет, все-таки не умер. Опять дождичек – и опять шевелиться
Картофелина попадется – и он жует. Переваривает и извергает из себя кусочки черной, сырой грязи.
Но, Боже что же это за жизнь?!..»
«Цинизм от страдания?… Думали ли вы когда-нибудь об этом? (1911 г.)»
Это розановское восклицание 1911 года рождено вовсе не отчаянием раздвоенной личности, как может показаться на первый взгляд. Это осознание глубины собственного парадоксализма. Это путь к пониманию истинной природы вещей. И у Розанова было полное право сказать также: «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали».
Восстание против лицемерия всех социальных институтов и всех деятелей социокультурного пространства объединяет субъектов письма Розанова и Ерофеева. Розанов говорил о синодальных импотентах, «кушающих кашку», о пошлости позитивистской и христианской («…эти хроменькие-то, эти убогонькие-то, с глазами гиен…»), о вреде русской литературы, возомнившей себя глашатаем «истины для народа».
Как потомок Ерофеев продолжает: размышляет об исчерпанности бесполой религии (христианства, православия), о безумии власти («наивность помыслов; садизм поступков»), наконец справляет «Поминки» по очередной русской «учительной» литературе (советской) и констатирует самоликвидацию интеллигенции как социокультурного действующего лица. Взгляд «из подполья» резок и беспощаден. Он и не может быть иным.
В розановских сочинениях совсем короткие миниатюры чередуются с довольно объемными отрывками, представляющими из себя целые эссе. Схожим образом построена и «Энциклопедия русской души» Ерофеева. В ней есть свои выверенные, краеугольные, развернутые статьи.
«Мишень»
«… Быть русским – значит быть мишенью. Жертвенность жертв – тоже функция в мире, где мы освобождены от других обязательств, которые, на худой конец, исполняем халтурно, поспешно, попутно. Бывают редкие периоды, когда русские забывают о своем страдательном залоге и начинают подражать прочим народам в их созидательном начале… Всякий раз это обрывается плачевно… Россия должна быть собой точно так же, как Экклезиаст – Экклезиастом, то есть одной составляющей библейских частей. Иное дело, что свой чистый опыт, христианский по внешним формам, Россия хотела передать другим странам, с другим предназначением, и потому долго и напрасно мучила их… Россия – это вид страны, которая производит людское несчастье… Пусть результат, с точки зрения Запада, выглядит негативно. Но в России есть положительная неспособность к так называемой нормальной жизни. На каждого царя есть свой Распутин. Россия продемонстрировала крайности человеческой натуры. Разрушила представление о золотой середине. Она показала тщетность человеческой свободы. Ее нельзя не уважать за верность самой себе.
Основным стилем писателей, писавших и пишущих о России, остается сочувственная слезливость. Ошибка и западников, и славянофилов в том, что они желают России счастья… [Вот идейный учитель Розанова К. Леонтьев, наоборот, предлагал Россию «подморозить», только его и слушать не стали: «А как же счастье?!» - М. Г.]
Всем подавай счастливую Россию с караваями, куличами и балыком…
Россия, бесспорно, опасная страна. Но здесь стоит согласиться с Ницше, призывающим «жить опасно»… Предатели и некоторые иностранцы искренне пытались представить Россию как страну зла и несчастья, но делали это только ради политического или туристического интереса и потому оставались недостаточно последовательными. Мы всякий раз шарахаемся от новых доказательств того, что здесь каждый – мишень…»
В своей книге Ерофеев занимается «мимолетным» психоанализом русской души. По его мнению, склонность русских к садизму и мазохизму закреплена эстетически в национальном подсознании:
«Живописность»
«Иван Грозный, убивающий сына, живописен. В России любят тех, кто замучил и убил многих русских. Русская власть в основном уничтожала собственное население, а не чужое или врагов, как в других странах. Отделить кровожадность от забавы и заботы о стране невозможно. Это и есть русская живописность. Несмотря на то, что Иван Грозный был садистом, многие его любят из принципа. Другие любят его садизм. Нет слов: Иван Грозный – русский ренессанс».
Нельзя не отметить великолепную безответственность ерофеевского повествователя. Его можно обвинить в искажении исторической правды, но не в противоречии истине. Ерофеев проводит своеобразную тестировку читателя: «Ну, разве в глубине души, положа руку на сердце, вы не согласны?». Он не ждет ответа. Это всего лишь риторика. Ответ индивидуален.
Русский «мечтатель» всегда что-то выдумывал. Вот сказки. Вот, шаг за шагом, он выдумал себе всю страну:
«Сказка»
«На сказку многие ловятся. Сказочная Русь стоит перед глазами. Зори неоприходованы».
По прихоти настроения субъект ерофеевского письма легко меняет «шило на мыло», «убеждения» на «перчатки», патриофобию на патриофилию:
«Не закрывайте мне небо»
«Мне нравится быть русским. Мне нравится пропускать все мимо ушей. Мне говорят, что так нельзя. А я говорю: не говорите мне «нельзя». Я этого не выношу. Не закрывайте мне небо».
Многим кажется, что автор «Энциклопедии» - аморальный, циничный подлец. Когда-то то же писали о Розанове («… «Розанов сволочь» - это нисколько не занимательно…» - из «Мимолетного. 1914»). Возможно, в какой-то мере (все зависит от точки зрения), Ерофеев и подлец, но не настолько, «чтобы думать о морали». Для непонимающих его парадоксов ему впору писать трактат о «понимании». Ерофеев ограничивается изящным и кратким монологом:
«И я, загадочный русский, знаю: меня нельзя разгадать. Я не поддаюсь анализу. Анализу поддаются разумные существа. Я сам не знаю, что выкину, руководствуясь неинтеллигибельными соображениями. Могу броситься в огонь и спасти ребенка. А могу пройти мимо. Пусть горит! Пусть все горит. Я, моральный дальтоник, не вижу различия между да и нет. Мне говорят, что я – циник. Но это уже звание. А я – без звания. Может быть, я бессовестный? А это – как повернется. Я люблю глумиться, изводить людей. Но я помогу, если что. Я хочу, чтобы уважали мое состояние. У меня, может быть, тоска на душе. Тоска – это заговор «всего» против меня».
Ерофеевский повествователь пребывает в том экстатическом, «розановском» состоянии, когда «весь ушел в мечту» и когда нет уже различий между моральным и аморальным, «черным» и «белым». Интертекстуальное сходство между субъектами розановского и ерофеевского письма усиливается также тем обстоятельством, что высказываемые ими парадоксальные суждения носят провокационный характер. Розанов, с одной стороны, с первых же страниц «Уединенного» предлагает читателю «не церемониться» друг с другом и даже посылает его «к черту!», замечая далее, что пишет «хоть бы и ни для кому», но с другой – например, в «Опавших листьях», явственно желает, чтобы «уважали его состояние»:
«Вот и поклонитесь все «Розанову» за то, что он, так сказать «расквасив» яйца разных курочек – гусиное, утиное, воробьиное – кадетское, черносотенное, революционное, - выпустил их «на одну сковородку», чтобы нельзя было больше разобрать «правого» и «левого», «черного» и «белого» - на том фоне, который по существу своему ложен и противен… «Удача» моя заключается в том, что я в самом деле не умею здесь различать «черного» и «белого», но не по глупости или наивности, я что там, «где ангелы реют», - в самом деле не видно, «что Гималаи, что Уральский хребет»…
Даль. Бесконечна даль. Я же и сказал, что «весь ушел в мечту». Пусть это – мечта, т.е. призрак, «нет». Мне все равно. Я – вижу партии, и не вижу их. Знаю, что – и ложны они и что – истинны…»
«Мир живет великими заворожениями. Мир вообще есть ворожба» - мелькнуло у Розанова. Ерофеев в «Энциклопедии» делает уточнение, меняя «мир» на «Россию». Но разве Розанов под «мир» мог иметь в виду «иное», нежели «Россия»? «Ворожба» - это всесилие Логоса. «Русское чудо – словесно» - замечает Ерофеев. Подтверждению этой мысли посвящена вся его книга.
«Очарованная Русь»
«Большинство умных русских в конце концов разочаровываются в русских. Но сначала думают о святых старцах, вологодских скромницах, нестеровской Руси. У русских есть воображение. Они умеют рассказывать. Русский мир состоит из слов. Он словесный. Убрать слова – ничего не будет».
«Грибница»
«Россию заговорили до дыр. Отечественная техника самоанализа оформилась в образы, от Обломова – через Платона Каратаева, Остапа Бендера, Василия Теркина – до ученого алкоголика из Петушков. Всякий раз культовые герои были односторонни. Обломов хорош – но Каратаев не хуже. Речь же идет не о типе, даже не об архетипе, а о гении места, грибнице, на которой растут и Обломовы, и Василии Теркины. Эта грибница и есть Серый».
Мысль о том, что Россия – «выдумана», красной нитью проходит сквозь ткань статей «Энциклопедии». «Выдуманность», «завороженность» этой выдуманностью мешает русским увидеть себя такими, какие они есть.
«Сон» - одна из форм «завороженности».
У Розанова:
«Они славные. Но все лежат (русские)»
«Когда человек спит, то он, конечно, не совершает греха. Но какой же от этого толк? Этот «путь бытия» утомителен у русских (на извощике)»
Розановская риторика близка Ерофееву. Действительно, говорит он, «толку» - никакого. А «путь бытия» следует именовать никчемностью:
«Лишние люди»
«Никак не получается увидеть себя такими, какие мы на самом деле. Что-то мешает. Не потому ли русские – не Монтени, то есть неспособны к самопознанию, что иначе – беда?
Предусмотрительно заблокированная система. Если ее взломать, то получится, что национальная идея русских – никчемность. Нет никакой другой идеи, которую русские проводили в жизнь более последовательно. Во всем непоследовательны, в никчемности стойки…
Никчемность – нулевая степень созидательности, неумение что бы то ни было довести до конца. Самолеты падают, автомобили глохнут…»
В свою очередь, Розанов, размышляя над русским «путем бытия» хватается было за соломинку изящной софистики:
«Цивилизация не на улицах, цивилизация в сердце. Т.е. ее корень».
Однако отчего же потом «ненависть» и отчаяние за «неметеные улицы», за «сон», за… никчемность? «Соломинка» не срабатывает. «Цивилизация в сердце» на деле оборачивается «молодцами и молодухами», сидящими в телеге:
«Одна лошадь, да еще старая и неумная, везет телегу: а дюжина молодцов и молодух сидят в телеге и орут песни.
И песни то похабные, то заунывные. Что «весело на Руси» и что «Русь пропадает». И что все русских «обижают». Когда замедляется, кричат на лошадь:
- Ну, вези, старуха. И старуха опять вытягивает шею, и напрягаются жилы в пахах…»
Если «цивилизация в сердце», отчего же тогда: «Страшная пустота жизни. О, как она ужасна…»?
И в сердце (душе) властвует никчемность, - говорит уже Ерофеев:
«Никчемность – пустоцветная духовность, близость к религиозному сознанию, но с противоположной стороны. Крайности склонны путать. Отсюда вечное недоразумение с богоносцем. Россия – негативная теология…»
Розанов много размышлял над «женской» природой России, ее «бабьей» сущностью. (В этой связи любопытно, что и признанного «анатома» русской души Достоевского он назвал именно «бабой», только еще «пьяной и нервной» да «вцепившейся в сволочь на Руси».) В свою очередь, Ерофеев делает тонкое психоаналитическое наблюдение:
«Русская эмиграция – перерождение, как смена пола. Не хочу быть пай-мальчиком! Хочу снова быть бабой! Все жалуются. Ностальгия душит до слез. Назад, в бабы. Но ужасно боятся своей родины…»
О русском труде Розанов как-то с горечью заметил: «Лишь бы уклониться от работы». Ерофеев раскрывает метафизическую сущность этого явления-состояния:
«Труд»
«Труд в России гасится с двух сторон. Со стороны позыва и – результата. Я хотел поправить каждый забор, выпрямить столбы, но понял: делаю не то. Сделанное не стоит, но потому и делается плохо, что оно все равно [здесь метафизический корень – М. Г.] упадет. С другой стороны, потому и не стоит, что делается плохо. В России не надо ничего самому делать. Все равно как-то само по себе сделается».
Ни Розанов, ни Ерофеев как «посторонние», «люди из подполья» не предлагают по этому поводу (как заставить работать русских) никаких рецептов. Они лишь констатируют факт. Но они отдают себе отчет, что невеселые и даже жестокие, но все же рецепты есть только у «консерваторов». Ерофеев говорит о них в «статье»
«Ленин»:
«Консерваторы полагают, что русские ни на кого не похожи, и только сильное государство способно обуздать их. Чем бесчеловечнее государство, тем лучше. На мой взгляд, консерваторы знают подноготную русской жизни. Русских надо держать в кулаке, в вечном страхе, давить, не давать расслабляться. Тогда они складываются в народ и кое-как выживают. Консерваторы всегда звали «подморозить Россию».
В последнем предложении Ерофеев имеет в виду высказывание К. Леонтьева, которого Розанов считал своим учителем и вдохновителем.
***
Розановское выражение «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали» - не просто блестящий афоризм. Это было сказано с горечью и не ради красного словца. Дело в том, что мораль у русских – ситуативна. Ерофеевская «Энциклопедия» это подтверждает:
«Мораль»
«Самое сложное в России разобраться с моралью. Все интеллектуальные силы страны ушли на оправдание добра, но без всякого толка. В принципе, русский – поклонник нравственности. Но только в принципе. На самом деле, русский – глубоко безнравственное существо. Он считает, что он сам добр и что вообще надо быть добрым. Мораль не имеет для русского основания. Она подвижна и приспосабливается к обстоятельствам… русский создает ситуативную мораль, под себя».
Как у истинно русских людей, да еще парадоксалистов, у Розанова и Ерофеева мораль также ситуативна. Ерофеев говорит, что он «моральный дальтоник», а Розанов позиционирует себя как постороннего, предвосхищая неотвратимо надвигающийся экзистенциализм:
«Я не враждебен нравственности, а просто «не приходит на ум». Или отлипается, когда (под чьим-нибудь требованием) ставлю темою. «Правила поведения» не имеют химического сродства с моей душою, и тут ничего нельзя сделать…»
Однако ситуативность морали – это вовсе не признак «зла» или духовной ущербности. Розанов был, безусловно, аморален, предлагая разрешить девочкам начинать половую жизнь и выходить замуж с 12 лет или молодоженам проводить брачную ночь в церкви. И никто, конечно, не осмелился признать публично, что Розанов прав. («Страшно вымолвить такое!») Прав, потому что это – естественно. В душе многие не могли с ним не согласиться. Но молчали. Кто же истинен: фарисеи («старцы, кушающие кашку», у которых давно «ничего не стоит»), блюдущие «мораль», или новый «Адам», через нее переступивший? Этот вопрос определил всю социокультурную проблематику ХХ века.
***
Розанов много писал о контрпродуктивной природе русского смеха. Он полагал, что после гениального Гоголя осмеянию подвержена в русском сознании вся жизнь. Нет никаких ценностей после высмеивания самих себя, нет крепкого государства после смеха над царем – ничего НЕТ. Поэтому Розанов считал гоголевский смех сатанинским явлением, подрывающим основы существования России. Пусть Гоголь не ведал, что творил – тем еще страшнее. Но не менее ужасным представляется тот факт, что под конец жизни Розанову приходится признать правоту Гоголя: «Прав этот бес Гоголь!» - восклицает Розанов, глядя, как рушится в прах страна, монархия, империя в дни «Апокалипсиса» - революции. В гоголевском смехе была несомненная «клевета» на Россию, но в этой «клевете» - глубокая правда, а от этой правды – отчаяние… И так до бесконечности, как в русской матрешке. Ерофеев исследует русский смех, обращая внимание на анекдот (вспомним у Розанова: «Гоголь обратил отечество свое в анекдот…»):
«Анекдот»
«Русский продаст душу за хороший анекдот…
Гоголь стоит на анекдоте и не развенчивает его…
Русский смех – поощрение нарушения. Все герои анекдота поступают не по правилам, но потому и смешно, отчего вызывают двойное чувство: отторжения и признания. Они высмеиваются; тем самым отчуждаются, но, по сути, на них ложится тень нашего понимания. Через анекдот происходит одомашнивание русского мира…
Анекдот – единственная форма русского самопознания. Род терапии. Больше того, род выживания. С другой стороны, это род отчаяния. Любимые герои анекдота – элита бестолковых людей. Не сообразили. Не предусмотрели – нарвались на реальность. Опростоволосились, опозорились. И смех, и грех. Мы коллективно бестолковы… Взялись за что-нибудь – не получилось. Вот – анекдот. И почему мы так легко смеемся над собой? Но это – не просто. Мы не любим, когда нам не прощают бестолковщины. Мы бестолковы в высоком смысле презрения к поверхности жизни…»
Тогда как именно «поверхность жизни» важна для нормального существования. «Презрение» к ней не мог простить русским Розанов, которому важна была каждая крупинка («Мелочи суть мои боги!») этой «поверхности». Ерофеев делает неутешительный вывод:
«Анекдочивание каждого акта жизнь есть форма ее проживания. Без анекдота русское существование было бы невозможно».
***
Русский Апокалипсис – Революция – вышел так легко из-за склонности всей нации к саморазрушению. Если бы не эта склонность, кулаком бы ударили – и устояла Россия. А так ткнули пальцем сами же – и рассыпалась. Розанов в «Апокалипсисе нашего времени» испытывает презрение к такой нации:
«И вот рушилось все, разом, царство и церковь. Попам лишь непонятно, что церковь разбилась еще ужаснее, чем царство…
Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три. Даже «Новое время» нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей».
Ерофеев считает склонность русских к саморазрушению «несомненной» среди «противоречивых истин», составляющих сущность мифического и неуловимого персонажа «Энциклопедии русской души» Серого:
«Склонность к самоуничтожению гораздо более значительна, чем другие волевые характеристики Серого… Было бы весьма кстати [поскольку опасно для окружающего мира – М. Г.] притушить эту энергию [саморазрушения], размагнитить ее настолько, чтобы она сравнительно мирно растеклась и ушла в песок… Но нельзя не заметить, что русский мир гипнотизирует. Вместо однозначной оценки Серый вызывает интерес… Серый не просто искренне выходит за грань добра и зла. Он разрывает круг моральной энтропии игрой со смертью. Серый укладывает жизнь как судьбу. Серый выкалывает жизни глазки».
«Выкалывает глазки» - в такой смерти нет ничего «возвышенного» и «трагичного», никакого пафоса. И это страшно. Это чувствовал и Розанов, когда писал в «Апокалипсисе»:
«Мы собственно самоубиваемся…
Можно же умереть так тоскливо, вонюче, скверно. – «Актер, ты бы хоть жест какой сделал. Ведь ты всегда был с готовностью на Гамлета». «Помнишь свои фразы? А то даже Леонид Андреев ничего не выплюнул. Полная проза».
Да, уж если что «скучное дело», то это – «падение Руси».
Задуло свечку. Да это и не Бог, а… шла пьяная баба, спотыкнулась и растянулась. Глупо. Мерзко. «Ты нам трагедий не играй, а подавай водевиль»…»
«У русского каждый день – апокалипсис…» (Ерофеев)
***
«Оправдание русского мира»
«Русский радикально неисторичен, и в этом – его самобытность. Он все время сбивается и, начав об одном, говорит о другом, не держит мысль. Видимо, он боится мысли. Не справившись с миром, он гадит в мире. Он антиэкологичен. Мир превращается в помойку и если бы не власть, русский бы уже давно утонул в отходах. Он – механический богоносец.
Закон приходит в противоречие с самыми кровными интересами русского, противоречит идее выживания: от нищенского «не помереть с голоду» до общемещанского «свести концы с концами». Нет сил, времени оглянуться вокруг. Отсюда – наплевательское отношение к планетарным и районным делам. Русский затравлен, замучен, задрочен. То скаля пасть, то виляя хвостом, он ждет для себя оправдания».
Также Ерофеев заметил: «В желании все оправдать заключена русская правда…» Именно поэтому сам он далек от самооправдания, а от, казалось бы (пример Розанова), неизбежных внутренних комплексов, с этим связанных, его спасает культурная открытость (мультикультурность), приятие и понимание не одного только «русского».
Ерофеев гораздо более «посторонний» нежели Розанов. Он не с таким мучением «препарирует» русскую душу и не так страдает, ввиду чего вызывает на себя огонь подозрений в фальши (неискренности) и обвинений в клевете на все «русское» ради эпатажа. Но на то Ерофеев и посторонний, чтобы спокойно относиться к подобного рода навязчивым идеям, почему-то доминирующим в среде коллег по цеху и особенно в литературной критике. Только тот человек, кто исключительно болеет за «все русское», глубоко переживает экзистенциальное неблагополучие «русской души», может, в состоянии, и даже должен написать:
«Мысль Пушкина, что в русских есть «равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – презрение ко всему, что не является необходимостью» (черновик письма к Чаадаеву), до сих пор звучит как в первый раз».
Книга Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» - это продолжение бесконечного чернового письма к собственному «Чаадаеву».
«Provocator» - «бросающий вызов»
Данная работа посвящена интертекстам провокационного письма в творчестве Виктора Ерофеева и Василия Розанова. Для того чтобы в полной мере раскрыть смысл заявленной темы, следует прояснить и обосновать употребление в данной работе слов: «провокационный», «провокация», «провокатор». В русском языке этим словам были в значительной мере искусственно приданы коннотации резко негативного свойства, искажающие заимствованную семантику. Не вдаваясь в особенности механики этих искажений, отметим, что мы отталкиваемся от изначального смыслового наполнения указанных слов. Итак, в соответствии с латинским словарем «provocator» – это гладиатор, «бросающий вызов». Также в данном контексте нам представляется уместным вспомнить латинское выражение «provocatio ad populum», означающее: «обращение к народу».
Собственно, все творчество интересующих нас авторов есть вызов – «литературной традиции», «общественному мнению», сложившимся устоям культуры, «морали», «нравственности». Вызов подразумевает ответную реакцию читателя; важно, что даже негативная реакция может способствовать конструктивному спору, хотя нетерпимости всегда больше по определению.
И Розанов, и Ерофеев много раз были обвинены в самых разнообразных грехах: от «порнографии» до «сатанизма» (ведь, если Розанов ругал христианство и даже упрекал Христа, то, что это, как не «восстание»?)
Здесь можно выделить две реализованные в письме магистральные «провокационные» темы – так называемый «половой вопрос» и «отношение к литературе» (или «отношения с литературой»).
***
Тема секса, вообще, одна из главных у Розанова. То же самое можно сказать в отношении Ерофеева. Розанов прямо заявлял, что пишет «семенем человеческим» и пропагандировал для своего времени совершенно возмутительные с точки зрения норм нравственности и даже законности вещи: разрешить девочкам вести половую жизнь с 12 лет, молодоженам совокупляться в церкви, чуть ли не алтаре, подчеркивая тем самым святость полового акта, проявлять большую заинтересованность со стороны общества в отношении полового воспитания юношей и девушек. Розанова немедленно обвинили в «порнографии». Надо сказать, обвинители явно перестарались, не в силах подобрать подходящее слово. «Порнография» есть «блудоописательность», тогда как то, что «описано» у Розанова, есть «блудопоклонничество» - «порнолатризм». Однако термин «порнолатризм» возник гораздо позже и был использован для характеристики творчества отдельных французских сюрреалистов, например, Жоржа Батая (см. подробнее: Зенкин С. Блудопоклонническая проза Жоржа Батая). Термин «порнолатризм» появился в тот момент, когда исследователи Батая столкнулись с необходимостью выразить сакральный характер «описания» «блуда». Задолго до Батая пропагандируемая святость, сакральность полового акта стала причиной для обвинения в «порнографии» русского писателя и философа Василия Розанова, который с готовностью и обстоятельностью это комментировал:
«Удивительно, упрекают меня в порнографии (и суд, и цензора), когда и капельки ее нет во мне и единственно оно сидит у цензоров, судей и литераторов. Конечно, я «это» все считаю священным: да как же иначе, если у меня есть дети?…
Так ведь не значит ли это: тут такой завет, такая строгость и тайна, что поджилки трясутся? Что? В чем? Без имен и вообще «анонимно», «в органах и функциях», т.е. в том, что мы так именуем и что нам открыто в таких обыкновенностях, как «орган» и «функция», но что на самом деле не исчерпывается этим. И вот отсюда-то и начинается моя тревога и говор; отсюда и моя «порнография»…»
(«Сахарна»)
Розанова интересовала подноготная сексуального сознания, и он исследовал то, что сейчас бы назвали сексуальными архетипами. Для печати в то время это было настоящей провокацией. Розанов говорил о том, что подвергалось ханжескому запрету, хотя было социально значимым. Особенно показательны его рассуждения о сущности женской и мужской проституции:
«В суть проституции тонким жалом входит: «побыть с тою, которая побыла с другим». Иначе это совершенно необъяснимо с мужской стороны: ибо разговоры, что «проституция объясняется из множества солдат и студентов», суть именно – разговоры. К «блуднице» пошел Иуда, сын Иакова, - а у него было много жен. Нет: суть проституции – побыть именно с тою, которая была, бывает в объятиях другого, других, многих.
Проституция есть половое разомкнутие ЧЕТЫ и прием меж двух – множества, мира…
Чета…
Четы… Множество чет…»
«…в «побыть с тою, которая была не со мной» (зерно всего) заключается сверх явного и дурного, что с первого раза видно, что-то скрытое, дорогое и нужное.
Всем. Планете (нужно).
Что?..
Обратив внимание «на другого, которого нет теперь с нею».
Память его… след его: явно – не отвергаемый (ибо никто к проститутке не идет «в беспамятстве»), а – памятуемый, удерживаемый в душе.
И – сосущий душу».
(«Мимолетное»)
И далее Розанов приводит поразившие его слова 24-летней еврейки о том, что для каждой женщины приятнее заниматься любовью с мужчиной тем более, чем более до нее женщин он имел в обладании:
«… Когда я ее спросил о мотиве, она ответила: «Потому что женщине доставляет гордость, что во всех предыдущих побеждает она». Но я думаю, секрет лежит тоже в «памятках», ибо ведь мало гордости в том, что и завтра меня победит другая.
«Памятки» [то есть архетипы! – М. Г.] реют около нас… Памятки других женщин – около женщины, памятки других мужчин – около мужчины. И пол, который в существе является двоицею (чета), закругляется в сферу, в шар, «космос», «универзус»…»
Эти мысли неодолимой силой влекут Розанова в язычество, и он прекрасно понимает, что своим сочинением провоцирует яростно негативную реакцию особенно христианских современников, даже тех, кого любит и уважает, даже тех, с кем дружит. Однако поскольку он «пишет семенем» (как не раз вызывающе заявлял), то ничего не может с собой поделать. Ведь, как сам объяснил:
«Половые органы в человеке сотворены ранее самого человека, и оттого в некоторых моментах и случаях он следует за ними, они же, увы, вообще никогда не следуют за ним. Скорее они им управляют, чем он ими…
[Человек] не должен особенно скорбеть и отчаиваться, когда вдруг туманы поползут по земле, ширятся, клубятся, низко-низко, и все окутывается во власти запахов ползущих «памяток», реющих над землею… Это господство трав, это «Иванова ночь» человечества… Тогда муж оставляет жену и жена мужа, и вместо закона верности – законом выступает неверность…
Но – без вероломства. Ползет душа за «памятками»…
«Вспоминают времена древние»…
Это – Иванова ночь, когда Мир – Шар, а не Мира – Два…»
Розанов поднимает «половой вопрос» так, как до того еще не было в русской литературе и с готовностью принимает на себя все мыслимые и немыслимые «печатные» стрелы - в этом основа стратегии письма во всех его сочинениях.
***
Виктор Ерофеев – также изысканный сексуальный провокатор своего времени. «Пол» и «половой вопрос» - его главные темы, раскрытые во множестве текстов, перечень которых затрагивает всю библиографию: от исследований русского фольклора («Морфология русского народного секса (заветные сказки)» в сборнике «В лабиринте проклятых вопросов») до развернутых этносексологических эссе в книгах «Мужчины», «Пять рек жизни», «Бог Х», «Энциклопедия русской души», «Шаровая молния». Романы и рассказы в этом смысле тоже не исключение.
Обвинение в «порнографии» является самым распространенным в адрес Ерофеева. Проблема собственно «порнографичности» его текстов подробно рассмотрена в моей бакалаврской работе («Феноменальность письма и стиля Виктора Ерофеева») в главе «Стилистическая роль элементов порнографии и общем контексте порнолатризма прозы Виктора Ерофеева».
Сами же обвинения в «порнографии» только подхлестывают (как и в случае с Розановым) в Ерофееве азарт спорщика и ироничного провокатора. Он любовно выносит на обложку одного из изданий своего романа «Русская красавица» выдержку из рецензии в газете «Литературная Россия» (его идейные враги):
«Я никогда не встречал такой омерзительной смеси похабщины, антисемитизма и богохульства одновременно…»
Кстати, не можем не отметить поразительное сходство этих обвинений с теми, что в начале ХХ века неслись в адрес Розанова; надо лишь в этом конкретном случае заменить «похабщину» на «порнографию».
Особый провокаторский задор вызывают у Ерофеева отзывы коллег по цеху, писателей. Он не упускает ни одного удобного случая для того, чтобы с иронией высказаться «по этому вопросу». Так, в книге «Мужчины», в эссе, прямо не связанном с темой цеховой травли, автор замечает: «Писатель К. никогда не писал обо мне, что я сатанист и порнограф, как это не раз случалось с его товарищами по доброй литературе, но, по-моему, в душе он был заодно с ними».
В одном из интервью Ерофеев с удовлетворением скандального дуэлянта констатирует:
«Я самый ругаемый писатель. Это не претензия, это факт. Критика расстреливает меня, хоронит, потом зачем-то снова выкапывает и снова расстреливает. Когда я появился на поверхности литературы, меня невзлюбили коммунисты и либералы [то есть столь ненавидимые в свое время Розановым люди «программ» и «убеждений» - М. Г.], консерваторы и религиозно настроенные слои, бомонд меня тоже не любит. Они все мне руки не подают при встрече. В глянцевые журналы я попадаю чаще, чем в толстые. За всю мою литературную деятельность появилась всего одна положительная рецензия на мою книгу. Ее написал литературовед, живущий в Париже…»
Провокационная стратегия письма предполагает участие авторов в полемике, обусловленной вызовом, брошенным всей «литературной братии» и всем читателям. И Розанов, и Ерофеев знают, что делают, потому что весь мир – одни только «слова» и «выдумка». Как истинные эготисты они понимают: есть только «мне интересно» и «мне нравится». А это уже – вызов по определению, так как на читателя – наплевать (чего никогда не было в русской литературе).
Розанов расплевывается с читателем на первых же страницах «Уединенного»:
«Ну, читатель, не церемонюсь я с тобой, - можешь и ты не церемониться со мной:
- К черту…
- К черту!
И au revoir до встречи на том свете. С читателем гораздо скучнее, чем одному. Он разинет рот и ждет, что ты ему положишь? В таком случае он имеет вид осла перед тем, как ему зареветь. Зрелище не из прекрасных… Ну его к Богу… Пишу для каких-то «неведомых друзей» и хоть «ни для кому»…»
Розанов мечтал о таком памятнике, который показывал бы читателю кукиш. Розанов откровенно провоцировал на конфликт с целью разрыва доверительных отношений между читателем и писателем:
« - Развлеки меня, говорит читатель с брюхом, беря «Опавшие листья».
- Зачем я буду развлекать тебя. Я лучше дам тебе по морде. Это тебя лучше всего развлечет.
(Розанов и читатели)»
(«Сахарна»)
Розанов стремится показать, что «литература» - это всего лишь «буковки»:
«Не понимаю, почему меня так ненавидят в литературе. Сам себе я кажусь «очень милым человеком». Люблю чай. Люблю положить заплаточку на папиросу…»
Розанов ненавистна учительность и социальная направленность литературы, и ненавистен соответствующий читатель:
«Мне не нужно «знакомых читателей»…
Не нужно единомышленных, «с такими же взглядами». У меня с каждой зорькой «новые взгляды».
НЕ ХА-ЧУ. ПРА-ТИ-ВНО…»
(«Мимолетное»)
В конечном итоге Розанов приходит к осознанию того, что в нем «происходит разложение литературы, самого существа ее». Обозначенный Розановым «конец литературы» оказался, однако, концом определенной литературы, той, которую мы знаем как русскую классику, а не литературы вообще. Каждая эпоха знаменует собой низложение некоторой литературы – так, к примеру, Виктор Ерофеев справил «Поминки по советской литературе» (сб. «Шаровая молния») и вслед за Розановым подтвердил, что «русский классический роман уже никогда не будет истиной в последней инстанции» («Русские цветы зла»).
Выработанный Розановым принцип «разложения литературы» с помощью стратегии провокационного письма был впоследствии применен, в частности, Виктором Ерофеевым для разложения дискурса литературоведения. Кульминацией провокационного поведения Ерофеева в этом дискурсе является произведение, которым завершается двухтомный корпус литературоведческих работ «В лабиринте проклятых вопросов» - «Ученые мира об Андрее Белом, или Во мне происходит разложение литературоведения (драматическое эссе в стихах)». Ерофеев демонстрирует пустоту и распад самого существа «научного подхода»:
«Ученые мира. …Игра смены повествовательных масок, столь характерная для «Петербурга», выносит к порогу сознания читателя факт сделанности литературного произведения и статус автора в нем, а постоянная конфронтация плоскости повествователя с плоскостью героев (и с плоскостью читателя) заставляет читателя – буквально гоняемого по системе этих уровней, иногда в рамках одного абзаца – предельно ощутить швы конструкции.
А. Белый. Кормят нас превосходно, почти до отвала, кухня – прекрасная.
Ученые мира. Чтобы привести «я» повествователя в коммуникативный модус, необходимо ему найти такую «маску»…
А. Белый. Очень понравился мне роман «Время, вперед!» В. Катаева; ему, конечно, далеко до «Энергии»…
Ученые мира. Сохранение прагматики сюжета отличает «Петербург» и «Улисс» от собственно орнаментальной прозы, приносящей в жертву мотивной структуре отработанные классической прозой статусы и связи, что наблюдается у Пильняка и Дос Пассоса… Архитектоника «Петербурга» и «Улисса», удерживая все то, что связано с романной цепью событий, предлагает противоположно направленное течение внешнесобытийного и словесно-образного каналов. Взаимодействие бесконечности в мотивике с конечностью сюжета при противоположной направленности их каналов порождает особую семантическую осложненность текста…
А. Белый. А вот с Мандельштамами – трудно.
Мандельштамы. Мы живем, под собою не чуя страны…
А. Белый. Ой-ой-ой!
Мандельштамы. Наши речи за десять шагов не слышны…
А. Белый. ARRKTE! ARRKTE! Только не это!.. (неумело крестится.)
Мандельштамы. А где хватит на полразговорца…
А. Белый. Чайки виснут над Эльбой, как лампы!
Ученые мира. Гениально! Да-да. Хорошо.
А. Белый. Кто плати подоходной нолох у финспек-торов и исчисльш тык теримодим селхознологе 35% по 20 рублей ны едокы с обложимои сумы все члины артелий и писытили робятиющ на процытах и получимый Гонорар за даною книгу согласно справочник…
Мандельштамы. (жуликовато). … Кремлевского…
А. Белый. Какие ужасные стихи! (Падает. С ним случается солнечный удар, от которого он умирает на следующий год.)
Ученые мира (подхватывают). Кремлевского горца»…(Анализируют.) Анахронизм. Стихотворение было написано позже.
Старец Зосима. А это вообще никого не ****.
Занавес»
Смысл провокации состоит в принципе выведения автором самого себя и читателя ЗА рамки каких бы то ни было существующих в данное время общекультурных дискурсивных условностей и традиций письма. Розанов и Ерофеев сполна реализовали этот принцип в своих маргинальных по форме (внежанровость) и содержанию (парадоксальность) произведениях.
Их вызов был если не принят, то, по крайней мере, воспринят и осмыслен как «provocatio ad populum», результатом чего стала абсолютная редукция дистанции между субъектом письма (автором) и его адресатом (читателем), который вовлекается в игру печатного слова, предлагаемую (провоцируемую) автором и, таким образом, становится интерактивным соучастником творческого действия, соавтором письма. Литература «развлеки меня» и «научи меня» прекращает свое существование.
Демиургическая литературная вертикаль Вечного (у Ерофеева – «проклятые вопросы») уступает место бесконечно расширяющемуся горизонту ускользающих, но все же «живущих» в письме Мгновений бытия:
«Смысл – не в Вечном; смысл в Мгновениях. Мгновения-то и вечны, а Вечное – только «обстановка» для них. Квартира для жильца. Мгновение – жилец, мгновения – «Я». Солнце…»
(Василий Розанов)
Ad Marginem
Интертекстуальный анализ свидетельствует о существовании особой – «розановской» - линии в произведениях Виктора Ерофеева, одного из наиболее парадоксальных авторов современной русской литературы. Избранная Ерофеевым и проявляющаяся в самых разных жанрах стратегия письма основана на «провокации» как вызове сложившимся, «привычным» для большинства литературным нормам и установкам, стереотипам общественного сознания, представлениям о «морали».
Вслед за Василием Розановым Ерофеев сознательно выбирает маргинальную позицию «эготиста», «человека из подполья», который принципиально игнорирует так называемое «мнение читателя», руководствуясь только: «мне интересно» и «мне хочется». Как парадоксалист и «провокатор» Ерофеев рассчитывает не на «доверие читателя», а на полемику с ним, на своеобразную «дуэль», которая неизвестно чем может закончиться в каждом конкретном случае. Автору одинаково интересна и брань, и понимание (ради этого он пишет).
Розанова и Ерофеева сближают магистральные темы: анализ русского национального сознания и психоанализ национального подсознания («русской души»), «половой вопрос» как табу русской культуры, а также Слово-Логос как «чудо», как индивидуальная выдумка Мира.
Субъект ерофеевского письма продолжает успешно осуществлять начатую Розановым миссию по «подрыву доверия» к литературе и самой сути печатного слова. Цель этой миссии – вывести читателя за рамки смоделированного и воспитанного «реализмом» адресата, «отравленного» идеями-фикциями русской классической литературы.
Однако если Розанов подвергает русскую литературу жестокой критике, оперируя понятиями «вреда» и «пользы», то Ерофеев делает это с целью актуальной деконструкции всей проблематики «реализма» (деконструкция как процесс, а не точка; незаконченность, «заметки на полях», поиск «следов», приближающих нас к истине, но не сама «истина»).
В качестве постскриптума я бы хотел – в полном соответствии с царящим на страницах этой работы духом интертекстуальности - привести слова самого Виктора Ерофеева, сказанные об написанном мной исследовании и о Розанове (в редакции 2012 г.):
«Я, конечно, его любил и отчасти продолжаю любить. Но даже в Вашем труде - я имею в виду цитаты - в нем есть что-то недоваренное, отдающее пошлостью сантимента - это есть и в Набокове. Прокладки, подтяжки, портянки - что-то из этого ряда. Вот мне и хотелось быть посторонним от всего этого внутреннего всхлипа. В стилистической беспощадности я вижу литературное освобождение от ненулевой степени письма…»
Пока будет вызов – будет и реакция на него, а значит, «провокация» – это кислород литературы.
Автор воздевает руки к небу.
Воскресенье. 16 июня 2013 года.
Рига. Звонят колокола кирхи Святого Павла.
Свидетельство о публикации №216080101365