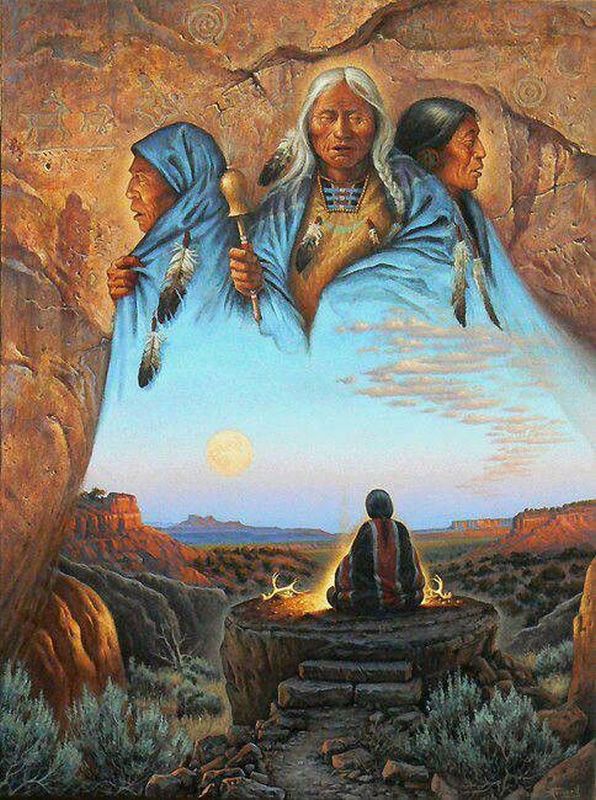Стая
Прибор ночного видения он надевал лишь в абсолютно темных проулках. Даже среди алкашей на сквериках могли попасться бывшие военные, а лишних вопросов ему не хотелось. Пьяного мордобоя – тоже. «Я – следопыт, я – охотник, который не убивает...» – думал он. У него был пневматический пистолет и пара обойм к нему, но чаще эта железяка только мешалась, оттягивая карман куртки. Чтобы оправдать ее покупку, Охотник частенько после работы тренировался в стрельбе в каком-нибудь овраге или заброшенном долгострое, изредка распугивая пригревшихся там бомжей или пацанов с липкими пакетами в руках. Он расстреливал обойму, покупал новую и продолжал таскать пистолет с собою, посмеиваясь над чисто мужской любовью к подобным игрушкам. «Я не убиваю, но какой же я Охотник без пукалки!» – ерничал он сам над собой.
Собачьи стаи устраивались на ночлег, наконец-то дождавшись всех: и попрошаек от ближайшего рынка, и беременных сук, до этого млевших в теплых подъездах учреждений с попущения сердобольных вахтерш, и тех, кто ловил ускользающее тепло на станциях метро.
Охотник отмечал место лежки, старался вычислить вожака и тщательно пересчитать собак. Каждый раз невеселая усмешка скользила по его губам: десять, восемь, шестнадцать, девять особей. Ему еще ни разу не попалась стая из семи или одиннадцати собак! Пару раз он было решил, что ему повезло, но после пары дней наблюдения в стае или рождались щенки, или являлся откуда-то еще один пес, которого принимали «на стареньких». Где уж носило его, лохматую морду, на мокром хвосте не прочтешь.
Охотник вовсе не был биологом, и замеченные закономерности поведения собак сводил в основном к аналогиям с человеческими. Псы вели себя точно так же, с его точки зрения, как когда-то группы пестро одетых беженцев, оседавших надолго в наполовину закрытых на бесконечный ремонт зданиях вокзалов огромного города. Собаки были в меру вороваты, в меру небрезгливы, в то же время не ленились поймать глупую крысу или обнаглевшую кошку, оказавшуюся на их территории. Откровенно несъедобную дрянь или тухлятину псы обходили стороной, но при этом очень редко нагло хватали хороший товар с низких прилавков открытых рынков. Другое дело – что-то упавшее на пол или забытый на минуту возле Газели недоразгруженный ящик.
Они не любили пьяных мужчин и домашних псов, стремясь немедленно выказать им свою агрессию. К женщинам же относились словно с насмешкой: порой позволяли какой-нибудь тетке оказаться точнехонько в центре лежащей в траве стаи, после чего разом поднимали бестолковый, визгливый лай. Тетка металась по кочкам и лужам, задрав повыше сумки, с оханьем выскакивала за условную границу лежбища и, хватаясь за сердце, шла в обход. А псы, даже не вставшие с места, провожали ее ленивым погавкиванием. Наверное, вот из таких случаев и рождались городские ужастики про разодранных и сожранных одичавшими собаками людей.
Впрочем, он ни разу не наблюдал окраинных стай, где на границе с лесопарками за последние годы вполне могли появиться помеси с волками, по уверениям одного знакомого – по-настоящему хищные. И еще он не знал, как псы выживают зимой, в морозы, в строящихся районах, где еще нет сытых помоек, магазинов, столовок в учреждениях и детских садов, а только торная дорога от остановки автобуса к одинаковым коробкам жилых корпусов.
Охотник надеялся, что и не узнает этого, потому что до зимы уже завершит начатое, найдет стаю, сделает свое дело и покинет этот город как можно скорее.
Один раз, заняв наблюдательный пункт на крыше большой распределительной будки, он видел, как на собак приехали поохотиться два юнца с ружьями. Они часто промахивались, собаки визжали и прятались по кустам, и к тому моменту, когда парням почудилась милицейская сирена, было убито не больше пяти псов. Он ждал, стараясь не волноваться. Машина уехала, наступила тишина. Ветер дул на него, мощный сырой ветер, пахнущий осенней рекой и мокрой псиной. Стая начала собираться – намного правее и дальше прежнего места. Пришлось достать бинокль. Пять, шесть, семь... несколько минут он взволнованно рассматривал осиротевшую семерку. Вожака, как ни странно, убили одним из первых. Вроде бы, вожак-то должен быть самым хитрым? Или просто самым сильным? Семь, семь псов кружили по поляне, раздвигая носами пожухлую траву, поскуливая, поджимая хвосты... Охотник вынул кожаный мешочек и мазнул пальцем по его содержимому. Для полной уверенности он решил подождать еще сутки. Той ночью он плакал, и поутру на ресницах засохла соль. Вот только что ему снилось – успех или полная неудача – он не запомнил.
Но через сутки напуганная стая прибилась к псам, живущим чуть дальше, у моста, образовав с ними коалицию в пятнадцать хвостов. Хоть самому за ружье хватайся! Но он знал, что это бесполезно. Купить семь собак или отстрелять стаю до одиннадцати – это не поможет. Стая должна быть настоящей, сложившейся волей случая.
Впрочем, его устроили бы не только собаки. Олени, гиены, кошки, львы, волки, обезьяны – кто угодно. Да вот беда – другие звери либо не образовывали таких крупных стай, либо были домашними, либо жили в слишком отдаленных местах планеты. Или их попросту было невозможно выследить и пересчитать, как крыс или сусликов.
Старуха, у которой он снимал комнату, почему-то боялась его. Возможно, она полагала своим угасающим умишком, что добрые люди не могут работать по ночам. Что самое обидное, он ведь действительно работал. Водил полночи, перед рассветом, новенькую компактную поливальную машину, старательно сметая струей накопившийся за сутки вдоль тротуаров мусор. А заодно – вспугивая пригревшиеся на газонах собачьи стаи. Четыре, девять, шесть, двенадцать, три.... У него был небольшой планшет, в котором, прямо не отпуская руля, можно было отметить новую стаю или изменение численности старой.
Он работал. Ему платили зарплату, настолько неплохую, что очень редко приходилось доставать заначку и нести доллары в обменник. Он покупал старухе торт с получки и фрукты с аванса. А она жалела его, бормоча себе под нос: «Да с кем же ты, горемышный, связался, вроде парень неплохой!» – и по-прежнему боялась. Стоило ему резко повернуться или поднять руку в ее присутствии, как бабуська сжималась и старалась улизнуть в свою комнату. Но с особенным ужасом она всматривалась в него, когда он по утрам отпирал входную дверь, уставший, но заранее, еще в лифте, приготовившийся вежливо сказать ей:
– Утро доброе, Ульяна Ильинишна!
Непременно выйдя ему навстречу в строгом темно-синем платье с белым кружевным воротничком, баба Уля некоторое время жевала губами, глядя на постояльца, вернее куда-то в сумрак лестничной площадки за его плечом. И только не обнаружив там, сзади, ничего и никого, переводила на него темно-карие, до сих пор не нуждавшиеся ни в очках для дали, ни в очках для близи, глаза и ответствовала степенно:
– Доброе, доброе! Проходи, чайник горячий.
Она никогда не ходила по дому в драных байковых халатах, непричесанная или в разбитых, похожих на серые лепешки тапках. И Охотник почему-то был ей за это очень благодарен.
***
Он жил в родном городе тайно. Порой это смешило его до колик, он начинал глупо хихикать, рассматривая документы, одолженные ему старым приятелем. Паспорт, штамп о браке, штамп о прописке, четверо детей, военный билет, трудовая книжка, диплом института. Приятель Пашка лет восемь назад плавно, но крепко влез в какую-то новомодную славяно-экологическую лабуду. Религия это была, секта или просто дурь очумевших от вседозволенности людей, которым некуда стало приложить свой авантюризм – Охотника это не слишком интересовало. Вернее, в первые годы после отъезда он еще пытался искать информацию про подобные секты в Интернете, особенно когда узнал, что Пашка и Колян подались в эти самые «Подсолнухи». Но разобраться в мутной, эмоциональной и совершенно нелогичной лабуде, которую лидер их движения гнал в своих книжонках тоннами, Охотнику не удалось, друзья на его письма почти не отвечали, и интерес заглох сам собой – вместе с общением.
Но когда он решил вернуться, мышление идущего по следу подсказало ему, что живущие в своей обособленной общине приятели могут оказаться весьма полезны. У самого Охотника в Москве не оставалось ничего: ни жилья, ни документов, только просроченные водительские права. Ему и до подсолнуховской общины-то от Шереметьево было добираться стремно: любой милиционер мог привязаться. Ничего противозаконного в его пребывании тут не было, но Охотник наслушался историй про то, как после бесед в дежурной части исчезают из сумок деньги и дорогие фотоаппараты... Рисковать не хотелось.
Попутками он добрался до соседней области и еще километров десять топал по хорошей лесной дороге, прежде чем уперся в бревенчатый тын, словно выстроенный для съемок исторического кино. Впрочем, часовые, больше похожие на сонных вахтеров, выслушали его беззлобно и равнодушно, впустили внутрь поселения и указали дом, где жил Пашка.
Внутри дома Охотника тоже поразило какая-то нарочитая посконность. Почти ничего покупного, пластмассового. Тряпичные половики, холщовые занавески расшитые не очень-то ровными цветочками. Огромная печь с полатями – оттуда призывно свешивался угол толстого матраца или перины. Вдоль стен необычные лавки – больше метра шириной. Множество шкур и подушечек на этих лавках. В центре горницы – огромный сосновый стол, в углу – пустая люлька.
Детей у Пашки оказалось четверо – и пятый на подходе. Охотника сразу удивило, что вся малышня в поселке выглядела ухоженой, здоровой и чистой, хотя и гойдала весь день на улице. Войдя в дом, дети без напоминания ополаскивали руки в сенях, снимали плетеные лапоточки и надевали меховые тапочки. С гостем сами не заговаривали, только здоровались. Но возникшая было мысль об их туповатости разбилась вдребезги, когда мальчишка, лет девяти на вид, независимо взял с книжной полки задачник по алгебре для десятого класса и двинулся с ним куда-то в глубину дома.
– Учите их сами? – невольно спросил Пашку Охотник.
– Школа у нас хорошая, – улыбнулся приятель слегка насмешливо. – Тут ведь мало кто без высшего образования, в наших подсолнухах-то. Поэтому учителя тут университетского уровня. У меня трое старших по пять языков учат, школьную програму обгоняют. И не болеют абсолютно. Но, – Павел поднял руки, – агитировать не стану. Я думаю, Иринка твоя ни за что не согласится, да? Приросла там уже?
– Да, типа... – неопределенно отозвался Охотник. – А Колян как? Тоже тут?
– Колька сейчас уехал новое поселение строить. Наши выкупили еще один участок, неподалеку, у реки. Новичков там пока мало – всего пять семей, поэтому наши им помогают.
– А его жена, дети? – Охотник покрутил головой, будто ожидая увидеть семейство Николая где-то тут, на лавках.
– Все вместе помогают, – слегка поучительным тоном сказал Павел. – Так принято. Дети хоть щепки таскать будут – а все равно при деле. Понимаешь? Нашим мелким это наследовать. И развивать. Это не кособокая дача-кляча на шести сотках. Это дом, родовое гнездо. Во всяком случае, я надеюсь, что у нас получится... – Павел вздохнул. – Пока никто из старших не уехал, но у нас самым большим из детей в поселении только по девятнадцать. Три девочки. Учатся заочно... А ведь есть еще армия – тоже проблема. Не для мясорубки мы в наших парней мозги вкладываем. Пока вот «подсолнухами» можем прикрыться, типа религия у нас...
– А вот щички лесные.... – дверь в кухню распахнулась и пашкина жена Лиза внесла глиняный горшок примерно ведерного объема. За ней младшая дочь тащила ложки и нарезанный толстыми ломтями серый хлеб в плетенке. Охотник, не собиравшийся тут задерживаться надолго, вдохнул аромат домашней, какой-то непостижимо будоражащей аппетит, еды и, молча сглотнув, подставил миску. Пашка поспешно перенял у жены горшок и что-то вполголоса ей выговорил – наверное, просил не тягать этакую тяжесть. Живот Лизаветы мог сравниться по размеру с горшком.
– Вот еще! – фыркнула та.
Охотник помнил ее тощей, странно дерганой девчонкой с вечными истеричными претензиями на общее внимание. Она никогда ничем не была довольна, словно из нее при рождении выкачали всю радость. Часто по совершенно пустячным поводам Лиза рыдала на балконах и подоконниках лестничных клеток в каких-то очередных гостях, Паша вечно утешал ее, а она словно бы порывалась его прогнать, но сама жалась к колючему свитеру... Охотника от подобных отношений слегка мутило.
Нынешняя Лиза походила на ту, былую, только лицом. Не набрав почти ни килограмма после четверых детей, она тем не менее стала плавной, мягкой, в ней расплавились внутренние углы и колючки, и улыбка кошачьего, добродушного довольства не покидала ее румяное лицо. Вот и сейчас она присела на корточки, шепнула что-то дочке, поднялась, тяжело опершись об стол, и обе с хихиканьем скрылись на кухне.
– А Надя Колькина как? – невольно спросил Охотник. Он не хотел, не собирался этого спрашивать! И знать не желал! Черт! Наверное, эти лесные щи, в которых вместо знакомых капусты или щавеля плавало что-то зеленое, кислое, пахучее, терпкое, вперемешку с белым нежным мясом и изрядной плюхой желтой сметаны, подействовали на него так расслабляюще.
– Развелись они, – Пашка помрачнел. – В первый год тут, когда нас деревенские поджигали пару раз, Надя сама не своя от ужаса сделалась. Куда деваться – в Москве взрывают, тут поджигают? Она буквально рехнулась. То спала с Антошкой в землянке, то бросала его и уезжала к какой-то троюродной бабке под Рязань. Появлялась тут раз в три месяца. А когда забеременела во второй раз, совсем с катушек съехала. В больницу попала, в клинику неврозов. Перед родами ее выписали, так она рванула куда-то в Подмосковье, нарочно без документов, родила там девочку и оставила. Все данные о себе написала ложные – мол, бродяга, мужа нет...
– Недолечили, – мрачно констатировал Охотник, выскребая миску. Вот еще одна метаморфоза: Надюшка когда-то была душой компании, веселой и задорной, как общая младшая сестренка. Обожала крохотного Антошку и мечтала о многодетной семье. А в Коляна была влюблена нежно и празднично, будто каждый день в их жизни – впервые.
– Факт, – кивнул Пашка. – Только там одна медсестричка сообразительная попалась. Надя попросилась позвонить, а та номер из памяти телефона списала. Там у них два аппарата спаренных было – крутой с памятью и простой, советский. Надя с советского звонила: сначала мамаше своей, чтобы та забрала ее на станции в полусотне километров от того городка, типа следы заметала. Потом Кольке – чтобы немедля готовил документы на развод, ну и гадости там всякие...
– Ну а потом? – Охотник отодвинул миску, сдерживаясь, чтобы не шарахнуть ее об пол.
– Та медсестричка-то сообразила, кому надо позвонить. Мамаша у Надьки нашу комунну ненавидела страшной ненавистью. Когда дочечка объявилась и понесла ересь про то, что «упал, очнулся, гипс», в смысле, на нее напали, избили, ребенок погиб, она еле жива, сидит на станции, у тещиньки реакция была такая: «И слава Богу, и незачем от уродов рожать!» Поэтому девчонка и позвонила Коляну. Мы схватили наш аварийный джип, набились туда всемером, и врача прихватили, и юриста. Неслись так, что Надька еще даже из роддома отчалить не успела. Там вызвали милицию. А у нее отказ от ребенка по всем правилам и куча вранья впридачу. Короче, Анютку Коле сразу отдали, без писка, а за Антона еще пободаться пришлось, хотя он у нас тут жил. А Надя до сих пор по больницам кочует: теперь у нее бзик, что родная мамаша хочет ей тайком операцию сделать. Жуть, сам понимаешь. Жалко ее, как ни крути.
– Так Колька теперь отец-одиночка? – Охотника неприятно поразила эта история. Он полагал, что люди могут просто расстаться, когда проходит что-то важное, что держало их вместе. Могут расстаться с болью, если один не готов отпустить. Но разорвать отношения в такой липкой паутине вранья, безумия и ненависти? Наверное, Коляну долго пришлось потом приходить в себя!
– Нет, ему повезло. Девчонка одна из новеньких помогала за Анюткой ухаживать, ну как-то оно само собой у них и сложилось. Кате на тот момент всего девятнадцать было, Колька боялся к ней даже прикасаться, да и наших стремался. А она сама к нему приходит и заявляет: мол, Анечке уже годик, если мы сейчас ей сестренку не соорудим, может избалованным ребенком вырасти. Она на детского психолога училась, Катя эта, прикинь! – и Пашка захохотал, видимо вспоминая очумелое лицо Коляна, прибежавшего к приятелю с новостью.
– Ну и как, успели они дочку спасти от избалованности? – Охотник тоже добродушно посмеивался. Черт, все оказывалось совершенно не так, как писала пресса. Никаких фанатиков, никакой тоталитарной секты. Просто люди, свободно живущие как им нравится. И насчет Иринки Пашка ошибается. Ей бы тут очень понравилось. Только нельзя, нельзя с Пашкетом об этом говорить.
– Успе-ели. У нас с ним теперь соревнование – кто кого. Вернее, у хозяек наших. Пока счет пять-четыре, ведет Катюха. Но мы ей сюрпризец приготовили, – Пашка подмигнул. – Не проболтайся Кольке, если увидишься! А то не совсем честно: они с двумя готовыми на старт вышли, а мы с нуля стараемся.
– Никак, двойню втихоря заготовили? – подмигнул Пашке Охотник.
– Бери выше – тройню! – гордо отозвался тот. – Наверняка община нам помощницу даст, – Пашка почесал в затылке. – Ну, принято так у нас. Лизе же еще с остальными мелкими управляться, и с хозяйством, и учиться, и работать... Так бы и правильно, пускай кто-нибудь из старших девчонок поможет. Но Лизка жутко ревновать будет – она после Колиной женитьбы даже слышать ни про какую няню не хочет. Ну ты прикинь – чтобы я от такой вот жены к какой-нибудь мокроноске переметнулся, которой лет пять назад сопли утирал?..
Внезапно Охотнику стало безразлично все, о чем продолжал рассусоливать Пашка. Словно переполнилась некая душевная чаша, и не осталось места ни для удивления, ни для воспоминаний, ни для сочувствия или легкой дружеской подначки.
Это была хорошая жизнь. Добротная. Светлая и простая. И очень чужая, как жизнь алеутов или африканских пигмеев. Еще парочку часов в этом чадолюбивом поселении – и он повесится!
Ему нужны документы! Пашка, прерванный на середине фразы, смутился, как бывало («Ну ты знаешь, трепло я безудержное... конечно-конечно, мне они тут ни к чему... да даже если потеряешь – восстановлю со временем...»), вынул из ящика комода толстый пакет («Тут на квартиру, там у меня один снимает... не нужно? Ладно...»), отделил от пачки необходимые и вручил Охотнику. Они всегда были похожи с Пашкетом как родные братья: высокие, с темными непослушными кудрями и серыми глазами в вечном прищуре. Двадцать пять им минуло давненько, сгладив все непохожести повзрослевших лиц и давнишних черно-белых фоток в документах. А высыпавшая за последний год на голове Охотника обильная седина не пробивалась сквозь хорошую импортную краску...
Получив документы, Охотник хотел было убраться из поселения поскорее, но Пашка устроил ему длинные проводы: с осмотром хозяйства, с кормлением лошадей в конюшне солеными корочками хлеба, с бултыханием шестом в пруду, где «подсолнухи» собирались разводить карпов. Это нужно было выдержать, вынести с улыбкой, как бы в уплату за то, что бумаги получены, и Охотник теперь может жить, не скрываясь, снимать жилье, устраиваться на работу, заводить счет в банке и делать кучу тому подобных обыкновенных вещей, составляющих жизнь законопослушного гражданина.
И именно укрывшись за этой личиной обыкновенности и неприметности Охотник, превратившийся в Павла Андреевича Терентьева, мог спокойно начинать свой поиск. Квест, как он любил думать иногда, суеверно касаясь мешочка, подвешенного на шею.
В конце концов Пашка утомился и отправился раздувать самовар «на дорожку», а к гостю приставил своего среднего, Мишку, выловленного возле каких-то сетчатых ящиков. Слушать детские восторги Мишки Охотнику было полегче. Он даже опустился на корточки и с удовольствием поразглядывал тяжелых, откормленых кролей в клетках.
– А тут вот к кормушкам дикие прибегают, – добавил Мишка под конец экскурсии. – Ну, у нас бывало убегали в лес кроли, вот и вывелась помесь из тех, кто выжил с зайцами. В руки они не даются, а поесть приходят, не дураки. В этом году их семеро уже...
«Семеро, семеро...» – зазвенело в ставшей вдруг пустой голове Охотника. Придется здесь заночевать. Усталость и раздражение как рукой сняло. Семь полудиких кролико-зайцев! Да хоть мыше-хомяков! Нужно только как-нибудь незаметно пробраться сюда ближе к полуночи...
– А что они больше всего любят, эти хитрюги? – спросил он у Мишки, как раз наваливавшего в кормушки смесь ботвы и капустных листьев.
– Морковку любят ужасно! – поделился парнишка. – Но мы им ее редко даем, а то привадятся еще огороды раскапывать...
Морковка нашлась в сенях Пашкиного дома, в помятом ведре без ручки, где она торчала из песка бледными проростками. Скоренько затерявшись среди хозяйственных построек, Охотник почистил ее своим ножом, накромсал кружками, потом рассек каждый кружок на четвертинки. Чтобы наверняка. Порошка понадобилось совсем немного. Было ясно, что оранжевые кусочки в кормушке привлекут внимание Мишки или кого-нибудь еще. Поэтому Охотник аккуратно разложил их под лопухами в нескольких ладонях от деревянной решетки. «Если не почуют, то я совсем ничего в зверье не понимаю» , – подумал он азартно. – «А если почуют, то мы с ними еще увидимся!»
После ужина, обрадованный неожиданным гостеванием приятеля Пашка завел долгую беседу – ни о чем и обо всем на свете. Все-таки не виделись они лет десять, если не двенадцать. Охотник старался больше спрашивать, чем отвечать, и в какой-то момент Пашка хитро прищурился:
– А ты, Олежка, за какой надобностью на Родину-то воротился? Меня расспрашиваешь, документы вот взял...
– У меня тут, Паш, два дела, – изложил заранее заготовленную легенду Охотник. – Во-первых, по работе кой-какого материала набрать, а во-вторых, мне нужно срочно дедов дом продать.
– Без доверенности, по чужим документам? – поднял брови Пашкет.
– Да там все уже уговорено, нотариусу покупателя хоть что покажи, лишь бы настоящее. Сделаем доверенность от меня на тебя, а потом ты продашь дом от моего имени. Сами-то бумаги на избу и на землю у меня.
– Ну, смотри, – с сомнением покачал головой Пашка. – Сейчас с землей могут так кинуть...
– Меня не кинут, – усмехнулся Охотник. – Они же там все еще деда помнят. А тот обманщику петуха красного пустил бы как нечего делать.
– Много ли за избу дают? – Пашка спрашивал, то ли сравнивая цены тут и в уральской глубинке, то ли проверяя рассказец приятеля на достоверность.
– За избу – хорошо если три тысячи деревянных. Лет-то ей мало не сто, и нежилая стоит лет пятнадцать. Покупают землю, а у нас там полтора гектара с лесом и прудом. Целое поместье. Дорого продаю, потому что когда эти ребята к тетке моей шустранули дуриком, я мигом разузнал, что возле Рудничного теперь нормальную железку кладут и шоссе будут тянуть на Пермь. Одним словом, была глубинка, а станет ширинка. Завод там будут строить – то ли японцы, то ли немцы. Сам понимаешь – все взлетит в цене, и строиться будут много. А теть Маня бы им так за три тысячи рублей и продала бы, хорошо, что документы все у меня лежали. Такая вот эпопея предстоит.
– Муторное дело, – покивал Пашка. – Ну а по работе-то что? Шпионим на новую Родину помаленьку? Ты же вроде филологом был когда-то?
– Переучился слегка на этнографа. Вот, в частности, культы всякие типа ваших приехал изучать. Только, я смотрю, вы этим Берендеевым с его книжонками просто прикрываетесь, а? Никому не молитесь, никаких обрядов не справляете, у детишек волосы тройным крестом не вывязаны – что там еще полагается?
– Мы-то да, – Пашка слегка помрачнел. – Когда вся эта лабуда с культами началась, кто-то под выборы нашего Берендея сильно продвигал. В депутаты его не метили, но кому-то еще дорожку мостили. Экология и патриотизм в одном флаконе. Под это дело «Подсолнухам» и деньги выделяли, и стройматериалы чуть ли не даром, и земли такие, что хоть санаторий для президента строй. Ну, а мы с мужиками тогда подрабатывали, как обычно...
«Обычно» научные сотрудники из теряющих последние фонды и гранты НИИ в те годы подрабатывали банальной шабашкой. За лето успевали бригадой срубить достаточно, чтобы перекантоваться зиму. Бездетным и на машину хватало отложить за пару лет. Охотник тоже мотался с этой бригадой два или три лета, пока не уехал. И потом не раз с благодарностью вспоминал навыки шабашника-универсала, умеющего и фундамент заложить, и кирпич класть, и штукатурить, а порой и печи выкладывать.
– ...Ну вот, – продолжал тем временем Пашкет. – Нас они наняли амбары строить всякие. Мы два месяца там покрутились и поняли – такой халявы потом днем с огнем не сыщешь. Но народ к Берендею собирался на всю голову ушибленный. Вот они-то и молились, и детей заплетали, и баб босиком по росе гоняли, и книги сжигали, полный караул! Но если бы не такое соседство – участочки у них по тридцать, по сорок соток, это тебе не фазенды! А если где угол был или овраг, так вообще нарезали как угодно, мол, все равно мы перед Солнцем священным все равны, а Берендей наш равнее всех. Заборов не ставили. Что мое – то твое. Я так сильно подозреваю, что у них там и дети, и жены общие были. Вот те, первые «подсолнухи» – они все точно квартиры-машины попродавали, чуть ли не в рубище на поселение пришли. Поэтому денег было завались, где-то они их крутили, свое с них имели, и все по закону вроде бы. Знай себе строй еще городища, пока сверху кто-то прикрывает. А тут как раз беда – у Берендея настоящие-то психи закончились, а ему расширяться охота, и землю сулят вот эту, как нарочно – подальше от первого поселения.
– Тут вы и подсуетились? – хохотнул Охотник. История приобретала вид студенческих успешных авантюр. – Как же вам удалось в доверие им втереться? Тоже в рубище пришли?
– Ну, мы почти полгода людей подбирали, – Пашка воздел палец к деревянному потолку. – Это было такое тайное общество, что ого-го! У некоторых жены не знали. Выведали все юридические тонкости – кому будет земля принадлежать да на сколько лет и прочее. У кого квартиры-дачи были – быстренько их на родственников переоформили, будто нету у них ничего. А машины для виду попродавали. Проштудировали книжонки Берендея нашего, устроили сами себе экзамен по этому бреду, нарядились попроще, вроде как на картошку – и двинули в «подсолнухи» записываться.
– Ага, как в мультике: «Кто тут в цари крайний?» – фыркнул Охотник. – и вас не раскусили?
– Мы готовились, как команда КВН перед финалом! – хлопнул ладонью по столу Пашкет. Лиза высунулась из внутренней горницы, тоже хохоча, и подсказала мужу:
– Ты расскажи, как мы босиком-то шли! До сих пор вспоминаю – со смеху падаю!
– А, ну да. Женщинам, то бишь бабью, полагалось к светлому Берендею являться босиком. Время – конец апреля, снег местами еще не сошел. Ну вот, от станции шли мы все в сапогах, как белые люди. А потом, метров за сто до поселения, девчонки ноги портянками обмотали, сверху пакеты натянули – и пошли потихонечку. А у них перед воротами кусты росли пышные – бузина, вроде. Ну вот, мы входим – и кланяемся, входим – и кланяемся. А девушки наши кланяются – и портянки под куст кидают подальше, и ноги в лужу у порога – шлеп-шлеп, чтобы грязи по колено. Ничего, ни одна не простыла.
– А сапоги у нас в машине остались, в чьей-то Ниве! – снова высунулась Лиза. – Пока мы Берендею кланялись, там печка работала, двое ребят сапоги наши непрерывно грели. Мы потом до них добежали – и скорее ногами в тепло! Мало у кого хватило терпения мешок натянуть на грязь или ноги сполоснуть, до того все отутовели!
– Как я понимаю, Берендей вас принял? – Охотник сам чуть не хохотал. Нет, молодцы мужики все-таки!
– Принял как родных, велел еще народ приводить. Юриста нашего, Леонид Степаныча, главного заговорщика можно сказать, назначил жрецом в новом поселении. Пришлось, конечно, храм построить, на всякий случай.
– Ну и долго вы будете под сектантов косить? – поинтересовался Охотник.
– Да еще пару лет, не больше, – пояснил Пашка. – Берендеев покровитель с небосклона укатился, стали «подсолнухов » прижимать, то тоталитарной сектой объявят, то просто психами. А у них ни земля в собственность не оформлена, ни юридического лица нет. У Берендея с присными есть – вроде они какой-то там народной медицины академия. А у поселенцев – шиш да кумыш. Думаю, стоит только кому-нибудь на них стукнуть пару раз – хоть Департаменту образования, хоть санэпидемщикам – прикроют лавочку в два счета.
– А вы?
– А мы давным давно юридически от них отмежевались, только этого не афишируем. Мы – экологическое поселение «Подсолнух», со всеми правами на застройку и использование земель. При желании у нас даже прописываться можно – мы не дачный кооператив.
– Я в этом не очень... – покрутил пальцами в воздухе Охотник. – Но рад за вас. Как я понимаю, вы не все время в лесу сидите?
– Тут по лесной дороге до Москвы всего час. Зимой хуже. А как асфальт проложим, будет полчаса, если без пробок. Квартиры почти у всех остались, кто их сдает, у кого родители, сам понимаешь. В театр, в музеи катаемся, дети постоянно в разных олимпиадах участвуют. Работаем – кто через Интернет, кто живьем ездит. Летом тут лагерь организуем – на наши двести мест каждый раз тысяча претендентов. Лепота, скажи?
– Круто, круто устроились, – Охотник слегка скосил глаза на часы. Полночь приближалась. – Прямо завидно. А я-то ехал сюда, думал – у вас тут вроде монастыря, потому тебя и выбрал. Ну зачем, думаю, ему паспорт?
– Паспорт мне и в самом деле редко нужен, – хмыкнул Пашка. – Но ты его после всего лучше верни. А то мотаться потом, новый выправлять. И еще – в Берендеевское поселение не суйся ни с моими документами, ни со своими. Они сейчас как пчелы злобятся. Чуят, что хвост им прижимают потихоньку, могут и вилами встретить, если решат, что ты очередной корреспондент. Недавно «Комсомолка» дело раскрутила – помогла от них сбежать трем девчонкам восемнадцатилетним. У каждой – грудное дите, а одна во второй раз беременная. Писать еле–еле умеют. Фамилии свои не знают, говорят, им не положено. Где жили до поселения не помнят. Пока их в больницу поместили, потому что больше некуда. Для детдома уже большие, в тюрьму не за что, прописки-документов у них нету. Пытались у них узнать, от кого дети – говорят, Солнце светлое одарило. А почему они уйти захотели – жалко стало, что у них детей отберут на общее воспитание. Так они ж сами сущие дети: куклу отбирают, караул! Вот такие там пироги.
– Если те девчонки из первого набора, то им тогда лет пять-шесть было, неужели ничего не помнят? – удивился Охотник.
– Не знаю, я Олежка, мы все-таки года на три позже пришли и с психами мало знались, уж старались как могли подальше от них держаться. Но ходили слухи, что чаек у них на обрядах забористый применяли. Вот тебе и священное Солнце.
– Гадость какая! – Охотник невольно отодвинул недопитую чашку чаю. – Ну почему нельзя вот как вы – жить, работать, растить детей на свежем воздухе? Зачем обязательно все это: рабская покорность, все бабы босиком, волосы крестиками, общий амбар с ключом у главного в кармане, и вот непременно чтобы девок портить, да молоденьких?
– Власть, – пояснил ему в спину Пашка. – Она похуже наркоты. А у нас-то тут какая власть – мы просто живем, это ты точно понял. Да ты куда вдруг? – осекся он.
– Пойду, пройдусь, – подмигнул Охотник. – Твой ватерклозет занимать не буду, небось Лиза по минутам бегает?
– Бегает, точно. Ну ты там не заблудись! – Павел добавил кипятка в заварочный чайник.
Кролико-зайцы морковку унюхали отлично и теперь сидели вокруг лопухов неровным кружком, пережевывая сочные ломтики. Появление Охотника их ни капли не смутило. Пока не кончится действие порошка, они так и будут сидеть, час, два, три. Действительно, семеро. Скорее, семейка, чем стая. Мама-папа и пятеро крольчат. Но это все равно должно было сработать. Если, конечно, у него не тяжелый затяжной психоз, при котором ему давно пора оказаться в хорошем госпитале... с видом на океан, с бугенвилиями, оплетающими забор и пластмассово шуршащей пальмой под окном...
Охотник отер неожиданно выступивший на лбу и шее пот. Зверьки не обращали на него никакого внимания, будто его тут и не было. Он быстро вынул из того же мешочка костяное шило и уколол мизинец. Почему-то в последний момент ему показалось, что мизинец не так больно колоть. Но в палец словно вонзили раскаленный гвоздь. Стиснув зубы, Охотник протянул руку с набухающей каплей к первой ушастой голове. Капнул. Вторая. Третья.... Кролики продолжали жевать. Теперь нужно вспоминать, кажется так? Сидеть и вспоминать, пока дух его племени не услышит...
***
Все получилось слишком резко, слишком неожиданно. Они с Иришкой познакомились на курсах «Молодость планеты» и через полгода вместе попали в тихий колледж в американском городке Галена. Назвать обрушившееся на них чувство любовью было невозможно. Они не любили – они просто оба начали жить заново, встретив друг друга. Мир обрел краски, звуки, запахи, предвкушение праздника. А тут еще эта поездка...
За границей до этого они оба не бывали, поэтому карабкающиеся по холму улочки маленького города в северо-западном углу штата Иллинойс, представлялись им то невиданным Парижем, то пресловутой Ниццей.
Они очень старались вести себя «по-американски»: пили на завтрак апельсиновый сок и ели разноцветные хлопья с химическим вкусом, сидя за столиком на непривычно широком балконе их съемной квартиры. Идея переселиться сюда вдвоем из общежития принадлежала Олегу, и Иришка согласилась так естественно, без всякого ритуального ломанья, будто они уже были женаты несколько лет. Потом они бегали – руки бодро согнуты в локтях! – вдоль сонной речушки в парке имени президента Гранта. Оба в белых-пребелых кроссовках и белых-пребелых носках, слабо сочетавшихся с российскими серыми джинсовыми шортами Олега и ярко-красными спортивными трусами Иры. И непременные футболки с гордой эмблемой колледжа – как будто они учатся в Массачусетском Технологическом или в Стенфорде на худой конец! Боже, это было так забавно, так всерьез, что невозможно рассказывать теперь о тех двух годах ни старым российским, ни новым штатовским друзьям!
Они купили машину – красный мерседес, который годился им в папаши, но при этом на удивление исправно бегал по равнинам Иллинойса и даже один раз довез их до Флориды с ее умопомрачительно голубым и теплым океаном и крокодилами в сточных канавах вдоль хайвея. Правда, там им пришлось потратить почти все деньги на реанимацию старичка. Два дня обратного пути они питались дикими апельсинами, которых нарвали перед возвращением прямо возле автомастерской, и остатками чипсов. С тех пор они резко перестали пить апельсиновый сок, заменив его на кофе...
А потом все как-то внезапно закончилось. Их специальная виза повелевала им скоренько отправляться на Родину, в колледже им устроили прощальную party с кучей подарков, мерседес удалось пристроить какому-то камбоджийскому первокурснику почти за те же деньги, за которые они его купили. Книжечки билетов аэрофлота на стойке кухни и собранные чемоданы в опустевшей квартире. Лишь толстый американский матрас и стопка одноразовых тарелок и стаканчиков на полу – чтобы просто выкинуть это все перед тем, как сдать хозяевам ключи от квартирки.
Если бы он не был тогда так подавлен, так убит и растерзан, он бы сумел обратить внимание на Иркино абсолютное спокойствие. Она не металась по кампусу в поисках знакомых, с которыми еще не обменялись адресами, она не теребила выпускников, уезжавших в Калифорнию и Нью-Джерси «непременно, сразу же разузнать, что там с вакансиями». Более того, Иринка уже понемногу перетекала в старую, московскую реальность. Ее больше волновали вопросы покупки зимних вещей, перевода бумажки от колледжа, которую она именовала «наш полудипломчик» и поиска работы. Свадьба тоже стояла у нее на повестке дня – не как продолжение совместного проживания, а как нечто обязательно-традиционное, что им обоим предстоит волей-неволей организовать для родственников и знакомых, чтобы иметь право точно так же снять крохотную квартирку на окраине Москвы и остаться в ней вдвоем.
А он страдал. Его рвало на части, его колотило от ужаса! Он не хотел уезжать, и это было настолько иррационально, что пугало его самого. Ему не были важны высокие зарплаты – тем более, что близкое знакомство с системой налогов и ценами на жилье в Штатах сильно поубавило ему иллюзий. Его ничем не привлекала хваленая местная демократия. Он не понимал, от каких ужасов продолжали бежать и бежать сюда его сверстники-россияне. Даже научные перспективы, самое важное и реальное в жизни, не имело для него в те дни значения.
Он терял нечто столь неописуемо естественное, что было невозможно передать словами. Вот эти самые белые кроссовки, остающиеся белыми по полгода без малейшего касания тряпки. Эти улыбки на улицах и в магазинчиках, которые почему-то со времен советского журнала «Крокодил» принято считать фальшивыми. Этих детей, играющих до темноты на безопасных чистых улицах. Эти красные ладошки, нарисованные на окнах частных домов: Helping Hand, соседская взаимопомощь. Этих полицейских, сто раз обсмеянных с их пончиками, но к которым действительно приятно было обращаться с вопросом и не страшно быть остановленным на дороге. Он терял скамейки в парке, на спинках которых были привинчены таблички: «Дар городу от семьи таких-то в память о нашем дорогом дедушке...» Эти столики для пикников в любом парке и общественные барбекюшницы, которые он использовал может быть всего пару раз за два года, но которые умиляли его с первого дня тем, что никто никогда не пытался их выворотить из земли, украсть или хотя бы изуродовать до неузнаваемости. Эти абсолютно одинаковые городские парады, где скауты и оркестры разных школ, пенсионеры на старинных автомобильчиках, украшенные платформы от нескольких фирм и местные пожарные в полном составе проходят неспешно по главным улицам города, разбрасывая дешевые леденцы, а все местные жители сидят на тротуаре в складных креслах и машут крошечными флагами. Эти небрежно брошенные мальчишками велосипеды на газоне у дома, откуда их никто никогда не украдет, эти самодельные аляповатые гномики возле клумб, эти наивные и нелепые фигурки светящихся оленей на зеленой траве, едва-едва прикрытой легким рождественским снежком...
Все это не имело названия, рассыпалось на смешные мелочи и жалило его так сильно, что он умудрился прозевать Иришкину радостную готовность к отъезду. В последний вечер они забрались на самую верхнюю улицу Галены по крутым лестницам и долго смотрели на темные поля вокруг города. Потом Ира заявила, что очень замерзла и не собирается в самолете пятнадцать часов шмыгать носом. Она ушла, а он остался. На завтра у них оставалось всего три дела: выбросить матрас и одноразовые тарелки, сдать ключи и кинуть по монетке в речку возле памятника Гранту. И эта малость казалась ему тончайшей, ненадежнейшей паутинкой, которая оборвется – и судьба унесет его навсегда, навеки, как сорванный сухой лист. Город медленно засыпал. Гасли окна жилых домов, умолкала музыка в ресторанчиках на узких, спускающихся с горы, улочках, напоминавших им то Париж, то вдруг почему-то Таллинн. И тогда он заплакал, стиснув кулаки и ощущая пахнущий речной водой ветер на своих мокрых щеках. Он плакал и шептал отчаянно:
– Я вернусь, я все равно вернусь, я как угодно, но вернусь!
А потом Москва приняла его, туго налезла, как старая куртка на даче, которую не надевал много лет и вдруг откопал, собираясь за грибами. Первые три или четыре дня его все ужасало: старые дома и новостройки, обилие киосков и переделанные в платные зубные клиники знакомые магазины, цены, рынки и мода, машины и курящие возле школ какие-то серо-желтые подростки, а особенно – ужасно тесные, неудобно спланированные, дико-пестрые квартиры, похожие на кибитки кочевников: обклеенные разноцветными обоями и увешанные коврами не в тон к обоям, с пышными гардинами на окнах, с бахромой и оборками повсюду.
На пятое утро он проснулся, открыл окно на улицу, где сердито гудя, пыталась разъехаться свеженькая утренняя пробка, вдохнул пахнущий тополями и бензином воздух – и все встало на место. Комнаты обрели привычный масштаб. Теснота куда-то исчезла. Ковры перестали замечаться. На обоях проступил знакомый узор, который часами рассматриваешь в детстве во время болезни. Его корни оказались здесь, откуда их вырвало два года назад, и боль потери куда-то исчезла. Там – было хорошо. Тут – было его место во Вселенной. Он научился – вернее, заново вспомнил – как лавировать между прущими на красный машинами, нашел работу, снял квартиру и женился на Иришке. Он даже организовал вполне приличную свадьбу, вернее, свадьбу организовывала Иришкина мать, но денег занимать не пришлось, чем Олег очень гордился.
И жизнь потекла так легко, раскручиваясь скорее и скорее, словно кто-то хотел как можно надежнее запутать его в паутине повседневности. Но он не давался ей, не торопился навещать старых друзей, возвращаться к старым привычкам. Ведь если ему дали эти два года совершенно иной жизни, значит он что-то должен был из этого вынести кроме «полудипломчика» на английском языке? Именно поэтому он тогда и не стакнулся с Пашкой – шабашить они уже перестали, строились в лесу для себя, а в их пустых квартирах отвечали автоответчики или запуганные родители, поклявшиеся тайну «подсолнухов» никакому супостату не выдавать.
Им было хорошо вдвоем с Иришкой, даже удивительно, как может быть хорошо двум людям в огромном городе без тусовок, вечеринок, нашествий друзей. Они не ходили в шумные многолюдные походы – они просто выезжали на природу одни, в своем синем «Гольфике» и там сидели над каким-нибудь рыжим от сто лет падавшей в него сосновой коры озером; или над болотом, от невиданного урожая клюквы похожим на место крушения самолета с грузом коралловых бус. Иногда они привозили домой немного грибов или ягод, но никогда не занимались «заготовками» на зиму, не закручивали что-то неописуемое в банках, не варили компоты в ведерной кастрюле, не забивали шкафчики на кухне сушеными грибами, яблоками и баклажанами с рынка.
Однажды Иришка купила апельсинового сока. Они разлили его по бокалам, как вино, и долго пили, хотя на вкус он оказался весьма посредственным – кислым и слишком жидким. Тогда Олег признался жене, что хочет вернуться, обязательно вернуться, и не потому что тут плохо, а потому что там хорошо. Иришка обняла его и сказала немного виновато: «Я вижу». Он тогда снова не понял, что это означало: «А я не хочу!». Он видел, как им хорошо вдвоем и бессовестно пользовался этой любовью, выбирая за обоих.
Белые кроссовки очень быстро стали серыми, а потом и вовсе лопнули, когда по первому морозцу кто-то в автобусе наступил Олегу на ногу. Иришка хотела их выкинуть, но он не дал, запихал в тумбу на балконе и иногда заглядывал туда. Ему было нужно напоминание. Фотографии, футболки в шкафу, рассказы друзьям – все это тускнело, становилось похожим на пересказ давнишнего кино. А вот кроссовки были почему-то реальными, словно от них до сих пор пахло сонной рекой возле памятника президенту Гранту.
Он искал выход. Вернее, вход. Искал спокойно и размерянно, понимая, что спешка ни к чему хорошему не приведет. Советовался с опытными людьми и выслушивал истории тех, кому не повезло. Где-то у себя в голове он ставил галочку. А где-то – большой жирный минус. Он устроился в известную корпорацию, открывшую отделение в Москве, и начал там не просто работать – а разрабатывать ее, как золотую жилу, как узник осторожно копает лаз на волю.
При этом он осознавал, что живется ему в новой России совсем неплохо. Он не собирался ни от чего убегать. Он даже не нуждался в том, чтобы кому-то доказывать свои способности – он это уже сделал. Он видел для себя множество возможностей, он узнавал об интересных проектах, на которые мог перейти завтра же, удвоив или утроив нынешнюю зарплату. Он даже мог бросить все эти компьютерные переводчики и мороку с шрифтами и заняться чистой наукой, которая снова начала поднимать голову. Кататься на конференции, писать статьи. А может быть, совместить науку и работу...
Но он хотел сначала вернуться туда! А потом все прочее. Наука, работа, даже семья. В нем оставалась тоска, как недолеченная простуда, как ноющий по ночам зуб, и он не мог с нею смириться. Он жаждал исцеления и видел только один способ сделать это.
На второй год работы на «фирмачей» у него все получилось. Он примчался домой и первым делом выволок с антресолей два чемодана на колесиках, пыльных и набитых ненужным барахлом. Так и сидел с ними в обнимку, пока Ирина не пришла с работы. Он еле сдерживался, чтобы не вопить от восторга, он кружил жену по квартире, выкрикивая бессвязно название городка, куда его переводят, цифры своей зарплаты и резкие, как катящиеся по железу камушки, английские названия улиц, вызубренные за вечер в Интернете: тут они снимут квартиру, тут городская библиотека, тут бассейн, тут парк...
– У тебя совсем исчез русский акцент... – только и сказала Иришка, прижимаясь к нему. Только тогда он понял, что кричал по-английски.
Конечно, она поехала с ним. Никаких возражений, слез или отсрочек не последовало. Она бросила свою российскую работу и за пару месяцев нашла в Интернете похожую на другом конце шарика. Они сняли ту самую квартиру, которую он нашел из Москвы по Интернету, записались в тот бассейн и в ту библиотеку, выбрали себе семейного доктора, подыскали по рекомендациям русского дантиста. Сперва они купили одну машину, поменьше, и старались распределить свое время так, чтобы обоим успевать на работу вовремя. Но потом офис Ирины переехал в соседний городок, и стало ясно, что нужна вторая машина. Олег вспомнил летние шабашки и побеседовал с бригадиром румынских строителей, как раз возводивших поблизости дом. У него появилась подработка на стройке. Работа почему-то считалась тяжелой, но Олег, сидя за рычагами компактного эскаватора или шагая в высоких ботинках по стройплощадке, выстеленной листами фанеры, с усмешкой вспоминал, как они корячились на шабашке, поднимая вручную верхние бревна венца, меся сапогами густую грязь, заливавшую порой через верх голенища.
Иришка сдала тест на права и стала раскатывать по округе самостоятельно. Олег этим почему-то ужасно гордился. Словно смотаться в Москве на оптушку со старым рюкзаком и доволочь его через весь город – это была некая разминка, прелюдия к жизни, а вот закупка продуктов в супермаркете и доставка их в багажнике своей машины домой – это нечто особенное. Иришка подшучивала над его комплиментами и докладывала о новых разведанных магазинах и просто всяких интересных местах, куда они потом ходили или ездили по выходным.
Затем она вдруг засобиралась на курсы английского. И его попыталась потащить. Олег смысла в этом не видел ни на грош. Расширять словарный запас можно было слушая радио в машине или беря в библиотеке аудиокниги. Общение со свежими эмигрантами из разных стран давно уже потеряло для него новизну. По акценту в разговоре он без труда мог отличить вьетнамца от тайца, а бразильца от мексиканца, хотя сам редко задумывался над этим.
Но так или иначе, в районный колледж в тот вечер Ирка его затащила. И пока она писала бесконечный тест, расставляя точки в кружочках на карточках, которые потом так удобно проверять на просвет, Олег обнаружил, что при колледже действует множество научных обществ, приглашающих не только студентов, но и всех желающих присоединяться к ним. Разумеется, этнографический клуб оказался именно тем, к которому он захотел присоединиться.
Тогда они впервые серьезно поссорились. Причем, он так и не понял – по какой причине? Ведь он не бросал Иришку скучать одну дома, они вместе доезжали до колледжа, вместе поднимались по широкой лестнице, напоминающей дом культуры поздних семидесятых, и только там расходились по разным аудиториям на какие-то два часа. Жена так и не нашла аргументов в пользу своей обиды. Языком Олег владел прилично, скорее всего его даже не взяли бы на эти курсы для новичков. А этнолингвистика – его специальность, его когда-то сделанный выбор в жизни.
Ссора как-то сошла на нет, в качестве то ли примирения, то ли демонстрации благополучия, они оба стали приглашать порой в гости новых знакомых из колледжа. Иришка – ирландку Мэри и мексиканку Лючию, а Олег – чилийца Хорхе и индуса Субраха – остальную часть его длинного имени они уговорились не произносить, дабы не путаться всякий раз. Это была странная в своей полной несовместимости компания. Мэри было лет пятьдесят, и она постоянно жаловалась на консерватизм американцев. Лючии по виду можно было дать и восемнадцать и тридцать – абсолютно круглая, предпочитающая розовые и сиреневые спортивные маечки с блестками в обтяжку, она обожала приносить на их сборища блюда собственного приготовления. Во время беседы она чаще молчала, поглядывая на Хорхе с изрядной долей кокетства. Субрах излагал собравшимся новости Индии или втягивал Олега в обсуждение очередной этнографической публикации. А Хорхе любил пересказывать страшилки, настолько похожие на детские истории про черную простыню и синюю руку, что порой Иришку разбирал смех. Но, разумеется, это были чилийские народные страшилки, и всякой из них имелся свидетель, а то и виновник – могучий колдун, живущий в пещере над океаном. Поскольку, слушать страшилки было интересно всем, вскоре вышло так, что главным оратором на этих чаепитиях стал Хорхе.
Однажды чилиец подошел к Олегу после такого вечера и попросил его на пару минут. Из его рассказа, постоянно прерывавшегося извинениями, Олег понял, что Хорхе общается сейчас с некой мудрой женщиной в индейской резерваци неподалеку. И все бы ничего, но эта мудрая приказала ему привезти к ней русского. Не просто абы какого, а именно Олега, описав его внешность. Отказывать Хорхе было неудобно, поездка в резервацию могла оказаться весьма интересной. Но Иришка ехать с ними отказалась:
– Возьми немного наличных, – сказала она. – Вдруг захочется купить что-нибудь или ей придется заплатить за камлание – ну, что там она делает? А кредитки, чеки и прочее оставь дома.
Олег не знал, как выглядят другие резервации, но в этой редко стоящие дома без изгородей перемежались рощами, где березы были обвязаны цветными лоскутами. Кое-где поля были вспаханы. Возле одного дома паслось довольно много овец и лошадей. Вдоль федеральной автотрассы стояли сколоченные из чего попало сараи-лавчонки, на которых издалека виднелись надписи: «Хорошие индейцы тут! Покупайте у хороших индейцев!». На дверях значилось время работы хороших индейцев. Они должны были открывать свои сувенирные лавки в 9 или 10 утра. Но даже после полудня те оставались закрытыми, хотя за мутными окнами, завешенными лоскутными одеялами, явно кто-то ходил. Олег постучал в один магазинчик, но ответа не последовало.
– Оставь, – позвал его из машины Хорхе. – Они ждут туристов. Большие автобусы.
Мудрая женщина оказалась просто старой индианкой в адидасовской куртке, качающейся на плетеном кресле возле медной жаровни в саду своего домика. Она посмотрела на Олега с любопытством и сразу начала говорить на гортанном языке, не дожидаясь, чтобы Хорхе перевел ее слова. Поэтому Олег тогда понял далеко не все.
– Все люди живут племенами. Есть большие племена и малые. Племя Олега очень мало. Только он и его жена. Так получилось, потому что глупые люди в его стране прокляли Бога. Теперь там живет очень много людей без племени. Они или найдут себе племя, или погибнут. Олегу повезло. Он нашел жену своего рода. Не ошибся. Теперь нужно рожать много детей и жить счастливо. Если бы Олег купил себе домик рядом с Мудрой и поселился в нем навсегда, она была бы уверена, что его племя возродится и станет могучим. Но Олег как перекати-поле, те призраки мертвой травы, что носятся по прерии, пугая мустангов. Мудрой очень-очень жалко Олега. Поэтому она хочет дать ему ценную вещь. Если когда-нибудь ему придется спасать свое племя от беды, этот порошок поможет ему. Если придется возрождать из небытия – порошок поможет...
Олег все ожидал, что старуха потребует какую-нибудь несусветную плату за кисет с порошком, но та сунула внутрь палец, лизнула белесую пыль, довольно кивнула, туго затянула кожаные тесемки и сунула мешочек Олегу. Весил тот на удивление много: около полкило. У него мелькнула и растаяла мысль о героине. Все было слишком... наивно для подобного.
От усталости, от недопонятого пророчества, от того, что зачем-то жалел денег, которых с него так и не потребовали, Олег понес Мудрой какую-то ересь – пользуясь все тем же Хорхе в качестве переводчика. Он пытался пояснить ей, что для руского все люди на Земле – как одно племя, что когда все люди будут так думать, совсем не будет войн – никого ни с кем. Потом для чего-то приплел право на развод – мол, если разведусь с Иришкой, получится, что мы оба снова без племени? Мудрая на это сказала этак хитро, что ты разводись, но не бросай ее, будь всегда рядом – и вы останетесь племенем. Обсудили они и вероятность встречи Олегом другой женщины того же гипотетического племени: как ее отличить, как опознать? Никак? А если все-таки повезет – что, жить с обеими? Мудрая качала головой, мешая угли в своей жаровне и отвечала одно: будьте вместе, будьте вместе...
Эта глупая встреча забылась так быстро, что Олег даже не помнил, успел ли он пересказать ее Иришке.
Потом жена забеременела, родился сын, над двуязычным именем для которого они мучались последние три месяца перед родами. Нарекли-таки Лешкой – Алексом. Иришка перешла на сокращенный день, чтобы не брать няню, и неожиданно отписалась от кабельного телевидения. «До школы – только родной язык!» – сказала она. Олег, знавший не по наслышке, с какой скоростью впитывают дети чужой язык, оказавшись в непосредственном общении, не возражал. Они читали Колобка и Репку, Буратино и Бибигона, ходили по воскресеньям в русский кружок с кукольным театром и демонстративно не реагировали, если Лешка пытался сказать им что-то по-английски. У Лешика был хороший русский друг Денис и «плохой» руский друг Илья, с которым они почти всегда дрались. В ближайшем парке сложился относительно постоянный круг русскоязычных мам, с которыми Ирина и Олег водили приятное шапочное знакомство и изредка встречались на пикниках. Сын с возмущением рассказывал им в машине по дороге домой, что старшая сестра Дениса называет шашлыки «кебаб», глупая какая, и вообще вечно болтает с подружкой Милочкой по-английски, так что нормальным людям ничего не понять... А они дружно смеялись.
Когда встал вопрос о возвращении в Россию, Лешке было уже пять лет. Он только что отходил пару месяцев в американский пре-скул, бодро затарахрел на местном детском наречии, состоящем наполовину из сокращений и слэнга, перезнакомился со всеми ребятами в их квартале, начал бегать к одноклассникам и соседям смотреть американские мультики и запросился в секцию соккера, который по-русски называется футбол, но это совершенно неправильно, пап, потому что футбол – это амэрикэн фУтбол...
Что, собственно, явилось спусковым крючком – Олег не понял. Может быть, то, что в их домик (да, они теперь снимали домик рядом с хорошей школой) начали толпами прибегать соседские малявки, забирающиеся на диван в уличной обуви и с поп-корном, устраивающие игры в переодевания в папином гардеробе без спросу и спокойно потрошашие холодильник в поисках вкусненького? Может быть то, что Лешка наотрез отказался ходить в русский кружок? Или когда он вытащил из машины Иришки и распихал по кустам в саду диски с русскими музыкальными сказками, которые они всегда слушали в пути?
– Я хочу слушать «Радио Дисней»! – с отчаянными слезами вопил он, пока Олег выковыривал диски из мокрой листвы. – Я хочу смотреть «Дрэгон тэйлз» и «Дору»! Я ненавижу Чебурашку, потому что Бобби сказал, что он тупой мутант!
С точки зрения Олега Иришка перегибала палку уже давно. Не нужно было доводить до подобного срыва. Сегодня «Ежик в тумане» – завтра «Сагва», сегодня в машине радио – завтра «Крылатые качели». Да и американские дети шокируют только в первый раз. На самом деле они просто делают то, что им позволяют хозяева. Надо только жестко донести до них свои правила: обувь снимать, развлекаться в гостиной, кушать лишь то, что на столе.
Но для Ирины это все вдруг стало каким-то культурным шоком. Она перестала читать с Лешиком, вся скисала по выходным, словно не зная, куда еще кроме русской школы можно поехать с мальчиком пяти лет. Олег отыскивал для сына детские музеи, вытаскивал его с мамой в фермерские зоопарки, где можно кормить и гладить ягнят и жеребят, покупал билеты на выставку живых бабочек и на катание на настоящем старинном паровозе. Ира держала Олега за руку, и у него время от времени появлялось тяжелое чувство, что в их семье теперь два ребенка. Эта двойная ответственность была неожиданной и неприятной. Только по ночам, крепко целуя жену и получая не менее пылкий ответ, он возвращался в их равноправие, в их единство.
Но тем не менее, когда на фирме Олега встал вопрос об оформлении его семье вида на жительство, Иришка буквально завопила:
– Нет! – потом взяла себя в руки и добавила:
– Оформляй бумаги, конечно, это удобнее визы, но учти, что в шесть лет Лешка поедет домой и пойдет в нормальную школу.
– Ты что... – опешил Олег. Он не воспринял это всерьез, пока не обнаружил случайно, что Лешка, оказывается, перестал ходить в прескул, фактически изолирован от соседских ребят, проводя вечера то у одних русских знакомых, то у других под разными предлогами, а главное, Иришка начала запугивать мальчика, примитивно и гадко.
– Папа, я очень боюсь, – шепотом признался Лешка однажды вечером, когда Олег, вернувшись раньше обычного с работы, повез его в магазин купить сине-красного Спайдермена, которого сын давно выпрашивал. – Мама говорит, что нас тут обязательно убьют или взорвут. Что нельзя разговаривать ни с кем, кто не знает русского. Потому что террористы часто убивают тех людей, которые живут в чужой стране. А мы ведь живем в чужой?
– Лешк, ну как это в чужой, если ты тут родился? – опешил Олег.
– Это не потому, я ведь все равно весь русский. Мама скоро увезет меня в нашу страну, и там нас никто не тронет! – на лице сына прорезалось очень слабое облегчение. Для него «скоро» – означало сегодня, в крайнем случае на выходных. Через год – это ужас как не скоро, можно сто раз погибнуть от лап неведомых злодеев, так не любящих иностранцев...
Олег орал в тот вечер на Ирку так, как не орал никогда и ни на кого в жизни. А она орала в ответ. Он напоминал ей, что такое российские школы – где даже в лучшей гимназии из туалета плывут облака табачного дыма, учителя орут на детей и драка – нормальное явление, а в подъезде любого дома ребенка могут встретить обкуренные уроды. Она кричала про то, что они-то там выучились и не умерли, а у кого были мозги, тот не курил и не дрался, и что МГУ по-прежнему лучший вуз в мире, не сравнимый с этими ковбойскими техникумами, прикинувшимися университетами и живущими за счет спортсменов.
Наверное, тогда-то в запале он и заявил, что не отдаст ей Лешку. По уму именно про это нужно было молчать до конца, до упора, до развода, до трапа самолета. Все это Олег узнал потом, когда уже было поздно. На самом деле он тогда никак не мог осознать, что она готова бросить его – отнять у него и себя, и сына ради какой-то идеи. И это было очень больно.
Но Иришка просчитала все мгновенно, не зная никаких законов. Наверное, сработал ее материнский инстинкт. Хлопнув дверью, она заперлась в маленьком офисе, и не говоря ни слова заказала самые дешевые билеты до Москвы, с двумя пересадками, прямо на следующий вечер. Утром в обиженном молчании приготовила завтрак, проводила Олега на работу, набила два чемодана самыми теплыми шмотками, собрала сумку с любимыми игрушками Алекса, прокатилась с ним в детский музей, заодно сняв по дороге все деньги со своего счета в банке. А около четырех часов погрузила вещи в машину, пристегнула детское кресло, усадила Лешку в него, завела машину и тронулась в аэропорт.
Олег укололся проклятым костяным шилом примерно в два пятнадцать. Он как раз собрался заскочить на стройку и поработать пару-тройку часов. Шла отделка крыши, работа требующая аккуратности и ангельского терпения соседей, потому что инструменты при этом тарахтят как пара пулеметов. Он должен был оказаться дома примерно через полчаса после того, как самолет с Ириной и Лешкой на борту оторвался бы от земли. Но он уколол себе ладонь, которую начало зверски щипать. Поэтому Олег заскочил домой – промыть руку и налепить какой-нибудь пластырь. Он еще мрачно думал, что если начнется аллергия, придется пить дурацкие таблетки, от которых всегда хочется спать.
Он влетел в ванную комнату – их общую с Иришкой, разумеется – и понял, что там как-то странно пусто. Нет, Ирка не выгребла всю свою косметику, но именно подаренные на день свадьбы любимые духи и ее розовая щетка исчезли, и это выглядело так, словно из ванной вынесли все: полотенца, раковину, пестрые занавески и зеркальные шкафчики.
Олег метнулся в комнату Лешки – и все понял. Шагая к Иркиному компьютеру, он молился только об одном: пусть она в обиде помчалась к своей подруге в Нью-Джерси! Только не самое страшное! Только не та страна, где равнодушные женщины-судьи с холодными глазами никогда и ни за что не отдадут ему Лешку, где его сын проживет жизнь в паутине мелких, привычных страхов: страхов перед учителями в школе и драчунами во дворе, перед армией, перед милицией, перед шпаной, перед бандитами, перед обманом на рынке и надувательством при покупке машины...
Он открыл историю посещений в Иркином компе и сразу же увидел эти билеты – некоторые сайты ну абсолютно беззаботно относятся к защите частной информации! Он позвонил в аэропорт и попытался отменить покупку. С ним поговорили вежливо, но довольно холодно. Номера Иркиной кредитки у него не было, доказать по телефону, что он имеет право на отмену заказа он не сумел. Оставалось попытаться догнать Иришку с Лешиком: безобразный скандал в огромном шумном вестибюле аэропорта, рев Лешки, вежливый коп... Олегу захотелось лечь на диван и накрыться пледом с головой. Его племя... его маленькое племя будет теперь разбросано по свету.
Рука саднила. Олег сел за руль и поехал, почти не превышая скорости. Шел мелкий затяжной дождь, машин было еще мало. Через полчаса закончат работу офисы и на дорогах возникнут пробки. Если он успеет до вылета рейса – он постарается поговорить с Иркой по-хорошему. Они же любят друг друга! Его страхи, ее страхи – все это существует отдельно от их любви. А значит – они смогут договориться. Может быть, они улетят втроем. Или еще что-нибудь придумают, чтобы не разрушать семью и не пугать больше Лешку...
Пробка возникла гораздо раньше, чем он ожидал. На склоне холма, где дорога изгибалась, как лента, сквозь дождь мигали синие, красные и желтые огни. Олег ехал в правом ряду, и поэтому оказался почти притертым к полицейской машине, ограждавшей место аварии. Нужно было пропустить других и перестроиться. Здоровенный эвакуатор подвинулся на обочине впереди, давая место подлетевшей скорой. Несколько секунд Олег смотрел на бронзово блестящий седан в разрытой колесами коричневой траве, на до жути яркого и чистого пластмассвого Спайдермена, лежащего в луже возле заднего колеса, потом вылез и тяжело двинулся туда, не обращая внимания на повисшего на нем полицейского – тощего парня в очках...
***
– Только стая, – уныло повторял Хорхе в сотый раз. – Она сказала – только стая. Те животные, которые живут сами по себе вместе. Не стадо на ферме. Не птицы в одной клетке. Их должно быть столько, чтобы стало невозможно делить, знаешь?
– Знаю. Три, пять, семь, одиннадцать, тринадцать...
– Три мало. Пять мало. Тринадцать нельзя. Ищи семь и одиннадцать! – Хорхе нарисовал какой-то неровный ряд кругляшей.
– Хорошо, – Олег смотрел на проколотую шилом руку. Рана не зарастала до конца, вот уже целый месяц напоминая маленький крепко зажмуренный глаз. – Но я не знаю где еще искать. Сусликов слишком много. Белки приходят к кормушке десятками и уходят по одной. Еноты – по двое. Оленей больше пяти я ни разу не видел...
– На скалах возле Чаньяраль живет много разных птиц, – предложил Хорхе. – Если поехать туда, то можно найти стаю, в которой нужное число...
– Это в Чили? – тускло отозвался Олег.
– Можно поискать колонии чаек где-нибудь поближе... Есть еще пингвины на северных островах. – Хорхе явно хотелось быть полезным русскому, пережившему такую трагедию. – Мудрая хранит оболочки твоей жены и сына, покуда ты ищешь. Если ты откажешься от поиска, они просто вернутся в свои могилы. У тебя есть время. Ищи.
Олег покивал головой. Он искал уже месяц, и все тяжелее осознавал окружающую реальность. Даже удивительно, почему его до сих пор не уволили. Видимо, он продолжал что-то делать в офисе, хотя Олег совершенно ничего не помнил, выходя вечером в парк или выруливая на берег реки с биноклем.
Почему-то так получалось, что ни знакомые, ни родственники ничего не знали о гибели Иринки и Лешки. Поэтому Олег сменил номер телефона, жилье и старался не бывать в магазинах, где продавались русские продукты: пельмени, сало, колбаса и творог – там часто попадались знакомые. Но однажды его случайно занесло к подобной лавочке. Тут же пухлая ладонь обхватила Олега за плечо:
– О, дружище! Тоже вкусненьким затарился? А где твои? Холостякуешь, небось? Я своих тоже на лето сбагрил. Пойдем ко мне, покажу тебе, какой я девайс к обычной тарелке присобачил! Ловит все – даже Россию!
Олег с тоской узнал Валерку – шумного компанейского парня, зовущего своих десятилетних близнецов «спиногрызами», сквозь пальцы смотрящего на то, работает его жена или нет, лишь бы она была довольна, но всякое лето неукоснительно отправляющего семейство «на деревню дедушке» – в какое-то можайское село, упиваться молоком и объедаться смородиной с куста.
Можно было отказаться от приглашения, даже нахамить Валерке, чтобы впредь не приставал, но Олегу было безразлично, и он потащился смотреть присобаченный девайс.
В гостиной у хозяина все выглядело так, словно близнецы с родительницей покинули дом только накануне. Видимо, Валерка не утруждал себя лишней уборкой: за лето пыли все равно налетит, проще убрать один раз, перед прибытием семейства, чем несколько. Из кучи игрушек торчал руками вверх, словно сдаваясь, яркий пластмассовый Спайдермен...
Хозяин радостно суетился, сам задавал вопросы и сам на них отвечал, позволив Олегу тихо обмякнуть в кресле. Притащил кружку чаю, печенье, носился вокруг с пультом, показывая, как вращается на подставке его новый телевизор. Потом пошла демонстрация приема программ со спутников с непонятными номерами. Часть из них действительно передавали – и совершенно без искажений – обычные российские телепрограммы.
Олег смотрел на залитые солнцем улицы знакомого города, на девушек, словно в пику заокеанским сверстницам в этом году натянувших короткие бермуды в обтяжку, на поток машин, где иномарок было явно гораздо больше родимых автопромовских «коняшек» и удивлялся сам на себя. Ну что ему стоило вернуться туда? Он ведь возвращался уже, и ничего, не помер, даже наоборот. Вернуться, найти для семьи безопасное жилье – вон, сколько коттеджных поселков развелось! Небось, там в подъезде шпана сумочки не вырывает. А для Лешки – платную школу с тремя языками и охраной на въезде. И водить их в зоопарк, в цирк, глядеть салют со смотровой. И собирать грибы ранней осенью. А потом, когда Лешка бы вырос, кто знает, куда бы его повело – Олег ведь не собирался выбирать за сына. А в Штаты он мог бы возвращаться, если вдруг появлялась бы та, давняя тоска. Скоро ему для этого не будет нужна виза...
Почему же нужно было пройти через ужас потери, чтобы осознать – все споры не стоят энергии, затраченной на произнесение слов, их порождающих?
Наверное, в той передаче он и увидел собак. Стаю, вальяжно и нагло отдыхавшую на газоне за спиной у корреспондентки, беседующей с каким-то типом в белой майке. На автомате Олег пересчитал их. Семь. Семь кудлатых, откровенно дворняжьего вида, одуревших от жары псов, валялись на траве, а мимо них шли прохожие, дети кидали им огрызки булок, из киоска с шаурмой девушка вынесла мясных обрезков.
– Во, смотри, прикармливает, а потом – чик! – ворвался в размышления Олега Валерка.
– Что – чик?
– Как что? Шаверма-шаурма, подходы кто без ума! – с кавказским акцентом ответил тот.
– Да ладно, – В эти байки Олег не верил. Выдашь с осени закормленным москвичам собачатину за свинину или курицу, как же!
– Шучу, шучу! – согласился хозяин. – Но бродячих собак в России развелось – страшное дело. Такое впечатление, что все, у кого собаки были, враз их на улицу выгнали.
– Да нет, – нахмурился Олег. – Это не домашние собаки. Я хочу сказать, они же все явно и бесповоротно беспородные. Значит, поголовье дворняжек растет, вот и все. Может, ловить их запретили, может еще что.
– Тут такого нету, – Валерка одобрительно посмотрел в окно. – Одни скунсы шастают, паразиты. Недавно гулял вечером – слышу в можжевельнике звенит что-то. Сунулся – котяра! На нем ошейник с бубенчиком, и он этим самым ошейником на ветку наделся – ни туда, ни сюда. Я его спасать – а он царапаться, видно давно уже там торчал и одурел от ужаса. Ну, я на него футболку накинул, замотал лапы и снял с ветки. Хотел телефон прочитать и отнести – куда там! Деранул меня по голому пузу лапами и домой. Вот скажи, находятся же еще идиоты, которые когти котам не удаляют? А если бы его ребенок нашел?
– Н-да... – неопределенно отозвался Олег. В нем зрело неожиданно ясное и простое решение – ехать в Россию.
«Мое племя.... мое маленькое племя.» – повторял он про себя, собирая чемодан. Встречаться с родными будет нельзя: иначе не избежать расспросов. Поселиться придется на окраине, а документы можно раздобыть у Пашки, вроде он в какой-то секте, сидит в лесу, солнцу молится...
***
Олег открыл глаза. Судя по темноте, времени прошло не очень много. Но кролико-зайцы уже разбежались. Голова была легкой, как после хорошего сна. Уколотый палец больше не болел. Олег глянул заодно на старый шрам на ладони – тот не изменился. Что-то произошло? Или кролики – не то, что имела в виду старая индианка? Все-таки они были наполовину ручные... Олег старательно обшарил окрестные кусты. Он пытался вспомнить сбивчивый перевод Хорхе о преображении стаи. Что-то там было необычное, что-то удивило его... Мудрая говорила – появится нечто крошечное? Или стая станет крошечной? До сих пор он тупо действовал, находя в этом безумии единственное спасение от своей боли. А вот сейчас оказалось, что он чего-то недопонял...
– Эх ты, Охотник... – прошептал Олег сам себе, направляясь обратно к Пашкиной избе. – Ты бы еще на лягушек поохотился!
***
После этого потекли недели поиска: поливальная машина, вечно перепуганная баба Уля, и бесконечные стаи собак, которых он то жалел, то яро ненавидел. Лето разгорелось небывалой жарой, а потом вдруг скисло, затянулось еще не холодными, но надоедливыми дождиками.
Он зачем-то продолжал приезжать к той осиротевшей стае у моста, но всякий раз обнаруживал, что собаки по-прежнему держатся с соседями дружно. Охотник попытался разок отыскать то место, которое увидел когда-то в выпуске новостей на Валеркином шикарном телевизоре. Но подобных скверов с киосками шаурмы, газонами и обсаженными цветами дорожками в Москве появилось бесчисленное множество. И всюду жили собаки, словно нарочно спасающиеся от внимания Охотника своим неправильным количеством.
***
Эта сука, похожая на небольшой мешок с картошкой, к которому приделали тонкие мохнатые ноги, узкую виноватую морду и опущеный хвост, приковыляла к его машине на въезде в железные ворота автокомбината. Пить из взбаламученных колесами, залитых бензином и соляркой луж в этом месте, видимо, не могла даже бродячая шавка. Поэтому псина просительно высунув язык уставилась на Охотника. Тот хмыкнул, включая малый напор. Сука отбежала на пару шагов, приспособилась к изгибу струи и жадно задвигала языком и челюстями, будто кусая струю. Время от времени по ее телу пробегала неритмичная дрожь, собаку качало на тонких лапах и заносило в сторону. Охотник успел даже подумать, что животина больна чем-то и вспомнить рассказ из детской книжки, что бешеные как раз пить не станут, они воды боятся. Или нет?
Напившаяся сука доковыляла до края разбитого тротуара, за которым тянулся на редкость живучий лесок, зажатый между парочкой автобаз, складами и железной дорогой. Там она судорожно заползла под куст, став вмиг неприметной, как клок грязного картона и тихо застонала. Только в этот момент до Охотника доперло, что она беременна, и не просто беременна, а буквально набита весьма резвыми щенками и, кажется, собирается немедленно рожать.
Олег отогнал машину в гараж, расписался в ведомости, делая это все без лишней торопливости. В конце концов, эта дворняга – крепкая тварюга, размером с хорошую овчарку. Вряд ли таким требуется медицинская да и любая другая помощь при родах. А вот руку ему оттяпать на нерве новоявленная мамашка может только так.
Тем не менее, он отыскал побольше ветоши, выбирая широкие и чистые куски, захватил в раздевалке зеленку и бинт, выгреб все свои съестные запасы из общественного холодильника и уложил это все в свою сумку, чтобы не вызывать глупых вопросов. А потом двинулся к дырке в заборе, которой пользовались желающие поскорее попасть на станцию. Он знал, что возле забора, в похожем на деревенский сортир сарайчике, лежат запасные ведра, над которыми трясется завхоз. Но сейчас старикан уже ушел домой, а завтра с утра ведро будет на месте. Воды он налил из пожарного крана. Все. Теперь оставалось отыскать суку.
Она успела заползти еще глубже в заросли, так что обнаружил он ее по запаху мокрой шерсти и тяжелому дыханию, которое псина не могла сдержать. Увидев его, она сперва оскалилась, но потом вздохнула и уронила морду на жухлую траву. Умирающий папоротник под ней был бархатно-коричневого цвета. Совсем как мокрая зимняя трава под колесами Иришкиной машины, некстати вспомнилось Охотнику.
– Ну, уважаемая, что сначала – жратеньки будем или потомством займемся? – спросил он тоном киношного доброго доктора. Сука слизнула с его ладони кружок колбасы, хлеб, плавленый сырок, потом замерла, словно прослеживая путь пищи в своем животе.
– Вода тоже есть, – он налил ей в баночку из-под плавленого сыра, но она лакнула один раз и отвернулась. Потом тем напряженно-вымученным жестом, каким женщина начинает раздеваться при молодом враче-мужчине, неожиданно заменившем в консультации сто лет знакомую им Галину Степановну, сука опрокинулась на спину.
– Я не спец, – пояснил ей Охотник, – Но пузо тебе помыть не мешало бы.
Собака отвернулась. Может, ей было стыдно, что она сама уже не дотягивалась языком до разбухшего живота, а может она старалась так сдержать свою свободолюбивую натуру и не тяпнуть непрошеного помощника. Так она и пролежала все время, пока Олег отмывал ей живот намыленной тряпкой и ополаскивал. Про себя он пожалел, что не добавил в ведро кипяточку из чайника, но оставалось надеяться, что собака и на снегу спала, и под дождем бегала – от холодной воды не помрет.
Что делать с вымытой псиной дальше, Охотник не знал. Она нашел неподалеку здоровенный ящик из-под холодильника, приволок его под куст, сложив в толстый картонный мат, и застелил ветошью.
– Ложитесь, гражданочка! – похлопал он по образовавшемуся лежбищу. Сука послушно, но с огромным трудом перебралась на тряпки. После этого они оба затихли, глядя друг на друга. Псина ждала своего часа, а Олег нервничал, не зная, чем ей помочь. В лесочке понемногу смеркалось. У Охотника был хороший фонарь, но он решил, что на свет может принести кого-нибудь лишнего, да и бить собаке по глазам лучом не стоит.
– Слушай, если ты в темноте родишь, я тебе ничем помочь не сумею, – пожаловался Охотник псине. – Вы уж, мамаша, давайте, не тяните.
Сука повернула морду к нему и слушала очень внимательно. Возможно, она не родилась дикой. Или ее кто-нибудь прикармливал. Или ей всегда хотелось иметь своего человека – говорят, у собак это в крови, хотя звучит как сказочка. Но под ее отливающим красным взглядом Олег начал рассказывать все сначала, смеясь и плача в некоторых местах, а порой принимаясь яростно спорить – с самим собой, с мертвой Иринкой, с Пашкой, с Хорхе и его Мудрой. Собака вздыхала и постанывала. Потом, когда он в третий раз повторил ей про расстрелянную стаю, она решительно тронула его запястье холодным носом. И тут же ее крупное тело напряглось. Охотник все-таки достал фонарь и, сделав узкий лучик, принялся высматривать щенков. Но их не было. Были два каких-то склизских комка, похожих на грязный и мокрый полиэтилен. Сука взвизгнула, и у Олега хватило ума подвинуть эти комки к ее морде. Псина щелкнула зубами и снова заскулила. При этом ее опять и опять выгибало. До самозванного Айболита дошло, что со щенками какая-то непруха. Готовясь к рождению Лешки, Олег посещал какие-то бестолковые курсы для родителей, основной идеей которых был девиз: «Врачи все знают, ваше дело сидеть в углу и радоваться». Но он все-таки вспомнил, что бывает - ребенок рождается в рубашке, у людей это даже примета хорошая, но эту рубашку с него надо скорее-скорее снять, а то он попросту задохнется. Охотник достал нож. Собака взвыла совсем уж не звериным голосом. Видимо, она прекрасно знала, что это за штука. Первый мешочек резался с трудом, он был страшно скользким, а щенок внутри все время барахтался. Но потом Олег подцепил этот пузырь где-то с краю и поскорее сунул матери под нос слепого, похожего на мокрого хомячка, детеныша. С остальными пошло быстрее, только одному он умудрился явно полоснуть ножом по культяпке хвоста. Пока собака вылизывала потомство и кормила их, Охотник вынул из сумки зеленку. Но отличить раненого малыша в куче собратьев ему не удавалось. Если и была капля крови на мелком задике, ее давно слизнула псина.
– Нет, гражданочка, профилактика прежде всего! – строго сказал он ей. – Вот подцепит твой мелкий заразу, и все наши старания насмарку! Так что давай-ка я им всем попы обработаю!
Сука снова терпеливо отвернула морду. Олег старался даже не брать щенят, тем более, что почти все они висели на сосках у матери, как присоски. Он осторожно промазал все попки зеленкой, превратив щенков наполовину в лягушат.
– Ну и порода у тебя народилась! – хмыкнул Охотник, тщетно стараясь оттереть от въедливой зеленки руки. – Зато пока не сойдет, я вас тут всегда отличу. Давай-ка я и тебя помечу! – и он мазнул собаку по правому уху окрашеной тряпкой. Та мотнула головой и снова неумело и нерешительно ткнулась лбом ему в ладонь.
– Да чего уж там, пожалуйста! – Охотник уселся на картон возле ее головы и принялся чесать псину за ухом и под нижней челюстью. Его опыт общения с собаками был небогат – в детстве кто-то из приятелей катал его на санках, запряженных кудрявым эрделем. Разумеется, хохолка и ненежка тягловой силы входила в программу. Ну и в гостях иногда выходило из-за дивана какое-нибудь ухоженное существо с удивленными глазами, послушно подставляя ухо или бок под неумелые пальцы гостей.
Но этой собаке нравилось все, что он делал. Если Олег замирал – она толкала его носом в ладонь. Она была ненасытна на ласку, и совершенно не пыталась отогнать его от щенков. Охотник подумал было о своей комнате... нет, дотащить весь выводок он, конечно сумеет. Вон, в то же ведро сложит, в рабочей куртке, чтобы не замерзли, а мамашу привяжет ремнем от брюк. Но что скажет баба Уля? Потом, эту мать-героиню вымыть нужно, и капитально, а ванная у них с хозяйкой общая. Выгонит, как пить дать. И что потом? Тащить собаку с потомством обратно в этот лесок? Выпустить возле съемной квартиры? Первое глупо – ну что тут за место для щенят? Машины ездят, трактора, тягачи, железка рядом. Конечно, естественный отбор штука умная, но все равно жалко, если хвостатые пропадут. А в спальном районе им тоже не выжить – там рьяные дворники в оранжевых комбинезонах гоняли и собак, и кошек, охраняли старательно наведенную красоту: подстриженные газоны, многоцветные клумбы, закрытые на замок мусорки.
Мысль явилась неожиданная и очень простая: отвезти этот колхоз к Пашке! Вот уж где никто не пнет неуклюжего щенка, не поленится вымыть в пяти водах и вычесать кудлатую мамашу. Охотник вывалил перед собакой остатки еды и начал застилать освободившуюся сумку тряпками. Псина медленно жевала, смакуя каждый кусок. Даже подсохшую сосиску и совершенно скукожившийся шмат сала она умяла за милую душу. Щенки сонно сопели.
– Ну, граждане, готовьтесь к переезду. Поедем с вами туда, где будет вам и стол и дом, и люди хорошие. Мелких я понесу, потому что вашим народным способом в зубах мы с таким табором далеко не уйдем.
У Олега было хорошо на душе впервые за эти месяцы. Он усмехнулся – ну, прямо пионер-герой, собачку спас! Пашка оставил ему номер мобильного, по которому всегда можно достучаться в поселение. Вот сейчас и обрадуем Пашкета, что его ждет прибавление поголовья домашней живности аж в... семь голов!
Все еще посмеиваясь, Олег позвонил в поселение, попросил Павла, выслушал потрясающую новость, что у Пашки родилась долгожданная тройня, и он, разумеется, торчит в роддоме, а дома они все собираются быть завтра к вечеру, потому что лежать по пять дней в больнице поселковые не привыкли. Дети здоровы, здоровы! – несколько раз повторила ему незнакомая женщина. Олег попрощался, и тут она спросила его несколько смущенно:
– А вы не знаете, случайно, что такое попсиклс и гогурт?
– Замороженый сок и йогурт в таких пластиковых трубочках.... – ответил Олег на автомате. Знакомые смешные словечки резанули его, как хлыст по содранной коже. Он поспешно повесил трубку.
Ехать в поселение, когда Пашки там нет, ему не хотелось. К тому же там явно прослышали, что он заморский гость, вон, уже свой уровень английского повышают. Интересно, где они эти словечки выкопали, в какой рекламе? Может, просто в учебнике, изданном на Западе?
Собака продолжала лежать, как-то сгрудив спящих щенков у себя под боком. Ничья собака. Дикая. Абсолютно одинокая. Только что на глазах Охотника и с его помощью превратившаяся в стаю. Стаю из семи особей.
Она не зарычала, когда он достал кисет, но как-то устало вздохнула. Словно сетовала, что не будет в ее жизни пахнущего стружкой подворья, чистой речки, пруда с карпами, ласковых ребятишек, забавных кличек для ее щенят.
– Может, глупость это все, – извиняющимся тоном сказал Олег. – Вот подождем до утра и я вас отвезу к Пашке. Но я должен попытаться, понимаешь?
Собака все понимала. Она его очень внимательно слушала в последние часы. И щенков он спас. Что тут возразить? Имеет человек право. Когда Олег протянул ей щепоть порошка, она, прежде чем слизнуть безвкусную пыль, лизнула его в руку. От этого жеста полного доверия щекам стало мокро, но Охотник, не останавливаясь, окунал палец в мешочек и совал его, облепленный порошком, в жадные пастишки щенят. Те только языками чмокали, глупые. Потом настал черед шила. Охотник примерился к мизинцу, но потом передумал и воткнул острие прямо в закрытый глаз старого шрама. Словно пытаясь стереть новой болью старую. Кровь в темноте казалась не красной, и даже не черной, а почему-то синей, как чернила. Может быть, в каплях отражались мертвенные фонари железнодорожной станции за кустами?
После проведения обряда сил у Олега не осталось совсем. Он не просто устал, он не мог пошевелить даже пальцем. Наплевав абсолютно на все, он рухнул на влажный картон рядом с теплой спиной собаки.
Он ведь так хотел сделать Иришку счастливой, почему он ни разу не спросил ее о том, чего она хочет? Почему она не спрашивала об этом его? А кто-нибудь из них поинтересовался у Лешика, что ему нравится – задолго до того срыва? Странные люди странного племени. Но он так хотел быть снова с ними. «Завтра отдам Пашке собак, документы и уеду!» – твердо решил Олег. Вспоминать что-то не было сил, в голове плыло только Иришкино лицо в тот миг, когда он внес ее на руках в их первую съемную квартиру. «Ирча!» – позвал он ее их ночным, особым именем и провалился в темноту.
***
– А йогурт у них только в стаканчиках и в баночках таких! А попсиклов и гогурта нету! Я в чужой комнате проснулся – а вас нету, ну и начал по-английски с ними говорить, а надо было просто по-русски, тогда бы они сразу вам позвонили, – просвещал родителей неугомонный Лешка, подпрыгивая на расстеленном у пруда пледике. – Мороженого магазинного у них тоже нету. Они его сами делают - во-о-о-от так трясешь пакет - и сразу мороженое! Зато ягоды всякие растут на кустах и можно есть сколько влезет! А еще у них лошадь и кролики. Я кормил кролика морковкой и сам половину съел. Тетя Марина пекла пироги с ре-ве-нём – я думал, это лопух, а он сладкий! Нет, он ки-и-ислый, просто она его с медом мешала. Мам, давай тут еще поживем? Антон меня обещал плавать научить! А я ему своего Спайдермена подарил, ты не обиделся, пап?
– Конечно поживем! – рассмеялась Иришка, взлохмачивая Лешику волосы. – Пока у папы отпуск, будем жить втроем, а потом папа на работу поедет, а мы еще побудем, пока не соскучимся.
– Только когда соскучимся, сразу-сразу вернемся к папе, ладно? – серьезно потребовал у нее Лешик.
– Знаешь, – заговорщически подмигнула ему мама, наклонившись к самому ушку. – Я думаю, что мы быстро соскучимся. Но плавать ты научиться успеешь.
– Ура! – завопил Лешка и, сочтя миссию общения с родителями выполненной, пулей рванул к давно уже махавшим ему из-за угла ближайшей баньки поселковым ребятам.
– Ух, Олежка, в этой школе такой уровень образования, что Лешка за лето может по полтора нормальных класса брать играючи... – поделилась с мужем Иришка, листая разноцветные учебники.
– В принципе, я могу договориться на фирме о командировках, – со своей стороны предложил Олег. – Полгода тут, полгода там...
– Если тебе это важно – все время возвращаться...
– Я еще не знаю, – честно ответил он. – Может быть, станет важно через месяц или через два. Но мне очень важно, чтобы вы были счастливы.
– Мы! – назидательно ткнула его пальцем в нос Иришка, стягивая сарафанчик.
– Ну да, мы, – согласился он и тут же изумленно уставился на спину жены, собиравшейся окунуться в лесной речушке, протекающей за тыном. – Ты что это? В траве валялась?
– Где? – удивилась Иринка, выворачиваясь и осматривая то, что было пониже резинки ее и без того коротеньких плавок. – Да нет, не похоже это на траву.
– Это зеленка! – рассмеялся Олег. – У тебя на хвосте зеленка! Ты – царевна-лягушка!
– А, комар вчера тяпнул... – как-то рассеянно вспомнила Иришка. Муж подхватил ее на руки и влетел со своей ношей в тихие серые волны.
Ей очень не хотелось думать о душной давящей мертвой тьме, снившейся ей уже много ночей кряду, и о том, что она сроду не мазалась от комариных укусов зеленкой – она же пачкается как незнамо что! А ему хотелось перестать чуять слабый запах мокрой псины, вроде бы ниоткуда появившийся в воздухе – и помнить то, что больше похоже на бредовый сюжет для дрянной мистической киношки.
Поэтому они встали на мелководье и стали целоваться долго и старательно, покуда вредный Лешка с берега не завопил: «Тили-тили тесто! Жених и невеста!». Ребенок быстро усваивал родной фольклор.
Свидетельство о публикации №217010100029