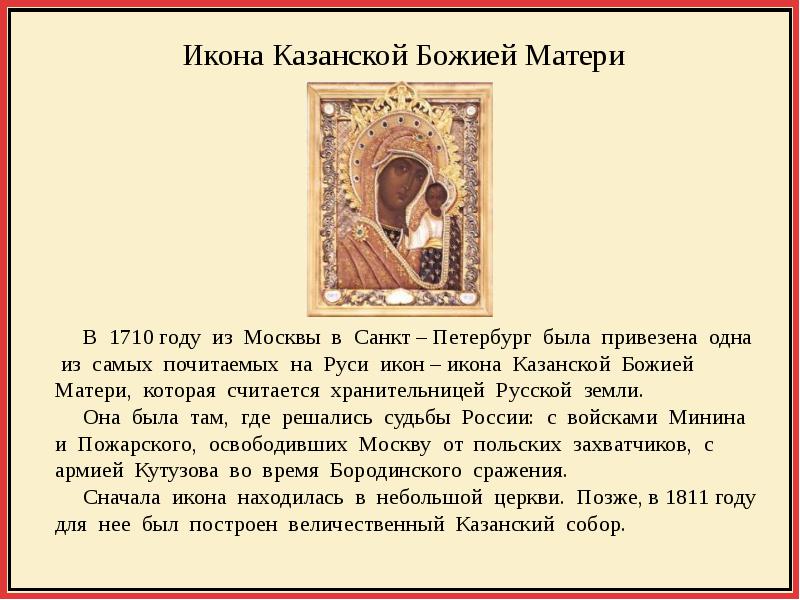Чудотворная казанская икона божьей матери
Пред вами раскрываются страницы удивительной истории возрождения духовности в России. Это, в основном, антология документированных фактов, которые тщательно отобраны и увязаны в определённой хронологической последовательности. В очерке описаны события, начинающиеся с 1579 г., с первого явления чуда Казанской иконы Божией Матери. Далее рассматривается вопрос о том, какую роль сыграла чудодейственная икона Казанской Божией Матери во Втором ополчении Минина и Пожарского при освобождении Руси от польско-литовской интервенции в 1612 году. Более подробно рассмотрена эпоха Отечественной войны 1812 года. Историки отмечают, что в это время никто из писателей-мемуаристов не занимался в серьёз описанием жизни простолюдинов. Война воспринималась как Божья кара, а Наполеон в представлении народа был Антихристом. Живя в тяжёлых условиях крепостного строя, народ оставался, тем не менее, глубоко верующим и эта вера в Добродетель Божию спасала его и поднимала на борьбу с внешним врагом. За Веру, Царя и Отечество народ готов был сражаться и умирать на полях сражений. Намного сложнее обстояло дело во времена фашистского нашествия на СССР. В стране господствовала идеология воинствующего атеизма, закрывались церкви, расстреливались священники. В этой обстановке в стране воцарилась паника, неверие в конечную Победу, на фронтах советские солдаты тысячами сдавались в плен. И в этот период, в мире, находится человек, и молитвенник - митрополит Гор Ливанских – Илия, которому, однажды, через трое суток бдения явилась Сама Божия Матерь и объявила, что он избран, как истинный молитвенник и друг России, для того, чтобы передать определение Божие для страны и народа Российского. Если все, что определено, не будет выполнено, Россия погибнет. «Должны быть открыты во всей стране храмы, монастыри, духовные академии и семинарии. Священники должны быть возвращены с фронтов и тюрем и должны начать служить…»
Сталин принял условия молитвенника Илии, так как не видел других возможностей спасти страну от гибели.
В то время было открыто 20 000 храмов Русской Православной Церкви, были открыты духовные семинарии, академии, возобновлена Троице-Сергиева Лавра, Киево-Печерская Лавра и многие монастыри. В СССР после долгого мракобесия атеизма возрождалось Православие. Народ вновь обретал Веру в Божию Добродетель и в Победу. Он выстоял и победил фашизм! Всё это подтверждено документальными выкладками. По окончанию очерка, я рассказываю на бытовом уровне о том, как наша семья, порою, оставаясь без куска хлеба, спасала икону, а она спасала нас. Отныне эта икона в семье воспринимается как наша Спасительница!
ЧУДОТВОРНАЯ КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
В 1579 году в Казани произошел ужасный пожар, уничтоживший около половины города. Среди пострадавшихся объектов был Казанский Гостинодворский храм. Со временем город стал отстраиваться. И вот однажды, в семье стрельца Даниилы Онучина, у его десятилетней дочери Матроне явилась во сне Богоматерь и повелела откопать Свою икону на определенном месте пожарища. Понятие о существование вещих снов известно с незапамятных времён. И они, как правило, всегда сбывались. Так было и на этот раз, в указанном месте на глубине около метра действительно была найдена икона. Однако, история гласит, что мать Матроны в первый раз не поверила дочери и не приняла никаких мер для начала поисков. Только после третьего Видения, Матрона слёзно стала умолять мать начать раскопки, который, в конце концов, увенчался успехом. День явления Казанской иконы Божьей матери произошло 8 июля 1579 года, который отныне является ежегодным общецерковным праздником в Русской Церкви. На месте явления иконы был построен Богородицкий девичий монастырь, где первыми монахинями стали Матрона и её мать, дочь приняла церковное имя Мавры и стала первой наставницей монастыря.
Обретенная икона была списком с Влахернской чудотворной иконы Богоматери из Константинополя, написанной, по преданию, святым евангелистом Лукой и известной под именем „Одигитрия".
Это было воистину чудом, впервые описанное патриархом Гермогеном (в то время священник Гостинодворской церкви Казани -Ермолай).
Казанская икона Богородицы — одна из наиболее почитаемых и воспроизводимых икон, ныне она является по сути одним из самостоятельных иконографических типов богородичных икон в России. Однако, вернёмся к истории четырёхсотлетней давности. В 1606 году митрополит Гермоген стал Патриархом Московским и всея Руси. Именно он сыграл в истории России особую роль в преодолении Смуты. Гермоген возглавил в России патриотическое движение.
Патриарх Гермоген благословил первое народное ополчение, призванное освободить Москву от польско-литовской оккупации. Зримым знаком патриаршего благословения стало присутствие в ополчении обретённой и прославленной святителем чудотворной Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Однако, когда в первое ополчение привезли список иконы Казанской Пресвятой Богородицы, то казаки ополчения встретили её без должного почтения и сражение с поляками было проиграно.
И тогда патриарх Гермоген в конце августа 1611 года направляет вторую грамоту в Нижний Новгород и Казанскому митрополиту Ефрему
с призывом твёрдо стоять «за Пречистой дом, и за чудотворцов, и за веру». Именно этот призыв послужил мощным импульсом к созданию второго ополчения.
Прибывшая в это время из Нижнего Новгорода в Ярославль рать князя Дмитрия Пожарского (Второе народное ополчение) «пожелала иметь икону с собою, а в Казань послали список с неё».
Из Ярославля ополчение Минина и Пожарского двинулось с Казанской иконой в сторону Москвы.
22 августа 1612 года у Новодевичьего монастыря началось решающее сражение Второго ополчения с войсками гетмана Ходкевича, которое завершилось поражением польских войск, несмотря на их численное превосходство.
«Руководители Второго ополчения истолковали явление иконы под Новодевичьем монастырём как то чудо, благодаря которому Новодевичий монастырь был взят и освобождён от части гарнизона польско-литовских войск. И затем она действительно сопровождала Второе ополчение», вплоть до сражения за Смоленск. В конце 1620-х годов было введено общегосударственное признание иконы Казанской Богоматери. Большинству верующих известно, что Смоленская икона ограждает от бед запад России, а на восток, до края земли, простирает своё влияние чудотворный Казанский образ Пречистой Богородицы.
В Православной России, ни одна из икон не распространена в таком количестве списков, как Казанская. К ней, люди, чаще всего обращают взоры в своих бедах, болезнях и тяготах. Есть такая икона и в моей семье. Этому списку более ста лет, которую моей маме подарила на свадьбу в 1934 году свекровь – Молчанова Екатерина Алексеевна (урождённая Ожгихина, дочь угличского купца ОжгихинаА. А.) и в ней тоже присутствует частица чудодейственной силы, но об этом я поведаю в конце этого рассказа.
Известно, что перед Полтавской битвой в 1709 г. русский царь Петр I с войском молился перед иконой Казанской Божией Матерью, а в 1721 г. он перенес один из списков иконы из Москвы в построенный им Петербург и был поставлен вначале в храме на Васильевском острове (на месте нынешнего Андреевского собора), затем - в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, а с 1737 года - в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы на Невском проспекте.
В 1811 г. образ был поставлен в только что построенном и освященном Казанском соборе, где вскоре полководец Кутузов молился перед чудотворной иконой о победе над французами. Святой образ осенял русских солдат, идущих на освобождение России от иноземных захватчиков в 1812 г., и первая крупная победа была одержана в день праздника иконы 22 октября, когда выпал снег и ударили сильные морозы, сама Заступница пришла на помощь воинам, русские отряды под предводительством генерала от инфантерии Михаила Андреевича Милорадовича (1771 – 1825) и генерала от кавалерии Матвея Ивановича Платова (1753 – 1818), разбив арьергард маршала Луи Николы Даву (1770 – 1823), нанесли первое поражение считавшейся дотоле непобедимой французской армии. 7 января 1813 года по новому стилю Александром I был подписан манифест о принесении Господу Богу благодарения за освобождение России.
Таким образом, с 1814 года день Рождества Христова, стал Днём Победы в Отечественной войне 1812 года, отмечавшийся военными парадами и благодарственными молебнами вплоть до 1917 года. Тема восприятия событий войны 1812 г. современниками остается одной из наименее разработанных в обширной историографии этого события.
В советский период тема Отечественной войны 1812 г. вплоть до 1937 г. оставалась невостребованной.
В 1920-е годы господствовала теория «историка номер один» М.Н. Покровского, озвученная в его «Истории России в самом сжатом очерке», а также в сборнике «Дипломатия и войны царской России в XIX столетии».
Он изображал войну 1812 г. как борьбу реакционной России и прогрессивной наполеоновской армии, носителя демократических начал. Народ же в 1812 г., по его словам, думал только об освобождении и свержении ненавистного крепостного режима.
Участниками тех событий Генеральное Бородинское сражение воспринималось, как день страшного суда. Пожар Москвы мог показаться современникам - апокалипсисом. Наконец, изгнание "двадесяти язык" из пределов России совпало со светлым праздником Рождества Христова.
Насколько известно современным историкам, специальных исследований проблемы восприятия войны 1812 г. простонародьем не существует.
Сведений о народе крайне мало, так как мемуаристы почти совсем с ним не контактировали и, как правило, не считали «чернь» достойной своего внимания. Характерный пример – знаменитые воспоминания русского писателя-мемуариста и ученого-энциклопедиста Андрея Тимофеевича Болотова (1738 – 1833), оставившего одно из крупнейших мемуарных произведений эпохи XVIII – начала XIX в. « Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков», (полностью до сих пор не опубликовано).
К великому сожалению, традиция написания мемуаров в среде основной массы россиян-современников 1812 г. совершенно отсутствовала: за весь XVIII век, только 250 россиян оставили свои воспоминания, из них всего один крестьянин.
Историкам известно всего лишь одно мемуарное произведение солдата 1812 г. и две мемуарных записки 1839 г. со слов рядового и унтер-офицера, участвовавших в Бородинской битве.
Особняком стоят произведения генерала от инфантерии и писателя Ивана Никитича Скобелева (1778 или 1782—1849) , изданные в 1830–1840 – е годы. Автор в 1800-х годах более четырех лет прослужил в нижних чинах, впоследствии дослужившись до генерала, участник Отечественной войны (в звании капитана). Современники вполне обоснованно утверждали, что он знал русского солдата как никто другой. Автор от лица простого солдата описывает события Отечественной войны 1812 года. Эти книги содержат ценнейший материал: это и солдатский язык эпохи 1812 г. и особенности восприятия войны русскими солдатами, переданные И. Н. Скобелевым.
Наиболее ценный материал по теме был собран в 1860 – 1880-е гг. писательницей Екатериной Владимировной Новосильцевой, известная больше под псевдонимом Т. Толычева. (1820 – 1885). Она ориентировалась на сбор воспоминаний о 1812 г. в среде простонародья, в результате розысков в Москве и Смоленске ею были собраны уникальные воспоминания, доживавших свой век, свидетелей Отечественной войны 1812 г. из крестьян, бывших крепостных и дворовых, купцов и священнослужителей. Всего ей удалось записать воспоминания 33 свидетелей войны 1812 г. Неискушенный россиянин в 1812 г. был убеждён, что война – это кара Божия, следовательно, она не может зависеть от ухищрений дипломатов и воли отдельных лиц. Следы её приближения и ее ход он пытался разгадать по всевозможным знамениям. Народ был глубоко верующим. Исповедуя каноны Православия, как правило, все были крещёные, ходили в церковь, исполняли посты, у каждого были почитаемые ангелы-хранители, а в церквах все прихожане шли и молились перед чудотворными иконами, к каковым относятся: Казанская, Смоленская, Владимирская, Тихвинская, Иверская. Каждая из них многотысячно раз намоленная , впитавшая в себя энергетику миллионов верующих душ, а в дни крестных ходов во времена нашествия врагов на нашу землю чудотворные иконы, включая и нашу Казанскую икону Богоматери, сами отдавали накопленную энергию народной Вере и в очередной раз спасали Россию!
Россияне пытались найти ответы на все вопросы в наиболее почитаемом и авторитетном источнике – Библии. Жители провинции приходили к людям, имевшим славянскую Библию, и спрашивали у них, что там написано о Бонапарте и о том, что он сделает ст Россией, глубоко убежденные в том, что там всё это описано. В 1812 г. в народе получили чрезвычайное распространение всевозможные предсказания, откровения, описания знамений и т. д.
После известия об объявлении войны московский люд собрался на Красной площади и стал рассуждать. Прежде всего, единодушно было решено, что война – это кара Божия и следует усердно молиться.
«Французы, оставя христианскую веру, обратились в идолопоклонство, изобрели себе какого-то бога Умника и раболепно поклоняются ему, что этот чурбан Умник приказал им всем быть равными и свободными, запретил веровать в истинного Бога и не признавать никаких земных властей. Идолопоклонники, послушавшись своего истукана, возмутились, разграбили свои церкви и обратили их в увеселительные заведения, уничтожили гражданские законы и к довершению своих злодейств убили безвинного доброго, законного своего короля».
Это описание Французской революции почти дословно совпадает с описанием Ф.В. Ростопчина из упомянутой книги «Мысли вслух на Красном Крыльце…».
«Французы продались Антихристу, избрали себе в полководцы сына его Апполиона, волшебника, который по течению звезд определяет, предугадывает будущее, знает, когда начать и когда закончить войну, сверх того, имеет жену, колдунью, которая заговаривает огнестрельные орудия, противупоставляемые её мужу отчего французы и выходят победителями».
Е.В. Новосильцева записала некоторые мысли:
«Действительно ли неприятельские солдаты не походят на людей,а на страшных чудовищ?»
Андрей Тимофеевич Болотов был убеждён, что большинство русских крестьян оставались язычниками, а не православными хрисианами.
Для французов всё это имело самые печальные последствия. Среди российского простонародья и солдат Великая армия в самом буквальном смысле воспринималась, как армия дьявола. И.Н. Скобелев в «Солдатской переписке 1812 г.» называет Наполеона «чернокнижником Бунапартом», а наполеоновских солдат – «колдунятами».
Многие жители были уверены, что французы… едят людей! Еще в 1807 г., когда Наполеон в первый раз был объявлен Синодом Антихристом, один пленный русский офицер просил французов, чтобы его подчиненных не ели. Подобные нелепые утверждения основывались на примитивной контрреволюционной пропаганде, всячески изображавшей, что во Франции с 1793 г. наступил чуть ли не конец света.
Наполеоновский офицер итальянец Ч. Ложье в своём дневнике описывает занятие Великой армией Смоленска – местные жители большей частью бежали, те же, что остались, попрятались в церквях и усердно молились, надеясь, что святое место защитит их от неприятеля. Обработав большой массив материалов, историки пришли к выводу, что поведение жителей центральной России в течение 1812 г. можно разделить на четыре основных типа: 1) паника; 2) совершенное спокойствие и высокомерные шапкозакидательские настроения; 3) стремление сбросить с себя крепостное иго, надежда на помощь Бонапарта; 4) абсолютное неведение или безразличие. Высокомерные настроения, убежденность в абсолютном превосходстве над врагом были чрезвычайно распространены в народной среде, особенно на территориях, не подвергшихся нашествию.
В России 1812 г. было немало людей, думавших о возможности освободиться от крепостного ига, удачную возможность для этого предоставляла война. В 1812 г. крепостное крестьянство составляло около 44% населения Империи (23 млн. человек) условия жизни большинства крепостных были чудовищными, как в материальном, так и в моральном отношении.
Считается, что в 1812 г. было 60–67 антикрепостнических восстаний, цифра эта сильно занижена и нуждается в уточнении.
Война 1812 г. продемонстрировала внутреннюю слабость России, просто французы ею не воспользовались. У русского же народа было Отечество, за которое он был готов умирать, как и его прадеды, невзирая на свою тяжёлую жизнь в крепостническом строе, и была величайшая Вера в Бога, питаемая Православием. Народ искренне верил в чудодейственную силу своих святынь. Мы разобрали две эпохи в истории России: эпоху Великой Смуты, и эпоху Первой Отечественной войны 1812 года. Настало время обратить наше внимание на эпоху Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.
В конце XX века получила распространение информация о связи иконы Казанской Богоматери с митрополитом Гор Ливанских Илиёй и об особой роли иконы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
В этой страшной войне враг имел единственную цель: уничтожить Россию, Святую Русь, уничтожить народ России, стереть с лица земли само понятие – Россия.
Мы часто думаем, что все чудеса и знамения были только в прошлые времена, но они совершаются постоянно, хотя в истории народов такое наблюдалось не столь часто.
А потому эти случаи должны оставаться в памяти людей для нашего укрепления, утверждения в вере и надежде, что мы не оставлены Промыслом Божьим. Речь будет идти об иконе Казанской Божьей Матери.
Стояла зима 1941 г. Немцы рвались к Москве. Страна стояла на грани катастрофы. В те дни почти никто не верил в победу; не знали, что делать, видели только погибель, повсюду были паника, предательство, страх и уныние.
Когда началась Великая Отечественная война, Патриарх Антиохийский
Александр III и всего Востока (Из Багдада) обратился с посланием к христианам всего мира о молитвенной и материальной помощи России.
Но, как и в 1612 г. Промыслом Божиим для изъявления воли Божией и определения судьбы страны и народа России был избран друг и молитвенник за нее из братской Церкви – Митрополит гор Ливанских Илия (Из Антиохийского Патриархата). Он знал, что значит Россия для мира; знал, и поэтому всегда молился о спасении страны Российской, о просветлении народа. После обращения Александра III Митрополит Илия стал еще горячее всем сердцем молиться за спасение России от погибели, вражеского нашествия. Он решил затвориться и просить Божию Матерь открыть, чем можно помочь России. Он спустился в каменное подземелье, куда не доносился ни один звук с земли, где не было ничего (кроме иконы Божией Матери. Владыка затворился там, не вкушая пищи, не пил, не спал, а только, стоя на коленях, молился перед иконой Божией Матери с лампадой.
Через трое суток бдения ему явилась в огненном столпе Сама Божия Матерь и объявила, что избран он, истинный молитвенник и друг России, для того, чтобы передать определение Божие для страны и народа Российского. Если все, что определено, не будет выполнено, Россия погибнет.
«Должны быть открыты во всей стране храмы, монастыри, духовные академии и семинарии. Священники должны быть возвращены с фронтов и тюрем, должны начать служить. Сейчас готовятся к сдаче Ленинграда, – сдавать нельзя. Пусть вынесут, – сказала Она, – чудотворную икону Казанской Божией Матери и обнесут её крестным ходом вокруг города, тогда ни один враг не ступит на святую его землю. Это избранный город. Перед Казанскою иконою нужно совершить молебен в Москве; затем она должна быть в Сталинграде, сдавать который врагу тоже нельзя. Казанская икона должна идти с войсками до границ России. Когда война окончится, митрополит Илия должен приехать в Россию и рассказать о том, как она была спасена».
Владыка Илия связался с представителями Русской Церкви, с советским правительством и передал им все, что было определено ему Божией Матерью.
Сталин вызвал к себе митрополита Ленинградского Алексия (Симанского), местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородского) и приказал исполнить всё, что передал ему митрополит Илия, ибо не видел больше никакой возможности спасти положение. Все произошло так, как и было предсказано. Уже не было сил, чтобы удержать врага. Был страшный голод, ежедневно умирали тысячи людей. Из Владимирского собора города Ленинграда вынесли Казанскую икону Божией Матери и обошли с ней крестным ходом вокруг Ленинграда – город был спасен.
Но многим до сих пор непонятно, чем держался Ленинград, ведь помощи ему практически не было: то, что подвозили продовольствие, было каплей в море. И тем не менее, город выстоял. Снова подтвердились слова, сказанные святителем Митрофаном (Воронежским) Петру I о том, что город святого апостола Петра избран Самой Божией Матерью, и пока Казанская Ее икона в городе, и есть молящиеся, враг не может войти в город.
Вот почему ленинградцы так почитают Казанскую икону Божией Матери. Она все время, от основания города была Заступницей его, да и всей России.
После Ленинграда Казанская икона начала свое шествие по России. Да и Москва была спасена чудом. Разгром немцев под Москвой – это истинное чудо, явленное молитвами и заступничеством Божией Матери,
В то время Волоколамское шоссе было свободно и ничто не мешало немцам войти в Москву. И не было бы сегодня России и нас с вами. Известна информация, что будто бы Сталин распорядился накануне совершить облёт вокруг Москвы с чудотворной иконой Казанской Божией Матери на борту. По тому, что Сталин имел духовное образование, можно предположить, что этот факт имел право быть, однако свидетельских показаний история не сохранила.
Затем Казанскую икону перевезли в Сталинград.
Икона стояла среди наших войск на правом берегу Волги. и немцы не смогли перейти реку, сколько бы усилий ни прилагали. Был момент, когда защитники города остались на маленьком пятачке у Волги, но немцы не смогли столкнуть наших воинов, ибо там была Казанская икона Божией Матери (так наз. «Малая земля»).
Знаменитая Сталинградская битва началась с молебна перед этой иконой, и только после этого был дан сигнал к наступлению.
Хочется рассказать ещё об одном таком свидетельстве заступничества и помощи Божией Матери. Произошло это во время штурма Кенигсберга в 1944 г. Вот, что рассказывает офицер, бывший в самом центре событий битвы за этот город-крепость: «Наши войска уже совсем выдохлись, а немцы были все еще сильны, потери были огромны, и чаша весов колебалась, мы могли там потерпеть страшное поражение.
Вдруг видим: приехал командующий 3-им Белорусским фронтом – А. М. Василевский , много офицеров и с ними священники с иконой. Многие стали шутить: «Вот попов привезли, сейчас они нам помогут…».
Но командующий быстро прекратил всякие шутки, приказал всем построиться, снять головные уборы. Священники отслужили молебен, и пошли с иконой к передовой. Мы с недоумением смотрели: куда они идут во весь рост? Их же всех перебьют! От немцев была такая стрельба – огненная стена! Но они спокойно шли в огонь. И вдруг стрельба с немецкой стороны одновременно прекратилась, как оборвалась. Тогда был дан сигнал – и наши войска начали общий штурм Кенигсберга с суши и с моря. Произошло невероятное: немцы гибли тысячами и тысячами сдавались в плен! Как потом в один голос рассказывали пленные: перед самым русским штурмом «в небе появилась Мадонна» (так они называют Богородицу), которая была видна всей немецкой армии, и у всех абсолютно отказало оружие, и они не могли сделать ни одного выстрела.
И еще один факт. Киев – матерь городов русских – был освобожден нашими войсками 22 октября – в день празднования Казанской иконы Божией Матери (по церковному календарю, или 4 ноября гражданского стиля). И это было весьма знаменательно для всего Советского народа: отсюда началась Русь наша; здесь произошло Крещение нашего народа, который избрал навсегда Христианство, Православную Веру!
В то время было открыто 20 000 храмов Русской Православной Церкви. Вся Россия молилась тогда! Молился даже Иосиф Сталин (об этом есть свидетельства). Б. М. Шапошников, царский генерал, не скрывавший своих религиозных убеждений, часами беседовал со Сталиным и все его советы (в том числе одеть войска в старую форму царской армии с погонами) были приняты. А. В. Василевский, по рекомендации Б. М. Шапошникова назначенный на смену ему начальником Генштаба, был сыном священника, и отец его еще был жив.
Церковь благословила Отечественную войну Русского народа, и Благословение это было утверждено на Небе. От Престола Всевышнего и возгорелся дух России!.. Сколько старших офицеров, не говоря уже о солдатах, молились перед боем! Многие командиры, да и сам маршал Жуков, говорили перед боем: «С Богом!». Один офицер, сидевший на связи с летчиками во время боевых вылетов, рассказывал, что часто слышал в наушниках, как пилоты горящих самолетов кричали: «Господи! Прими с миром дух мой!..».
Тогда же были открыты духовные семинарии, академии, возобновлена Троице-Сергиева Лавра, Киево-Печерская Лавра и многие монастыри. Было решено перенести мощи святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси в Богоявленский собор, где стояла всю войну та самая чудотворная икона Казанской Божией Матери, которая была с ополчением 1612 г. Наступило время возвращения Веры на Русской земле, как и предсказывали наши святые.
В. Сталин исполнил своё обещание и в октябре 1947 г. пригласил митрополита Илию в Россию.
Перед приездом гостя Сталин вызвал владыку Алексия, ставшего тогда уже Патриархом, и спросил: «Чем может отблагодарить Русская Церковь митрополита Илию?». Святейший предложил подарить митрополиту Ливанскому икону Казанской Божией Матери, крест с драгоценностями и панагию, украшенную драгоценными каменьями из всех областей страны, чтобы вся Россия участвовала в этом подарке.
Митрополит Илия прибыл в Москву, встретили его торжественно. На церемонии-встрече ему преподнесли икону, крест и панагию. Он был растроган до глубины души! Он говорил, что всю войну день и ночь молился о спасении России. «Я счастлив, – сказал владыка Илия, – что мне довелось стать свидетелем возрождения Православной Веры на Святой Руси и увидеть, что Господь и Божия Матерь не оставили вашу страну, а напротив – почтили ее особым Благоволением.
Тогда же Правительство наградило его Сталинской премией за помощь нашей стране во время Великой Отечественной войны. От премии Владыка отказался, сказав, что монаху деньги не нужны: «Пусть они пойдут на нужды вашей страны. Мы сами решили передать вашей стране 200 000 долларов для помощи детям-сиротам, у которых родители погибли на войне», – сказал митрополит Илия.
Я уже говорил, что в моей семье тоже есть небольшой список иконы, размером 10 х 8, заключённой в раму 16 х 14 см.
Во время депортации нашей семьи в Германию в Рождество Христово – 7 января 1944 года икона во все последующие дни была вместе с нами до возвращения на родину. Сегодня трудно разделить понятия судьбы нашей семьи от судьбы иконы. Ведь и она тоже могла сгореть в лесном пожаре под Мадоной, в латышском лесу. Шесть раз я и мои родители находились на краю реальной гибели. От смерти нас отделяли секунды и метры. По нынешним меркам восприятия – это гигантское чудо! И совершить подобное деяние могла только наша ангел-хранительница, та самая икона, которую мы сами оберегали пуще самой жизни. Не успел я прижизненно расспросить родителей, кто из них носил икону, но проведя мысленно реконструкцию тех событий, прихожу к мысли, что её носила моя мама, так как при отце были инструменты сапожного ремесла. Ему иногда удавалось подрабатывать на хлеб на ремонте обуви. Как сейчас помню, у него был сапожный молоток, шило, остроконечный самодельный нож из широкого металлического полотна, несколько пар колодок и берёзовые плитки для изготовления деревянных гвоздей. В мамином заплечнике, в холщёвом самодельном рюкзаке, порою и хлеба-то не было, но всегда при себе была икона. Она-то и вселяла веру в то, что помощь обязательно придёт, и спасёт нас в трудный час. Ну а дальше - судите сами!
После бомбёжки советскими самолётами речной переправы и автоколонны с узниками, нам удалось бежать в лес, благо он был с двух сторон от дороги. Уже само по себе, удавшийся побег – это чудо! Сбежало нас тогда шесть человек (я с родителями, землячка Зина с дочерью Валей и мужчина, имя которого я не помню). Остальных узников фашизма немцам удалось довезти до места назначения. Это были соляные шахты в двухстах километрах западнее Берлина. Их потом освободили наши союзники – американцы.
Находясь в лесу, нас обстреляли «Катюши». Это был начальный этап наступления Второго Прибалтийского фронта, под командованием И. Х. Баграмяна. С двух сторон от нас загорелся строевой сосновый бор. Дым начал застилать свободное пространство. Ещё несколько минут и огонь поглотил бы и нас. В этот момент я впал в истерику, вцепился в материнский подол и стал родителей умолять: «Мамочка, папочка, молитесь Боженьке!» Мы стояли, обнявшись и плакали в ожидании неминуемой смерти. И в этот момент к нам подбежал папин знакомый и говорит ему: «Иван Иванович, рядом лесная тропа проходит, кажется здесь хутор недалече, давай убегать от огня по ней. Мама недавно в лесу отловила заблудшую козу, и они первые побежали за мужчиной. Меня отец посадил на плечи, и мы поспешили за ними. Я продолжал реветь от страха. Едва группа отошла на три-четыре десятка метров, от нашей шалашки, как сзади раздался взрыв. Прямое попадание артиллерийского снаряда раскидало ветки шалаша, а один из осколков снаряда достал козу, и мы лишились кормилицы. Остальных, даже не царапнуло! Какие-то секунды отделяли нас от верной гибели. Это ли не чудо! Вырвавшись из огненного плена, вскоре мы действительно оказались на заброшенном хуторе. Куда идти дальше? Кругом всё горело и грохотало. Нужно было кому-то пойти в разведку. Отец мой не мог пойти по-инвалидности. Он страдал глухотой с детства. С нами была ещё землячка Зина с дочерью Валей, моего возраста. И тогда выбор пал на мою маму и тётку Зину. Как потом рассказывала моя мама шли они крадучись в мелколесье, прислушиваясь к звукам. И вдруг они услышали в кустах какую-то Человеческую речь. У меня, как говорила мама и матка опустилась. От страха мы прижались к земле и замерли. Такая предсмертная тоска взяла, столько настрадаться и вновь на фашистов нарваться. Как-то наши дети одни выживут? И вдруг мы, рассказывает мама, услышали русскую матерную речь: «Ванька, «засланец грёбаный» (из песни слов не выкинешь), мы вскочили и закричали: «Миленькие, родненькие!» «Стой, кто идёт?» «Да свои, беженцы!» Тут к нам подбежал какой-то командир-красноармеец. «Кто вы и откуда?» Узнав с какого направления мы пришли и, что у нас на хуторе мужики и дети остались, он прямо на наших глазах побледнел, но тут же распорядился двум солдатам бежать на этот хутор и вызволять оттуда людей. Через сорок минут предстоял артиллерийский обстрел этого квадрата, где находился наш хутор. До него было примерно четыре километра.
Ну а мы, вышли на крыльцо и стали всматриваться в сторону, куда ушли наши мамы.
Вдруг папа заметил, что в конце поля бегут наши разведчицы, а за ними гонятся два солдата. Он стал закатывать рукава, готовиться к рукопашной драке с немцами. Приятель последовал его примеру. А красноармейцы, заметив нас, быстренько перегнали женщин и бросились прямо к нам. Один схватил меня, а второй Валю, и, развернувшись вокруг отца и дядьки, бросились бежать от хутора. Наши мужики побежали за ними. Едва спасители и спасённые добежали до конца поля, от того хутора остались только одни щепки. Это ли не очередное чудо! Кто-то уводил нас от погибели.
Значит – это кому-то было нужно, чтобы я выжил в пекле той войны и реализовал, впоследствии, свой творческий потенциал. И когда передо мной встал вопрос что делать со своей коллекцией произведений искусства, я решил подарить её городу, в знак благодарения чудотворной иконе Казанской Божией Матери за всё, что она сделала, делает и будет делать во имя утверждения Веры в наших душах!
Свидетельство о публикации №218110600912