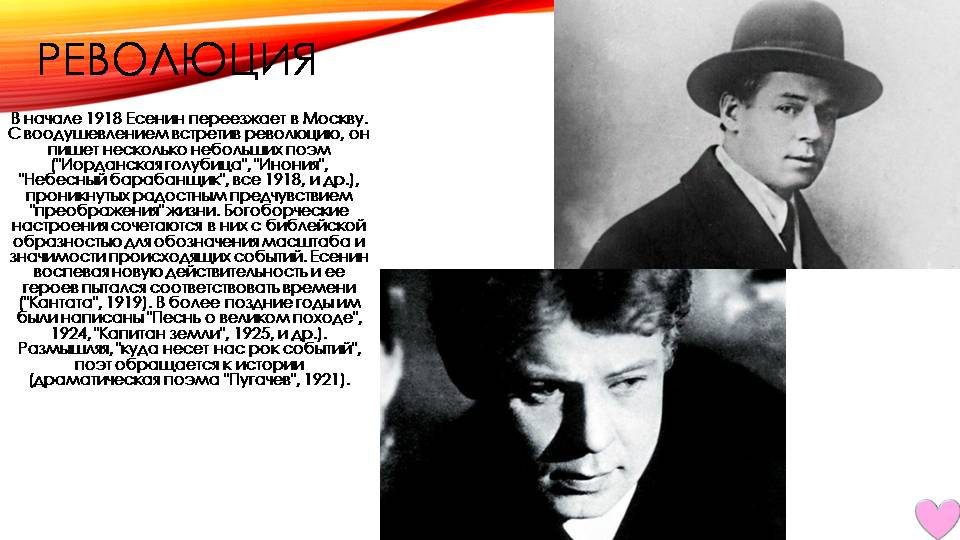Христианские мотивы и их переосмысление в Инонии
В начале ХХ века произошла переоценка традиционных для этического сознания категорий вечных человеческих ценностей. Разлом, катастрофичность того времени определяли новое по отношению к великим традициям русской литературы ХIХ века сознание. Культ индивидуалистической, «абсолютно свободной» личности, тяготеющей к «сверхчеловечеству», самообожествлению, размытость критериев добра и зла, возможность равно воспевать «Господа и дьявола», любовь и грех были характерны для предреволюционного времени. Именно в этот период художественное творчество приобретает особое символическое значение: поэты, используя новые формы и средства, отражают в произведениях свое восприятие переломной эпохи.
В эту эпоху жил и творил великий русский поэт Сергей Александрович Есенин. Особое внимание в его творчестве занимают революционные поэмы 1917-1918 годов, одной из которых является «Инония» (1918) - противоречивая и вызвавшая огромное количество отзывов в литературной среде поэма, где «пророк Есенин Сергей говорит по Библии», провозглашая иную веру и представляя новую Русь в образе утопической страны Инонии.
Предметом исследования в данной курсовой работе являются христианские мотивы и образы в поэме С. А. Есенина «Инония».
Целью работы является выявление есенинского взгляда на христианские образы и мотивы и их переосмысление в рассматриваемой поэме.
Из поставленной цели вытекают следующие задачи:
1. Характеристика «нового религиозного сознания», характерного для предреволюционной эпохи и повлиявшего на особенности становления мировоззрения С.А. Есенина.
2. Изучение личностного и творческого влияния новокрестьянских поэтов (в частности, Н.А. Клюева) на творчество С.А. Есенина.
3. Ознакомление со статьями критиков и литературоведов о поэме С.А. Есенина «Инония».
4. Выявление и анализ христианских образов и мотивов, а также рассмотрение их трансформации в поэме С. А. Есенина «Инония».
Методологической базой исследования послужили труды Ю.М. Лотмана, В.Е Хализева, С.А. Токарева.
Раздел 1. «Новое религиозное сознание» в предреволюционную эпоху.
Начало ХХ века характеризуется особым «духом эпохи», когда все были охвачены идеей поиска новой жизни и, в том числе, нового религиозного сознания. Кризис прежних исторических представлений выразился прежде всего в утрате универсальной точки отсчета, того или иного прочного мировоззренческого фундамента. Наиболее емкой формулой этого кризиса стала фраза немецкого философа и филолога Ф. Ницше: «Бог умер» . Новые научные открытия резко противоречили представлению о структурной завершённости мира: то, что прежде казалось стабильным, обернулось текучестью, неустойчивостью, бесконечной подвижностью. Произошла переоценка традиционных для этического сознания категорий вечных человеческих ценностей. Важными тенденциями духовных поисков стали «возрастание внимания к личности, отказ от традиционного морализма, максималистский характер многих мировоззренческих систем» .
Разлом, катастрофичность не только времени, но и сознания определяли новую по отношению к великим традициям русской литературы ХIХ века идеологию. Культ индивидуалистической, «абсолютно свободной» личности, тяготеющей к «сверхчеловечеству», самообожествлению, размытость критериев добра и зла, возможность равно воспевать «Господа и дьявола» не только отражали катаклизмы времени, но вольно и невольно формировали сознание, не способное противостоять злу, не готовое к тем испытаниям, которые принесёт ХХ век.
Основной спецификой «нового религиозного сознания» стало стремление к универсальному синтезу, к соединению в одно разных сфер бытия человека в мире: религии, политики, социального устройства, быта и личной жизни. Новое религиозное сознание сочетало в себе критическое отношение к историческому христианству, в вину которому вменялась его однобокость, непоследовательность в реализации идеалов. Например, считалось, что христианская церковь, абсолютизировав духовное начало в человеке, возвела на пьедестал аскетическую монашескую жизнь и, при этом, совершенно не освятило природную, плотскую составляющую человеческой природы. Отсюда выводилась мысль о необходимости радикальных перемен, создания нового религиозного учения: «Историческое христианство не вмещает всей полноты религиозной истины: будучи противоположным язычеству и ветхозаветной религии, оно утверждает односторонний аскетизм, бегство от земли на небо, вражду к культурному прогрессу» . В этот период получают широкое распространение взгляды, согласно которым церковь исказила подлинную суть учения Христа и её необходимо восстановить. Неудивительно, что для той эпохи был столь характерен повышенный интерес к различного рода религиозным практикам, магии и оккультизму, одновременно возрастал и интерес к религиозным представлениям простого народа: считалось, что в отличие от мертвой церковной религиозности, вера народа жива и непосредственна. Особое значение придавалось мистицизму, а «мертвой схоластике» официальной церковной доктрины противопоставлялось живое чувство присутствия Божества, слияние с ним в мистическом экстазе. Отсюда возникает повышенный интерес русской интеллигенции к народным ересям и сектам (хлыстовство, скопчество), богослужебная практика которых состояла в достижении экстатического состояния всеми присутствующими на молитвенной собрании, чтобы почувствовать живое присутствие высшего начала.
На фоне интенсивной критики «исторического христианства» обостряется переживание православных взглядов как христоцентричных по преимуществу. Никогда Личность Христа не привлекала столько внимания множества людей культуры, как во времена Серебряного века, но в то же время каждый писатель, поэт, художник воспринимал и отражал в своем творчестве Христа таким, каким Его понимал. Серьезным испытанием для русской мысли стало ощущение скорого явления фигуры Антихриста. Мыслителей Серебряного века поразило пророчество К. Леонтьева о том, что России суждено породить Антихриста, прямую весть о котором увидел Н. Фёдоров в образе сверхчеловека Ницше.
С «новым религиозным сознанием» связано так называемое «богоискательство» - течение, инициатором которого был теоретик русского декадентства Д.С. Мережковский. Суть его состояла в стремлении к обновлению христианства и культуры, к свободной, полнокровной, религиозно насыщенной общественной и индивидуальной жизни. Корни этого явления его представители усматривали в русской идеалистической философии и в космизме (Чаадаев, славянофилы, Леонтьев, Федоров), но прежде всего в философских исканиях Вл. Соловьева («Чтения о Богочеловечестве», «Оправдание добра»), Достоевского («Братья Карамазовы») и Толстого, чьи произведения «Исповедь», «В чём моя вера?», «О жизни», «Христианское учение» породили религиозно-этическое общественное течение – «толстовство», благодаря распространению которого предполагалось на месте существующего общества и государства создать общежитие свободных и равноправных крестьян.
Все эти еретические направления русской религиозной мысли ХХ века, обусловленные трагическим содержанием эпохи, отразились в мотивах творчества новокрестьянских поэтов, в мировоззренческих позициях которых обозначились взгляды, близкие толстовству, хлыстовству и скопчеству. Поэтика произведений новокрестьян во многом формировалась под влиянием символисткого периода литературы (идея мистического преображения мира, мессианская роль России) и объединяла в себе традиции многих религиозно-философских течений Серебряного века. Более всего новокрестьянскими писателями была воспринята хлыстовщина с ее идеологией обожения человеческой плоти, преображения смертного во Христа и Богородицу.
В целостной мифопоэтической модели мира новокрестьян центральным является миф о земном рае, воплощенный через библейскую образность. Так, например, основной особенностью в произведениях Н. А. Клюева, а в дальнейшем и С.А. Есенина – его ученика, было изображение крестьянского мира Руси в символических образах сада, пастуха, урожая как библейского рая, где царит гармония двух миров: земного и небесного. Крестьянин здесь воспринимается как духовный пастырь, сопричастный вселенной, а сама Русь является избранным краем.
Неслучайно, что В. Вейдле сказал об умонастроении своей эпохи: «Новое религиозное сознание» – не философская, а литературная идея». Литература Серебряного века дала и новое отношение к слову: оно приравнивалось «к поступку и демиургической акции. Сама духовная атмосфера начала века провоцировала поэтов на художественное новаторство. Футуристы полагали, что создавая слово, они создают новую реальность; символисты творили альтернативные миры; имажинисты стояли за первозданные краски наивного мира».
Раздел 2. Формирование религиозных взглядов С. А. Есенина.
2.1 Отношение С.А. Есенина к христианству.
Есенин, воспитанный в христианской семье, с самого рождения был посвящен в русскую патриархальную, религиозную культуру, где он усвоил основы христианского вероисповедания. Бабушка будущего поэта водила внука в монастырь, а собравшиеся в ее доме слепцы, странники, «божьи люди» напевали духовные стихи – о рае, о Лазаре, о Миколе, о граде неведомом. Все эти темы потом отразятся в его дальнейшем творчестве. Священную историю будущему поэту излагал дед Ф.А. Титов – знаток духовных стихов и Библии. Но, несмотря на все попытки приобщения к православной вере, все-таки, как позже писал Есенин о годах детства в своей автобиографии: «В Бога верил мало. В церковь ходить не любил» – он в итоге так и не смог стать смиренным и покорным христианином, а совсем наоборот – «скинул с себя крест», получив прозвище «безбожник», а по природе своей так и остался «забиякой и сорванцом». Тем не менее, отношение Есенина к Библии было довольно трепетное и, можно сказать, даже благоговейное: «Мне понравилось, что там так всё громадно и ни на что другое в жизни не похоже. Было мне лет двенадцать – и я всё думал: вот бы стать пророком и говорить такие слова, чтобы было и страшно, и непонятно, и за душу брало» . Впоследствии, он и осмелится в поэме «Инония» «говорить по Библии» как самый настоящий «пророк Есенин Сергей». Так, со временем отношение к Божеству в поэзии Есенина будет весьма неоднозначным, постоянно колеблемым от восторженного поклонения, до непомерного богохульства.
В семнадцать лет он пишет своему другу Г. Панфилову: «Гриша, в настоящее время я читаю Евангелие и нахожу очень много для меня нового…Христос для меня – совершенство». Сам Есенин, судя по письмам к Г. Панфилову, верил во Христа «чисто и свято, не из страха смерти, а как в совершенного и «одаренного светлым умом человека, как в благородную душу», образец великого милосердия и подлинной любви к ближнему, при всем при этом, однако подвергая сомнению Божественную сущность Христа. Литературоведы упоминают о том, что Есенин «идеализировал образ Христа» и что «настойчивый поиск им социальных, нравственных устоев в жизни своеобразно переплетается с религиозными исканиями «новой веры» .
Христос, как считал Есенин, указал, как надо жить, но не сказал, ради чего следует жить. Поэтому истину жизни он определил для себя как единство всего мира, получившее выражение в том, что «все люди - одна душа». Данное убеждение неопровержимо привело к заключению о тождестве человека и Христа: «Люди, посмотрите на себя, не из вас ли вышли Христы и не можете ли вы быть Христами? Разве я при воле не могу быть Христом, разве ты тоже, - спрашивал он Панфилова, не пойдёшь на крест, насколько я тебя знаю, умирать за благо ближнего?» . Эта идея характерна не только для Есенина – религиозное богоборчество, сектантство и вольнодумство проходило через весь Серебряный век.
2.2. С. А. Есенин и новокрестьянские поэты.
Религиозные искания Есенина были созвучны исканиям русской литературной интеллигенции 1900-1910-х годов – от Д.С. Мережковского и В. Розанова до В. Маяковского. Розанов рассуждал о постхристианской эре, которая наступит после всего описанного в Апокалипсисе; неохристианин Мережковский внес в умы ХХ века еретическую концепцию Царства Духа, Третьего Завета, который последует за Ветхим Заветом Отца и Новым Заветом Сына. Маяковский писал о земном рае, о футуристическом благоденствии, о грядущем новом человеке, о будущей гармонии, так же, как и С. А. Есенин, обращаясь к библейским мотивам.
В мировоззрении С. Есенина органично объединились два начала – христианское и крестьянское, синтез которых был основной идеей творчества новокрестьянских писателей, оказавших значительное влияние на его поэзию.
Основными особенностями художественного мышления новокрестьян были поэтизация мира деревенской Руси с ее духовной самобытностью, верованиями, патриархальным устройством жизни и переплетение христианских мотивов с элементами язычества, старообрядчества, хлыстовства. В их творчестве во всей полноте нашло выражение мироощущение человека, близкого земле и природе, отразился уходящий мир русской крестьянской жизни с его культурой и философией, а поскольку понятия «крестьянство» и «народ» были для них равнозначными, – то и глубинный мир русского национального самосознания.
В целостной мифопоэтической модели мира новокрестьян центральным является миф о земном рае, воплощенный через библейскую образность. Лейтмотивными здесь выступают образы сада (у Клычкова – «потаенного сада»), вертограда; символы, связанные с жатвой, сбором урожая (Клюев: «Мы - жнецы вселенской нивы...»). Мифологема пастуха, восходящая к образу евангельского пастыря, скрепляет творчество каждого из них. Себя новокрестьяне называли пастухами (Есенин: «Я пастух, мои палаты - // Межи зыбистых полей»), а поэтическое творчество уподобляли пастушеству (Клюев: «Златороги мои олени, // табуны напевов и дум»).
Воспевая крестьянство как главную созидательную силу, они усматривали в революции не только крестьянское, но и христианское начало. «Февральскую и Октябрьскую революции новокрестьянские писатели увидели глазами «скифов»: восприняв народные движения как стихийное явление, скептически относясь к буржуазности, они осмыслили революцию как духовное преображение России» .
Есенину было близко творчество новокрестьянских поэтов, особенно ему были близки метафизическое содержание и метафорическая поэтика Н. А. Клюева, которого он считал своим учителем. Обнаружив в его поэзии уже зрелое выражение близкого ему поэтического мироощущения, в апреле 1915 г. обращается к Клюеву с письмом: «У нас с Вами много общего. Я тоже крестьянин и пишу так же, как Вы, но только на своем рязанском языке» . Из народного поэтического творчества пришли в поэзию Н. А. Клюева таинственные образы града Китежа, Белой Индии, Китовраса, сказочных птиц и зверей, былинных и сказочных героев. Как и многие представители старообрядчества, Клюев противопоставлял таинственной правде народной жизни, к которой приобщаются только избранные поэты, «мертвую» книжную правду официальной культуры, доступную всем и лишенную тайны жизни. Есенин так же склонен был усматривать старообрядческие корни в своей родословной. Как и Клюев, он был родом из верующей семьи; сюжеты духовных песен слепцов, странников о рае, о Миколе, о граде неведомом, рассказы Ф. А. Титова, знавшего Библию и духовные стихи, отразились в творчестве Есенина, в частности, в его ранней религиозной лирике, насыщенной церковной и библейской образностью.
Также Есенин – участник альманахов Иванова-Разумникова «Скифы» 1917 и 1918 годов, романтически ориентированных на революционность, непримиримый дух, независимую личность, на идею преображения России, выступивших против интернационального Мещанина. «Скифство» стало почвенничеством ХХ века, скифы верили в мессианскую стезю России и её особый путь.
Под влиянием Клюева и Иванова-Разумникова поэт ассоциировал земной крестьянский рай с революционной идеей, с новым образом России, что нашло дальнейшее отражение в поэмах 1917-1918 годов. И Февральскую, и Октябрьскую революцию он принял как крестьянские и христианские по содержанию, цель которых - воплотить на земле христианский и крестьянский социализм.
Раздел 3. Поэма «Инония» как революционное пророчество
С. А. Есенина.
3.1. Творческий замысел поэмы «Инония».
Революция 1917 года стала потрясением для современников. Ни один серьезный художник не прошел в своем творчестве мимо этой темы. Так, А. Блок откликнулся на нее в поэме «Двенадцать», затем А. Белый создал поэму «Христос воскрес», в которой символика обновления и воскресения пронизывает весь текст.
Русская христианская культура склонна осмыслять исторические потрясения, будь то война или внезапная и кардинальная смена власти, сравнивая их с событиями библейской истории: Преображением, распятием, Воскресением и, наконец, Апокалипсисом. В искусстве и, в частности, в поэзии времен революции и Гражданской войны эта тенденция проявилась особенно ярко, соединившись со стремлением господствовавшего тогда модернизма, к мистическому толкованию истории.
После революции страна разделилась на два «лагеря»: на ее сторонников и противников. Разумеется, в зависимости от этой позиции варьировалась и библейская образность в гражданских стихах. Так, для поэтов, революцию поддержавших, наиболее частыми стали мотивы Преображения, Воскресения, наступления Царствия Божия на земле. К одним из таких в первые послереволюционные годы относился и С.А. Есенин, поскольку верил в то, что революция преобразит Русь и создаст крестьянский рай на земле.
Более всего поэт склонен к метафизическому осмыслению революционных событий в стране. Его крестьянско-христианская революция получила наибольшее освещение в цикле религиозных поэм-утопий 1917-1918 гг.
«В маленьких религиозно-революционных поэмах «Товарищ», «Певущий зов», «Отчарь», «Октоих», «Пришествие», «Преображение», «Сельский часослов», «Инония», «Иорданская голубица», «Небесный барабанщик», «Пантократор» говорилось о Богом избранной стране России, предназначенной быть земным раем. Февральская революция трактовалась в поэмах как революция мужика-старообрядца – ловца вселенной, подобного библейскому пастырю» .
Революция в этих поэмах связана с наступлением совсем иной жизни, рождением новой России, оттого сильна символика Рождества и Преображения, в которой, впрочем, не обошлось без еретичества и даже явного кощунства. Причем тема Инонии – поэмы о разрушении старого и рождении иного мира и веры, уже звучит в лирике и поэмах 1916-1917 годов. Например, в стихотворении «О, Русь, взмахни крылами…»: «О Русь, взмахни крылами, // Поставь иную крепь! // С иными именами // Встает иная степь» .
В черновике автобиографии «О себе» (1925) Есенин заметил: «В начале 1918 года я твердо почувствовал, что связь со старым миром порвана, и написал поэму «Инония»10. В ней особенно ярко отразилась революционная идея крушения старого устройства мира, основанного на «историческом христианстве» и воссоздания совершенного «крестьянского рая» в слиянии мира земного и небесного (чему уделяет значение Есенин в статье «Ключи Марии») во главе с новым Богом. Известно, что поэт одно время рассматривал «Инонию» как часть более широкого творческого замысла: так, в анонсе газеты «Знамя труда» она именовалась только отрывком из поэмы «Сотворение мира». В. С. Чернявский, часто встречавшийся с поэтом в октябре-декабре 1917 года, вспоминал: «Про свою «Инонию», еще никому не прочитанную и, кажется, только задуманную, он заговорил со мной однажды на улице, как о некоем реально существующем граде, и сам рассмеялся моему недоумению: «Это у меня будет такая поэма... Инония – иная страна» .
3.2. Крушение старого мира и прообраз новой Руси.
Идея твор¬чес¬тва, рав¬ная по зна¬чимос¬ти ак¬ту бо¬жес¬твен¬но¬го пер¬вотво¬рения и на но¬вом эта¬пе раз¬ви¬тия – твор¬ческо¬му пе¬реде¬лу ми¬ра и но¬вого стро¬итель¬ства, с «пафосом от¬ри¬цания» про¬воз¬гла¬шена в «Ино¬нии»: «Да¬же Бо¬гу я вы¬щип¬лю бо-роду // Оска¬лом мо¬их зу¬бов… Я иным те¬бя, Гос¬по¬ди, сде¬лаю, // Что¬бы зрел мой сло¬вес¬ный луг!»(2,62). За¬печат¬ленное в «ма¬лень¬кой по¬эме» сос¬тя¬зание с Твор¬цом в обустройстве Все¬лен¬ной и да¬же бо¬гос¬тро¬итель¬ство – сот¬во¬рение ино¬го Бо¬га, – все эти идеи давно «ви¬тали в воз¬ду¬хе» в предре¬волю¬ци¬он¬ную эпо¬ху.
В поэме «Инония» богоборчество Есенина достигло наивысшего пика, т.к. отвергая старую Россию и вместе с ней и старую религию, он фактически отрекается от Христа и ищет нового Бога: «Я иным Тебя, Господи, сделаю». Также он провозглашает страшные слова: «Тело, Христово тело // Выплевываю изо рта» (2, 61). Блок записал в своем дневнике комментарий самого Есенина по поводу этих строк: «Я выплевываю Причастие не из кощунства, а не хочу страдания, смирения, сораспятия. Мой Бог – это Бог живых, это наше понимание, крестьянское . Есенинская Инония – страна, где нет места страданиям и Кресту, где «Новый на кобыле / Едет к миру Спас» (2, 68).
Есенин также утверждает иные отношения человека с Богом, отвергая отражённую в учении христианской церкви модель взаимоотношений: человек – раб Божий. Скорее теперь человек сам заново пересоздает Бога таким, каким его воспринимает, и преобразует мир по своим идеалам.
Революция в России осмысляется как событие поистине вселенского масштаба, как глобальный передел сложившегося в мире порядка. Есенин намеренно возвеличивает русский народ, превращая его в «божество живых», показывая его могущество, но снижая при этом роль христианских святынь и Самого Христа.
Отвергая прежнюю религию, поэт все же не мыслит себе мир без Бога. Инония в поэме предстает как страна с новым Спасом. Вера в Инонии – «без креста и мук», религия Преображения, религия Воскресения без Голгофы, а бог в Инонии – коровий, т.е. крестьянский: «По иному над нашей выгибью // Вспух незримой коровой Бог» (2, 64). Именем как раз этого варварского «коровьего бога» пророк Есенина разоряет и Китеж с Радонежем, и бездуховную Америку, пускающую по «морям безверия» «железные корабли». Сама матушка-земля разломлена, как «златой калач»…
Сергей Радонежский, как известно, один из наиболее почитаемых святых Русской православной церкви. Проклятием Радонежу поэт в лишний раз подчеркивает свое негативное отношение к официальной религии, предрекая гибель всем тем, кто не понимает смысла происходящих событий: «Говорю вам – вы всепогибнете, // Всех задушит вас веры мох. // По-иному над нашей выгибью //
Вспух незримой коровой Бог» (2, 64).
Апокалиптические картины поэмы знаменуют лишь крушение старой вселенной, изжившей себя духовно, но источником этой великой катастрофы является не злой рок и не божественная воля, а собственный прорыв человека в новые высокие сферы. Лирический герой настаивает на неизбежности, неминуемости преобразования мира.
Вера в Бога, во Христа, для Есенина, не смотря ни на что, продолжает сохранять значение. Но, какова же эта светлая страна «Инония», наступление которой так радостно предвещает лирический герой поэта? Ее подробных описаний Есенин нигде не дает. Картины грядущего рая в его стихах даны скупо, без подробного описания деталей. Но и из этих описаний ясно, что прекрасное светлое будущее имеет архаические черты. Новый мир – крестьянский мир, мир нив и изб: «вижу нивы твои и хаты».
Заканчивается поэма видением светлого образа прекрасной страны «Инонии», где царят всеобщие мир и радость: «В синих отражаюсь затонах //
Далеких моих озер // Вижу тебя, Инония // С золотыми шапками гор» (2, 67).
В последних строках сюжет получает неожиданный поворот. Поруганные в начале христианские святыни, теперь прославляются. Звучит хвалебная песнь Богу.
В новом мире, по мысли поэта, место Богочеловека займет человекобог – духовный титан, уповающий не на Бога, а на свою мощь и силу, способный совершить «революцию на земле и на небесах». Именно такую новую веру во всемогущество обновленного человека призван утвердить в мире есенинский «новый Спас», выразитель идеала «нового Назарета» – новой духовной реальности, воплотившейся в мире.
Раздел 4. Христианские мотивы и образы в поэме С. А. Есенина «Инония» и их художественное переосмысление.
4.1. Определение литературоведческих терминов «мотив» и «образ».
Известно, что С. А. Есенин придавал большое значение метафоричности и художественной образности во всех своих произведениях; особую теорию своих литературных образов он содержательно раскрыл в статье «Ключи Марии» (1918). Рассмотрим, используя определения литературоведческих терминов «мотив» и «образ», основные христианские образы и мотивы у Есенина в поэме «Инония».
Итак, мо¬тив – это «ком¬по¬нент про¬из¬ве¬дений, об¬ла¬да¬ющий по¬вышен¬ной зна-чимостью (се¬ман¬ти¬чес¬кой на¬сыщен¬ностью). Он ак¬тивно при¬час¬тен те¬ме и кон-цепции (идее) про¬из¬ве¬дения, но им не тож¬дес¬тве¬нен. Важ¬ней¬шая чер¬та мо¬тива – его спо¬соб¬ность ока¬зывать¬ся по¬луре¬али¬зован¬ным в тек¬сте, яв¬ленным в нем не¬пол-но, за¬гадоч¬ным…» Мотив так или иначе локализован в произведении, но при этом присутствует в формах самых разных. Он может являть собой отдельное слово или словосочетание, повторяемое и варьируемое, или представать как нечто обозначаемое посредством различных лексических единиц, или выступать в виде заглавия либо эпиграфа, или оставаться лишь угадываемым, ушедшим в подтекст» .
Художественный образ – это «всеобщая категория художественного творчества; присущая искусству форма воспроизведения, истолкования и освоения жизни путем создания эстетически воздействующих объектов. Под образом нередко понимается элемент или часть художественного целого, обыкновенно – такой фрагмент, который обладает как бы самостоятельной жизнью и содержанием…» .
На основании приведенных определений рассмотрим христианские мотивы и художественных образы поэмы С. А. Есенина «Инония», а также проанализируем, как они переосмысляются поэтом.
4.2. Переосмысление христианских мотивов и образов в поэме С.А. Есенина «Инония».
Следуя традиции новокрестьянских поэтов, Есенин придаёт религиозное значение революционному перевороту, отсылая читателя к образу библейского пророка. Неслучайно поэма «Инония» посвящена Иеремии – одному из легендарных пророков Ветхого Завета, обличавшему пороки людей и боровшемуся за освобождение родной земли. Когда Иерусалим был разрушен, Иеремия, оплакивая пепелище родного города, не покинул своей земли. Скрыв огонь, взятый им с жертвенника разрушенного храма, он предсказал приход нового царя. Побитый камнями, он умер, не отказавшись от своих убеждений. Так и Есенин в своей поэме готов принять муки, страдания и преследования ради светлой жизни:
Не устрашуся гибели,
Ни копий, не стрел дождей, -
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей (2,61).
Сионом называлась священная гора, где, по преданию, было жилище Бога. Пророки часто именовали Сионом царство Божие на земле и на небе. Сион «радуется» рождению Руси, которая в представлении поэта становится таким же священным краем, каким является в христианстве город Назарет.
Вкраплённые в текст поэмы мотивы из Евангелия (например, такие, как Преображение, Вход Господень в Иерусалим) и библейские образы играют ключевую роль в поэме. Эти мотивы выступают с противоположным евангельскому смыслу наполнением, поскольку связываются с пришествием нового «Спаса», едущего «на кобыле» (т.е., как завоеватель) созидать новый мир.
Особому переосмыслению подвергается в поэме «Инония» евангельский мотив спасения души через физическое страдание: «Не хочу восприять спасение через муки его и крест» (2, 61).
В христианстве крест является символом Голгофской жертвы Христа для искупления грехов во имя спасения человечества. Есенин отказывается от старой веры и провозглашает «коровьего бога». Вместо креста и учения о спасении через страдания – учение «прободающих вечность звёзд».
Евангельский мотив о заблудшей овце, которая потеряла своего доброго пастыря: «Как овцу от поганой шерсти, я // Остригу голубую твердь»; «Не осветят они пришествия, // Бегущего овцой по горам!» (2, 61).
Овца – символ кротости, терпения и повиновения, мягкости, любви, жертвенности.
Нередко упоминается в библейских притчах заблудшая овца как образ человека, отошедшего от веры. Нужно проявить мощь и силу, чтобы справиться со «старым миром», а для этого необходимо искоренить смирение, покорность и страх. В таком случае образ приобретает совершенно другое значение, символизируя скорее безынициативность, глупость, слепое подражание и рабское поклонение.
Далее следует образ петуха: «И над миром с незримой лестницы, // Оглашая поля и луг, // Проклевавшись из сердца месяца, // Кукарекнув, взлетит петух» (2, 67).
Петух связан с евангельским мотивом об отречении Петра «…Истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды» (Ин.13:38). В Новом Завете образ петуха имеет символическое значение некой решающей грани. Св. Григорий Богослов превратил петуха в аллегорию доброго пастыря, поскольку тот «крыльями бьет по чреслам своим (кается) прежде, чем возвышает голос свой» – олицетворение истинного проповедника Евангелия, повествующего о пришествии Рассвета-Христа.
С петухом связывается и символика воскресения из мёртвых, вечного возрождения жизни. Петух знаменует собой начало явления новой жизни. После того, как петух прокукарекал, лирическому герою поэмы открывается Инония, созданная в его воображении как идеал детства с «золотыми шапками гор», с «нивами и хатами». До этого момента она казалась недосягаемой для восприятия.
Образ Агнца, поливающего кровь: «Словно полымя, с белой шерсти его брызнет теплая кровь во мглу» (2, 66).
В христианстве образ Агнца – Христос, берущий на Себя грехи мира: Агнец символизирует Спасителя и Его искупительную жертву.
Есенин провозглашает нового «коровьего» бога, который заменит христианского Агнца, Жертву Которого лирический герой поэмы не принимает, поскольку отвергает страдание во имя духовного обновления.
Образ словесного яйца: «Я сегодня снесся, как курица, // Золотым словесным яйцом» (2, 67).
В христианстве яйцо означает воскресение, восстановление, вторичное творение, надежду. Христос – Бог – Слово (Ин. 1:1) , а «словесное яйцо» – Его учение.
Поэт, используя этот образ, провозглашает, что произойдёт возрождение и обновление, будет создан иной мир с иным Богом. Но «золотое словесное яйцо» подразумевает не новый мир, а хаос и грядущую катастрофу.
Образ радуги: «Кто-то с новой верой, // Без креста и мук, // Натянул на небе // Радугу, как лук» (2, 67).
С библейскими представлениями о всемирном потопе (Быт. 9: 8-17) связано восприятие радуги как божественного знака примирения и благодати.
Радуга – символ радости и избавления от всех страданий и бед, символ союза земли и неба, завета Бога с человеком. «Появление радуги на небесах Ионии может означать только одно – благословение Третьему Завету, «начертательницей» которого Есенин в другой своей поэме («Сельский часослов») провозгласил Россию» . Поэт связывает представление об обновлении жизни с новыми возможностями для творчества.
Подведя итоги анализа, можно сказать, что христианские образы и мотивы и в поэме «Инония» приобретают антихристианский смысл. Пророк-поэт возвещает в «Инонии» о сбывающихся в революционном перевороте мечтах Антихриста, о его свершившемся пришествии, о приближении его торжества и царства. В его царстве новые языческие «святыни», а не признанные веками «лики мучеников и святых», вера народа не в любовь и во всемогущество Христа, а только в собственные «силы и мощь», «службы» там начинаются не с благовестным звоном, а «лаем колоколов». И это – новый мир Руси в поэме Есенина становится анархическим, антихристианским, отвергающим исконно русские традиции.
Также можно сделать вывод о том, что главенствующую роль в ней занимает не образ Бога, а скорее Антихриста, приобретающего страшные нечеловеческие, звериные черты. Тело этого чудовища разрастается в нагромождении есенинских гипербол до космических масштабов, протягивается «до незримого города», до Египта, ходит по тучам, свешивается с небес, в волосах у него – то солнце, то звезды. Он может повернуть мир, выпить воздух, коленом придавить экватор, вздыбливать землю «на пики звездные», укусить Млечный путь. Он проклинает святые мечты своего народа – Китеж и Радонеж, призывает горе на сердце России – Московию, обещает «выклевать молитвы в часослове», стереть лики святых и мучеников с икон, грозится самому Богу выгрызть бороду, раздеть Христа и сделать Господа «иным», то есть чужим для народа. Это – страшное предзнаменование для всей Руси. Русь, издавна считавшаяся святой страной, становится демоническим краем с законами зла, жестокости и насилия. Все ее старые святыни заменены новыми, возвращение к старому патриархальному укладу жизни уже невозможно, и пророком этих изменений выступает Есенин как свидетель рождения новой Руси-Инонии.
Заключение
Цели и задачи работы выполнены. В ходе исследования было рассмотрено понятие «нового религиозного сознания», характерного для предреволюционной эпохи и повлиявшего на особенности становления мировоззрения С.А. Есенина.
Также изучено личностное и творческое влияние новокрестьянских поэтов на творчество С.А. Есенина. Творчество новокрестьян (главным образом Н. А. Клюева – учителя Есенина), основными особенностями которого были поэтизация мира деревенской Руси с её духовной самобытностью, верованиями, патриархальным устройством жизни и переплетение христианских мотивов с элементами язычества, старообрядчества, хлыстовства, оказало значительное влияние на художественные особенности творчества С.А. Есенина, что отразилось в его поэме «Инония».
Были выявлены и проанализированы христианские мотивы и образы, а также рассмотрена их трансформация в поэме С. А. Есенина «Инония».
В результате проведенной работы мы пришли к следующим выводам:
Христианские мотивы и образы в поэме «Инония» приобретают антихристианский смысл. Пророк-поэт возвещает о сбывающихся в революционном перевороте мечтах Антихриста, о приближении его торжества и царства. В этом царстве торжествуют новые языческие «святыни», а не признанные веками «лики мучеников и святых», вера народа теперь – не в любовь и во всемогущество Христа, а только в собственные «силы и мощь». Старый мир разрушается («все святыни проклюю часословом слов», «раскушу, как орех», «колосья хлебов прободят голубое темя», «учение прободающих вечность звезд»), а ему на смену приходит новый, выстроенный из образов вечно палящего солнца, гипертрофированной неживой природы («колесами солнце и месяц», «голубая твердь», «сверлящие воды») и коровьего бога с жестокостью, засилием титанического «я» «божества живых». Новый мир Руси в поэме становится анархическим, антихристианским, отвергающим исконно-русские традиции, и пророком этих изменений выступает лирический герой Есенина как свидетель рождения новой Руси-Инонии.
Список литературы
1.Библия. Российское Библейское общество. М., 2000.
2.Есенин С. А. Полное собрание сочинений: В 7 т. / Гл. ред. Ю. Л. Прокушев; ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. М.: Наука; Голос, 1995-2002.
3. Базанов М., Прокушев Н. Ю. Есенин и современность. М.: Совр., 1975.
4.В мире Есенина. Сборник статей. / Сост. А. А. Михайлов, С. С. Лесневский. М.: Советский писатель, 1986.
5.Карсалова Е.В., Леденцев А.В., Шаповалова Ю. М. Серебряный век русской поэзии. М., 1996.
6.Келдыш В. А., Богомолов Н.А., Корецкая И.В., Исупов, К. Г. Философия и литература «серебряного века (сближения и перекрёстки) // Русская литература рубежа веков (1890-е - начало 1920-х годов). Книга 2. ИМЛИ РАН. М., 2001
7.Коржан Е. Есенин и народная поэзия. Л., 1969.
8.Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста. СПб.,1996.
9.Марченко А. Поэтический мир Есенина. М.,1972.
10.Николюкин А.Н. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001.
11.Помогаев Н. Между Пантократором и Спасом // Религиозные образы в поэзии С. Есенина в контексте русской культуры Серебряного века. Одесса, 2008.
12.Поспелов Г.Н. Введение в литературоведение. М., 1988.
13.Прокушев Ю. Юность Есенина. М.,1963.
14.Райкен Л., Уилхойт Д. Словарь библейских образов. Библия для всех, М; 2008.
15.Роднянская И.Б. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001.
16.Серегина С.А. Андрей Белый и Сергей Есенин: творческий диалог. Дисс. на соискание ученой степени кандидата филол. наук. М., 2009.
17.Симон (Новиков), архиепископ Рязанский и Касимовский. Труды, послания, слова и речи. Рязань,1998.
18.Солнцева Н.М. Новокрестьянские поэты и прозаики: Николай Клюев, Сергей Есенин и др. // Русская литература рубежа веков (1890-е - начало 1920-х годов). Книга 2. ИМЛИ РАН. М., 2001.
19.Солнцева Н. М. Сергей Есенин, М., 1988.
20.Токарев С.А. Мифы народов мира. М., 1980.
21.Хализев В. Е. Теория литературы. М., 1999.
Свидетельство о публикации №219022201467