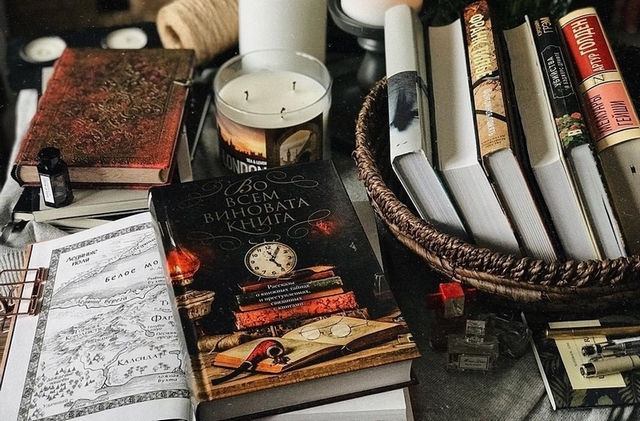Семеро смелых
Роман Захара Прилепина "Обитель" стал событием года в современной русской литературе. Выход его сопровождался неслабой медийной канонадой, а споры о нем еще долго не утихнут, поскольку роман о первом советском концлагере на Соловках противостоит как апологетам советской власти, так и ее врагам.
«Обитель» никого не может оставить равнодушным (что угодно — только не это!). Впрочем, так было с каждым крупным произведением Прилепина. Можно сказать, что он один из немногих в наше время русских писателей, у которого душа болит за свою страну, за то, что происходит с ней и с ее людьми. Не раз было отмечено самыми разными читателями, что Захар Прилепин — наиболее яркое событие в русской прозе последнего десятилетия. Известность ему принес роман о чеченской войне "Патологии". Затем прогремели и были отмечены "Санькя" (финалист "Русского Букера-2006"), «Грех», «Черная обезьяна», «Восьмерка».
Дмитрий Быков однажды очень точно обозначил главную особенность прилепинского феномена, рецензируя его также нашумевший в свое время «роман в рассказах» «ГРЕХ»:
"Не совсем понятно, что делать с Прилепиным, по какому разряду его числить. У нас такой литературы почти не было. Собственную генеалогию он возводит к Газданову и Лимонову… Самое возмутительное, что Прилепин счастлив не благодаря, а вопреки — отвратительной русской реальности, которая многих, таких, как он, давит и гонит в петлю, на иглу, на дно. И нацболом стал Прилепин потому, что ему — стыдно за ту Россию, которая вокруг него. Она рождена быть красивой, богатой и сильной, как ты, а прозябает в ничтожестве. Как так? Обидно!… Хватит внушать себе, что мир обычно хотят переделывать только убийцы. Мир хотят переделывать те, кто лучше этого мира; и далеко не всегда их труды напрасны… Еще десяток таких книг — и России не понадобится никакая революция…"
Что ж, надо признать, что «Обитель» - из такого десятка. Действие «Обители» происходит на Соловках в 20-е годы ХХ века, когда на территории бывшего монастыря появляется СЛОН – первый концентрационный лагерь, созданный Советской республикой для своих врагов – как уголовников, так и политических. В романе несколько красных скреп: судьба прадеда автора-повествователя, Артема, сидевшего в том самом лагере, жизнь разнородных его обитателей, и конечно, феномен Федора Ивановича Эйхманиса, нашего земляка, выпускника Рижского политеха, латышского стрелка Первой мировой войны, будущего чекиста, председателя ЧК Туркестана, которого мечтала убить вся Средняя Азия, первого начальника СЛОНа (Соловецкого лагеря особого назначения), главу соловецких краеведов (по совместительству зэков), организатора исторических музеев на Соловках, гениального администратора рабского труда, начальника исследовательских экспедиций в Арктику (догадайтесь в каком статусе находились те ученые и геологи?), талантливого советского разведчика, начальника 3-го отделения 9-го отдела ГУГБ НКВД СССР, лично внесенного товарищем Сталиным в расстрельные списки 1937-го года…
Итак… "На фоне суровой и величественной природы сплетаются в трагический клубок судьбы людей в месте, где почти невозможно отличить палачей от жертв. Трагическая история одной любви - и история всей страны с ее болью, кровью, ненавистью, отраженная в Соловецком острове, как в зеркале..."
Но «Обитель» - это и в том числе идейное и мировоззренческое переосмысление большого корпуса «лагерной» литературы, ставшей русской классикой ХХ века – от Солженицына до Довлатова. Это запоздалая мечта об ином, несостоявшемся пути России, которая рождена быть красивой, богатой и сильной, а прозябает в ничтожестве, последовательно уничтожая своих лучших людей.
Анджей Сапковский. Сезон гроз
Говорят, что прогресс разгоняет тьму. Но всегда, всегда будет суща тьма. И всегда во тьме будет Зло, всегда будут во тьме клыки и когти, убийство и кровь. Всегда будут твари, что по ночам стучатся. А мы, ведьмаки - сущи, чтобы постучаться к оным.
Весемир из Каэр Морхена
Свершилось почти невероятное в мире фэнтези: после 15-летнего перерыва знаменитый польский писатель Анджей Сапковский вернулся к своему главному персонажу - ведьмаку Геральту. Новый роман "Сезон гроз", только что поступивший в продажу, является не продолжением, не приквелом, а сюжетной вставкой эпохи ранних странствий ведьмака.
Трудно переоценить значение произведений пана Сапковского о мире ведьмака Геральта для поклонников фэнтези, жанровые координаты которого были заданы в свое время профессором Джоном Р. Р. Толкином в "Хоббите" и "Властелине колец". Сапковскому удалось 20 лет назад почти невозможное в семи книгах о ведьмаке Геральте - придать фэнтези актуальность и современность. В сущности, Сапковский стал для нас современным Толкиным. Печатая первые повести о ведьмаке, он, конечно, и представить себе не мог, какой популярностью будет пользоваться созданный им мир Геральта сейчас, когда по нему написаны десятки фанфиков и сотни подражаний, когда одноименная компьютерная игра, ставшая одной из самых популярных в мире, каждый год привлекает сотни тысяч новых поклонников. Молодежь сейчас, вообще, мало читает - но книгами о ведьмаке зачитывается. Пусть изначальным стимулом взять в руки книгу Сапковского для молодого читателя было желание узнать все о мире любимой компьютерной игры. Но потом... Потом уже не оторваться. И можно сказать с абсолютной уверенностью: книги Сапковского учат разумному, доброму, вечному не хуже мировой классики. Они рассказывают о любви и ценности жизни, о чести, доблести и героизме, о жертвенности и кошмаре войны, о том, что такое быть человеком и о том, что иные чудовища порой бывают лучше людей. Отрадно, что большинство читателей не ограничиваются "Ведьмаком" и охотно читают другие произведения Сапковского, в частности, "Сагу о Рейневане" - историческую трилогию об эпохе гуситских войн в Европе, в которой приключенческий плутовской роман сочетается с глубоким историзмом и элементами фэнтези. Кстати, сейчас "Сагу о Рейневане" переиздали в очередной раз: три романа в одной книге ("Башня шутов", "Божьи воины" и "Свет вечный").
Что же касается нового романа, то его действие происходит в эпоху ранних странствий ведьмака еще до войны с Нильфгаардом и битвы за Содден (ибо в событиях "Сезона гроз" активное участие принимает чародейка Коралл, а она, как известно, погибла на Содденском холме...) Мы встретимся и с бардом Лютиком (куда же без него?), познакомимся с новыми цитатами из его труда "Полвека поэзии". Ну, и разумеется, читателя ждут захватывающие приключение в стиле самых первых книг о ведьмаке ("Последнее желание" и "Меч предназначения").
Эдуард Лимонов. Апология чукчей
В сборнике писателя-бунтаря, политика, публициста Эдуарда Лимонова «АПОЛОГИЯ ЧУКЧЕЙ» собраны рассказы и эссе разных лет, написанные на самые разные темы (от экзотических приключений до «сумы и тюрьмы»). В такой век мы живем. На смену Русской революции пришла революция Ново-русская, а вместо дедушки Ленина у нас – дедушка Лимонов. Он и вправду уже ДЕД, 70 стукнуло однако. Недаром один из последних его романов о новой русской тюрьме и отсидке в ней некоего легко узнаваемого персонажа, так и называется – «ДЕД».
Как писатель дедушка Лимонов плодовит неимоверно, но неслучайно мною выбрана яркая и скандальная «Апология чукчей». Почему такое название? А это один из исторических рассказов сборника - о покорении чукчей. Едва ли широкому кругу читателей известно о том, каким на самом деле талантливым, воинственным и свободолюбивым народом были чукчи, какое яростное сопротивление они оказали русской экспансии. Мало кто с ходу достанет с полки раритетное исследование «Военное дело чукчей» Нефедкина, рассказывающее об удивительном военном искусстве чукчей, которое сродни боевому искусству японских ниндзя. (Из отзыва Д. Пучкова: «В книге есть эпиграф: героическому чукотскому народу посвящается. Многим это может показаться шуткой, ибо в массовом сознании чукча — наш советский Форрест Гамп, безобидный и прикольный. Реальные чукчи были свирепы и необузданы, являясь, пожалуй, самым жестоким и воинственным сибирским народом. Суровый образ жизни, серьёзная физическая подготовка, мстительность...Чукчи и русских казачков гоняли по тундре, как вшивых по бане, на протяжении многих десятков лет...»)
Вот и рассказ Лимонова, думается, изменит мнение многих касательно чукчей. Но разумеется, дело не только в чукчах. Вообще, рассказы и очерки Лимонова, представленные в этом сборнике, призваны если не изменить мнение читателя о чем-то важном с точки зрения автора, то по меньшей мере, заставят его провести некоторую ревизию своих представлений о мире, своих исторических знаний (как в рассказе "История Эдварда Восьмого"), возможно даже, отношения к жизни (вот вам фразочка из очерка "Первое признание": "Самая отвратительная часть человечества — современники...").
Остается добавить, что тексты этого сборника условно разделены тематически:
Приключения, Города, Иконы, Love Stories, Старые русские, Тюрьмы, Дети, Время ("СССР — наш Древний Рим"), "Звуки, запахи, звери, автомобили", Племя нацболов, Светская жизнь, Германия.
Фигль-Мигль. Волки и медведи
Сатирический роман "Волки и медведи" Фигля-Мигля в 2013 году стал лауреатом премии "Национальный бестселлер". Автор, чьи предыдущие книги не пользовались большим успехом (разве что "на Охте", выражаясь языком персонажей Фигля-Мигля "волков и медведей", то есть в Спб.), теперь "проснулся знаменитым". Особенно на это поработала команда его издателей из "Лимбус-пресс", которая по совместительству заправляет "Национальным бестселлером".
На церемонии вручения премии и произошло раскрытие авторского инкогнито. Оказалось, Фигль-Мигль — это 43-летняя Екатерина Чеботарева, филолог по образованию. Интересно, почему издатели загадочного автора из "Лимбус-пресс" называли четвертый по счету роман дебютом. До "Лимбуса" романы Фигля-Мигля печатались в толстых литературных журналах — "Неве" и "Звезде" ("Тартар лтд", "В Бога веруем", "Мюсли"). Четвертую книгу "Щастье", названную дебютом, в 2010 году издали в авторитетном твердом переплете. За ней последовал роман "Ты так любишь эти фильмы", прошедший и в лонг-лист премии "Нос", и в шорт-лист того же "Нацбеста". "Волки и медведи" — часть дилогии, начатой романом "Щастье", который, впрочем, можно и не читать, раз уж вы взялись за «Волков и медведей». Здесь одна и та же мифология, те же персонажи. Путешествие за реку, как и в "Щастье", предваряется зловещим диалогом: "А что там на востоке? – Волки и медведи".
Город (Санкт-Петербург) служит подходящей декорацией для антиутопии. Действие переносится из Охты в Автово: между районами пролегли границы. Там замышляет новую империю Канцлер Николай Павлович, за чертой Города правят контрабандисты, анархисты и прочий темный и мрачный люд. За рекой Невой начинается "восток", где живут "волки и медведи". Китайцы, по слухам, планируют интервенцию. Канцлер Николай Павлович снаряжает восточную экспедицию, дабы подчинить одичалых. В экспедицию направлен и главный герой, Разноглазый, обладающий волшебным даром избавлять других то ли от видений, то ли от остатков совести.
Вместо "Волки и медведи" читателю все время хочется сказать "Волки и овцы", но в этой антиутопии "овец"-то и нет. Жертвами числятся "радостные", они же душевнобольные, а также "погорельцы и школьные учителя". Все остальные давно уже "волки": в городе регулярно случаются бои между "ментами и народными дружинами". Серийный убийца Сахарок вершит свое черное дело. Да и любой петербуржец в мире Фигля-Мигля может сделать заказ "снайперу". А тот в память о каждом выстреле делает на своей щеке симпатичную татуированную слезу.
"Волки и медведи" - новая отчаянная попытка интеллигентской политической сатиры, ответ московским "Дню опричника" Сорокина и "Ж.Д." Быкова. "Жестокий узурпатор" Николай Павлович, совершающий одно преступление против человечности за другим, стравливает подчиненных — гвардейцев-опричников и боярскую гопоту. Он отказывает интеллигентам в "цветущей сложности". Но и население не отстает от своего правителя: "беспредел входит в состав воздуха". Пока одни дичают в снегах, другие неплохо ужинают в гостинице "Англетер", потому что потом их все равно "проглотят варвары". Коллекция интеллигентских страхов в романе собрана, но укутана в туманы Достоевского и Андрея Белого.
Зачин романа (вместо эпиграфа):
Со второго этажа
Полетели три ножа.
Красный, белый, голубой -
Выбирай себе любой!
Роман Арбитман. Антипутеводитель по современной литературе. 99 книг, которые не надо читать
Скандально известного критика Романа Арбитмана (он же псевдоисторик советской фантастики Рустам Станиславович Кац, он же писатель-детективщик Лев Гурский, он же литературный критик Аркадий Данилов и Андрей Макаров) недаром называют "санитаром литературного леса": вот уже несколько лет подряд он читает наиболее заметные книги, появившиеся на прилавках, и беспощадно расправляется с теми, читать которые, по его мнению, попросту не нужно, не стоит, фтопку их, так сказать.
Автор прославился многими скандальными книжными проектами, такими как монография-мистификация «История советской фантастики». Или вот, к примеру, в 2009 году в волгоградском издательстве «Принтерра» вышла альтернативно-историческая книга Льва Гурского «Роман Арбитман. Биография второго президента России». Главный герой, саратовский учитель Роман Ильич Арбитман становится советником президента Бориса Ельцина, а затем вторым президентом России. Книга, обложка которой была стилизована под оформление серий «Жизнь замечательных людей» и «Библиотека приключений», стала поводом для судебного иска к «ПринТерре» со стороны издательства «Молодая гвардия».
Так вот свежеиспеченный "АНТИПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ" состоит из кратких и остроумных рекомендаций со знаком "минус". Вы можете с ними согласиться - и тогда будете избавлены от разочарований. Но вы, конечно, можете пренебречь мнением критика и отправиться в путь по книжному морю на свой страх и риск. Выбирать вам. Однако потом не жалуйтесь, что вас не предупреждали. Арбитман предлагает читателю ТОП-99 книг, которые НЕ НАДО ЧИТАТЬ. Сюда угодили почти все мэтры - от Быкова до Прилепина, от Сорокина до Улицкой, от Вик. Ерофеева до Веллера. Самым обидным для уважаемых литераторов является то, что Арбитман по большому счету прав, высмеивая их последние опусы, придираясь по мелочам, наслаждаясь огрехами стиля, тонко подмечая их коньюнктурность и ангажированность. «Антипутеводитель» - кривое зеркало современной русской литературы, а кривые зеркала, как известно, вопиюще смешны, раздражающе несправедливы, но весьма полезны для того, чтобы спустить витающих в облаках авторов на грешную землю. Арбитман – Булгарин сегодня, и кто знает, не пестует ли он своими издевательствами нового Пушкина.
Книга, как и положено, издана на дешевой желтой бумаге, а в качестве послесловия в ней приведены некоторые высказывания задетых за живое персонажей.
Вот одно из наиболее характерных, принадлежащих Михаилу Веллеру:
«Он оскорбил меня совершенно несправедливой и грязной рецензией… Был у меня сильный позыв плюнуть ему прямо в рожу, но он так беспомощно улыбался, что сил у меня не достало, и я плюнул только на грудь».
Нассим Талеб. Антихрупкость
Книги философа, математика, трейдера Нассима Талеба «Черный лебедь», «Одураченные случайностью» произвели в последние годы такое сильное впечатления на людей во всем мире, что стали бестселлерами в области литературы non-fiction. Новая книга Талеба «Антихрупкость» рассказывает о ключевом свойстве людей и систем.
Выходец из Ливана Нассим Талеб, ближневосточный аристократ и блестящий эрудит, проявил себя на Западе не только как необычный трейдер, но и как оригинальный философ. В сферу его интересов входит эпистемология (философия знаний) случайности, а также междисциплинарные задачи на неопределенность и знание, особенно в связи с серьёзными, трудно предсказуемыми событиями. Одним из первых заинтересовался механизмами торговли производными финансовыми инструментами. Называя себя "эмпирическим скептиком", Талеб полагает, что учёные, экономисты, историки, политики, бизнесмены и финансисты переоценивают возможности рациональных толкований статистики и недооценивают влияние необъяснимой случайности в этой статистике. Таким образом, Талеб продолжает долгую традицию скептицизма, который исповедовали Секст Эмпирик, Аль-Газали, Пьер Бойль, Монтень и Дэвид Юм, считавшие, что прошлое не позволяет предсказать будущее. Талеб — последователь Карла Поппера и утверждает, что теории не могут считаться доказанными и могут использоваться лишь условно. Талеб занят исследованиями в области философии случайности и роли неопределённости в обществе и науке с уклоном в философию истории и изучение роли важных случайностей (он называет их "черными лебедями") в определении хода истории. «Чёрные лебеди" - это не обязательно негативные события или катастрофы, но и случайные удачи. По его мнению, люди не замечают этих событий, считая мир систематизированной, понятной и обычной структурой.
Новая книга Талеба "Антихрупкость" рассказывает о мире, где царит неопределенность, нельзя желать большего, чем быть антихрупким, то есть уметь при столкновении с хаосом жизни не просто оставаться невредимым, но и становиться лучше прежнего, эволюционировать, развиваться. Талеб формулирует простые правила, которые позволяют нам преодолеть хрупкость и действовать так, чтобы непредсказуемая неопределенность, этот грозный и внезапный Черный лебедь, не причинил нам вреда, и более того — помог совершенствоваться.
Основные темы: принятие жизненно важных решений, метод проб и ошибок, оценка риска, инновации, политика, образование, война, личные финансы, экономические системы, медицина.
Фредерик Бегбедер. Конец света. Первые итоги
Известный французский писатель Фредерик Бегбедер рассказывает о ста лучших книгах ХХ века, которые нужно прочесть, пока они еще существуют на бумаге, и публикует вдохновенный манифест в защиту «Галактики Гутенберга» - книги изданной, напечатанной, переплетенной. Вслед за Умберто Эко, высказавшимся на данную тему в диалогах с Жан-Клодом Карьером ("Не надейтесь избавиться от книг!") Фредерик Бегбедер разъясняет, почему цифровые носители и электронные книги ведут к умственной и нравственной деградации человечества, в то время как книги печатные остаются последним препятствием на пути надвигающегося интеллектуального апокалипсиса.
«Книги – это бумажные тигры с картонными зубами, это усталые хищники, которые вот-вот попадут на обед другим зверям. Зачем упираться, продолжая читать эти неудобные штуки? Хрупкие, подверженные возгоранию листы, отпечатанные в типографии и нуждающиеся в переплете, – да еще и без электрических батареек?
Ты безнадежно устарела, старая книжка со стремительно желтеющими страницами, ты – пылесборник, ты – кошмар переезда на новую квартиру, ты – пожиратель времени, ты – фабрика молчания. Ты проиграла войну вкусов. Читатели бумажных книг – просто старые маньяки... Им нравится трогать книгу руками, вдыхать ее аромат, загибать уголки, делать на полях пометки, откладывать чтение и снова возвращаться к нему с любого места, в любое время, не заботясь о том, чтобы подключиться к Сети. Вот она, трагедия старческого слабоумия. Вспомним-ка: бумажная книга была изобретена примерно шесть столетий назад одним немцем по имени Иоганн Гутенберг. Вскоре после этого благодаря сначала Рабле, а затем – Сервантесу появился современный роман. Таким образом, можно сделать вывод, что с исчезновением бумажной книги умрет и роман: одно неразрывно связано с другим. Чтение романа требовало времени, удобного кресла и особого предмета – книги, в которой необходимо переворачивать страницы.
Попробуйте почитать на айпаде «Под сенью девушек в цвету», а потом поговорим. Создатели электронной книги настолько мало верят в роман, что доступный в онлайне прустовский текст буквально кишит опечатками и пунктуационными ошибками. Совершенно очевидно, что люди, полагавшие, будто оцифрованная версия будет способствовать распространению популярности этой блестящей книги, даже не дали себе труда ее прочитать.
Вытеснение бумажной книги чтением с экрана породит иные формы повествования. Возможно, они будут интересными (интерактивное общение, гипертекст, звуковое или музыкальное сопровождение, трехмерные иллюстрации, видеофрагменты и т.п.), но это будет уже не роман в том смысле, какой вкладываем в это понятие мы - отставшие от жизни чокнутые библиофилы.
Признаюсь, меня изумляет всеобщее равнодушие к начавшемуся концу света. Как говорил Анри Мишо о человеке: роман на бумаге – это все-таки личность. Первые романы, прочитанные в подростковом возрасте, служили мне укрытием от семьи, от внешнего мира и, не исключено – хоть я об этом и не подозревал, – от отсутствия смысла во вселенной.
Ну да, все и повсюду рассказывают истории. На телевидении сплошные сериалы, землю покорило американское кино, не говоря уж о компьютерных играх, открывающих перед тобой возможность превратиться в героя, с каждым кликом мышки переживающего приключения не хуже Одиссеевых. Каково же место бумажного романа в эпоху повального сторителлинга? Каким образом бумажный роман может конкурировать с аудиовизуальными средствами передачи информации, если мы живем в мире, где западный человек проводит перед телевизором в среднем три часа в день? …Бумага кажется мне менее тленной, чем электронная книга с низковольтным люминесцентным тактильным экраном, устаревающая на третий день после выпуска.
Напечатанная на бумаге книга, напоминает Умберто Эко, была превосходным изобретением. Простым, экономичным, легко поддающимся транспортировке, удобным в эксплуатации и рассчитанным на долгий срок службы. Откуда же желание избавиться от столь успешного продукта? Я сам сварганил восемь бумажных романов, потому что еще во что-то верю. Я убежден, что роман спас меня, подарив иллюзию порядка в окружающем хаосе... Роман – это всегда работа над ошибками. Для меня роман – оправдание тому, что я не стал самодовольным кретином.
Будет ли то же самое справедливо по отношению к роману в электронном виде? Неужели вы без дураков считаете, что с тех пор, как МР3 вытеснил диски, вы продолжаете слушать музыку с тем же вниманием? Разве доступность, сиюминутность, универсальность и бесплатность не отбивают у нас аппетит?
Давайте-ка вспомним о таком восхитительном действе, как поход в книжный магазин; ты роешься на полках или стоишь перед витриной, вожделея ту или иную книгу и пока не обладая ею. Роман доставался нам как своего рода награда: пока он не существовал в цифре, его приобретение требовало от нас физических усилий. Надо было выйти из дому, отправиться в определенное место, где тусуются одинокие мечтатели, отстоять очередь, вынуждая себя улыбаться незнакомцам, страдающим тем же заболеванием, что и ты, а потом донести свое сокровище – в руках или в кармане – до дому, до метро или до пляжа.
Бумажный роман волшебным образом преображал социопата в светского человека, а затем снова в анахорета, заставляя его на краткий миг – совсем ненадолго, но все же! – столкнуться нос к носу с самим собой. Бумажный роман создается не так, как вордовский файл. На бумаге нельзя читать, кликая мышкой. Писать ручкой – не тюкать по клавишам. Письмо и чтение на бумаге отличались медлительностью, сообщавшей им известное благородство: нивелируя все формы письма, экран делает их взаимозаменяемыми.
Гений низводится до ранга простого блогера. Лев Толстой и Катрин Панколь тождественны друг другу, включены в один и тот же объект. Экран применяет на практике учение коммунизма. Все – под одной вывеской, всё – одинаковым шрифтом: проза Сервантеса уравнивается в правах с Википедией.
Что самое прекрасное в бумажной книге? Ее предметная уникальность – обложка и обрез, не похожие на все прочие обложки и обрезы. Каждый роман представлял собой раритет, а написать его – значило создать, отшлифовать, вообразить, увидеть во сне – примерно тем же занимается ваятель.
Я никогда не писал без того, чтобы представить себе, как будет выглядеть конечный продукт – какого размера и какой формы будет книга, чем она будет пахнуть. У меня всегда была настоятельная потребность вообразить себе обложку, название и, разумеется, свое имя, жирным шрифтом набранное на самом верху. Читать (или писать) на электронном планшете – это значит держать в руках перевалочный пункт, нечто вроде вокзала в миниатюре, через который проносятся транзитные и взаимозаменяемые произведения. Каждая книга на бумаге отличалась от других.
Электронная книга ко всему равнодушна, она не меняет форму ради нового романа. Какой бы текст вы ни читали (или ни писали), она остается неизменной – «Цветы зла» в ваших руках весят столько же, сколько «Прекрасная дама».
Чтение бумажных страниц превращалось в своего рода завоевание. Читая, ты открывал тайны вселенной, ощущал себя альпинистом, исследователем человеческого мозга. Чтение книги было больше чем развлечением – оно сулило тебе победу. Помню, с какой гордостью я закрывал «Блеск и нищету куртизанок» или «Преступление и наказание». Я сделал это! Теперь про Растиньяка или Раскольникова я знаю все. Я захлопывал их выдуманные жизни у себя на коленях с чувством исполненного долга.
Из читателей, пробирающихся вперед через хитросплетения сюжета, погружающихся в чужой мир, дабы забыть об окружающем, электронная книга превращает нас в пресыщенных потребителей, рассеянных роботов, нетерпеливых щелкунов с пультом или мышью в руках.
Риск СДВ (синдрома дефицита внимания), то есть невозможности на чем-то сосредоточиться, жертвами которого становятся все больше пользователей компьютера, возрастает многократно, если читать с помощью планшета, способного принимать электронную почту, воспроизводить видео и музыку, открывать доступ к чатам и постам, звуковым сигналам, скайпу и Твиттеру, пересылать эсэмэски и отвлекать нас на рекламу, не говоря уже о вирусах и поломках, отключающих устройство посреди внутреннего монолога Молли Блум.
Вскоре мы уже не сможем проникать в разум гения, потому что наш собственный будет перегружен, низведен до состояния пассивного приемника, а то и засорен вирусами. Поль Моран еще в своем «Бесполезном дневнике» (задолго до изобретения айпада) бил тревогу: «Концентрация внимания – вот чему нужно учить детей на специальных уроках, так же как тренировке памяти. Добиться успеха можно лишь в том случае, если будешь думать о чем-то одном, не важно, о чем именно – персонаже романа или способе сколотить состояние».
Видя, как при всеобщем равнодушии (или попустительстве) приближается дематериализация литературы, я решил составить еще один список книг ХХ века – МОИХ ЛЮБИМЫХ СТА КНИГ, КОТОРЫЕ НАДО, ПОКА НЕ ПОЗДНО, ПРОЧЕСТЬ НА БУМАГЕ.
Выбрать сто любимых книг – значит дать характеристику самому себе, и предлагаемый мной новый список красноречиво свидетельствует о моей малограмотности. Мне скажут, что это – кособокий пантеон литературоведа-самозванца, но на самом деле представленная библиотека из папье-маше прежде всего выдает мою натуру привыкшего разбрасываться читателя-самоучки. Разумеется, в списке «Лучших книг ХХ века», опубликованном в 2002 году, фигурировало много почитаемых мной авторов (Аполлинер, Набоков и другие), а также авторов, с которыми мне довелось быть лично знакомым (Саган и Кундера). Чтобы не походить на старого маразматика, талдычащего одно и то же, я сознательно исключил их из членов нового Клуба-100. Всех, кроме Жида и Саган, Перека и Виана, Хемингуэя и Фицджеральда. Почему? Потому что исключение подтверждает правило и потому что на свете нет наслаждения выше, чем нарушить закон, который сам имел глупость только что провозгласить...
О мой винтажный читатель! Бумажный букинист, пережиток пыльных чердаков, доблестный хранитель заплесневелых фолиантов, божественный литературный аутист, спаситель разума от забвения, молю тебя - продолжай пестовать бумажных тигров, пока у нас есть еще время!
Некоторые из перечисленных книг уже не купишь ни в одном книжном, другие пока есть, но вот-вот пропадут; впрочем, через пару-тройку лет пропадут и сами книжные со всеми современными Монтэгами.
Так спешите же втихаря обогатить свою коллекцию этими пережитками прошлого. Давайте спасем хотя бы нескольких happy few, которых еще можно спасти. Давайте вместе замедлим прогресс всеобщего оглупления, очень вас прошу.
Еще минутку, господин цифровой палач. Позвольте дочитать страницу, ну пожалуйста, мне осталась последняя глава, – так приговоренный к казни выкуривает последнюю сигарету, так японец спокойно ждет цунами в своем бумажном домике. Равнодушие спящих отнюдь не означает, что в том, что стоит на пороге, нет ничего страшного. Мы медленно и вяло вступаем в апокалипсис беспамятства и пошлости. Если сегодня я пишу, то только благодаря тем клочкам папируса, за которыми всегда скрывалась родственная душа.
Свидетельство о публикации №219072100685