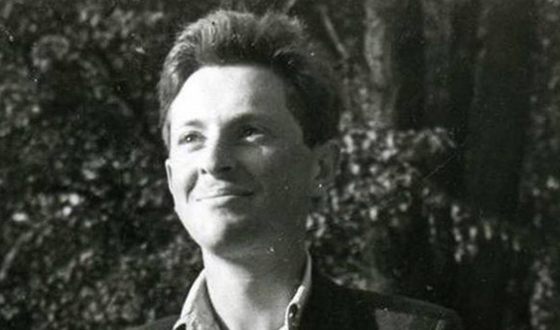Письма к ленинградскому другу. Письмо первое
Дело в том, что родной город Иосифа Александровича весьма немилостиво к нему отнёсся: его не печатали и именно в Ленинграде обозвали тунеядцем и преступно отправили в ссылку. У молодого и талантливого человека насильственно отняли месяцы единственной жизни. Как это называется? Это явление смело и гордо может носить название – казённое свинство. Несмотря на это чудовищное (между прочим, забытое. Трибунала над советскими преступлениями так и не произошло) преступление, сегодня в главном книжном магазине Петербурга есть целые полки с разными изданиями эссе и поэзии нобелевского лауреата Иосифа Бродского, кстати, изобилие действительно поразительное, ибо даже Московский Дом книги мог бы по известным причинам позавидовать. Когда я увидел это, то пришёл в ярость, которую не испытывал даже храбрейший из ахейских мужей – Ахиллес.
Почему мы живём так плохо, в такой несправедливости и т.д.? Ответ до банальности прост: мы – «Иваны, непомнящие своего родства». Мы, мои дорогие, являемся существами без чести и памяти. Да, мы действительно заслуживаем, чтобы о нас вытирали свои грязные сапоги КГБ и власть предержащие.
Но стойкости Бродского можно было только завидовать, ибо молодой человек, в сущности, прошёл все круги советского ада (Данте даже не мог представить подобного в кошмарном сне): психушка, Кресты, побои на допросах и наконец ссылка в северную деревню. «В деревушке, затерянной среди болот и лесов, рядом с Полярным кругом…». Все эти мерзости Иосиф Александрович не любил вспоминать и отнюдь не желал вновь воспроизводить давно забытые волнения в душе. Этот период жизни был достаточно трудным для поэта – к неприятностям с государством добавилась измена возлюбленной. Разрыв с Марианной Басмановой Бродский переживал очень тяжело и я счастлив, что попытка самоубийства тогда не состоялась: из-за мерзостного контекста мы потеряли бы гения. Уже находясь на Западе, Бродский «ответит» весьма лаконично и язвительно эпохе:
Скрестим же с левой, вобравшей когти,
Правую лапу, согнувши в локте;
Жест получим, похожий на
Молот в серпе – и как чорт Солохе,
Храбро покажем его эпохе,
Принявшей образ дурного сна.
Продолжая тему поэзии, стоит упомянуть о тонком ощущении экзистенциального одиночества человека в этом мире. Истина проста – нас совершенно случайно «выбрасывают» в безразличное пространство и за весьма короткий промежуток времени мы должны найти ответы на важные вопросы: зачем мы сюда пришли и что мы должны оставить в этом мире после себя? Это глубочайшая мысль учёного Дронова (роль блистательно исполнил непревзойдённый Николай Черкасов) в фильме «Всё остаётся людям». Иосиф Бродский отчасти отвечал по-своему на подобные вопросы, со свойственной ему холодной отрешённостью:
Не жилец этих мест,
Не мертвец, а какой-то посредник,
Совершенно один
Ты кричишь о себе напоследок:
Никого не узнал,
Обознался, забыл, обманулся,
Славу Богу, зима. Значит, я никуда не вернулся.
Слава Богу, чужой,
Никого я здесь не обвиняю,
Ничего не узнать.
Я иду, тороплюсь, обгоняю.
Как легко мне теперь
Оттого, что ни с кем не расстался.
Слава Богу, что я на земле без отчизны остался.
Поздравляю себя!
Сколько лет проживу, ничего мне не надо.
Сколько лет проживу,
Сколько дам за стакан лимонада.
Сколько раз я вернусь –
Но уже не вернусь – словно дом запираю,
Сколько дам я за грусть от кирпичной стены
И собачьего лая.
В этих строках живёт отдельность гения от окружающего контекста. Но, к сожалению, гений почти всегда не синонимичен счастью и довольствию, даже вполне заурядный человек с высокой культурной планкой (наконец, с хорошим вкусом) способен в той или иной степени тяготиться отравленным контекстом: «Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем твёрже его вкус, тем легче его нравственный выбор, тем он свободнее – хотя, возможно, и не счастливее».
В изумительном по сказочности стихотворении «Рождественский романс» есть у меня пленительно любимая строфа:
Твой Новый год по тёмно-синей
Волне средь моря городского
Плывёт в тоске необъяснимой,
Как будто жизнь начнётся снова,
Как будто будут свет и слава,
Удачный день и вдоволь хлеба,
Как будто жизнь качнётся вправо,
Качнувшись влево.
Кстати, к вопросу о сказочности! Прозорливый и умный филолог Лекманов точно заметил следующий факт: в первых строках читатель ощущает, что находится в Москве (Александровский сад, Ордынка и т.д.), но по ходу степенного течения к последней строфе, он вдруг осознаёт, что его под сурдинку любезно переместили в Ленинград. «Тёмно-синяя волна средь моря городского» достаточно ясно намекает на Неву, увы, Москва-река не заслуживает столь броского комплимента. Петербургская дивная река воистину является морем, не хватает лишь томных нереид. Таким образом, юный Иосиф (стихотворение написано в 1962 году – Бродскому 21 год) позволяет нам метафизически путешествовать из Москвы в Петербург или наоборот, если угодно. Стоит сказать, что это путешествие намного приятнее поездки Радищева….
Безусловно, мальчику с такой уникальной душой было трудно в смердящей тоталитарной стране и он был вынужден прибегать к некоторым интеллектуальным хитростям: «Всё это имело мало отношения к Ленину, которого я невзлюбил, полагаю, с первого класса – не столько из-за его политической философии и деятельности, о которых в семилетнем возрасте я имел мало понятия, а из-за вездесущих его изображений, которые оккупировали чуть ли не все учебники, чуть ли не все стены в классах, марки, деньги, и Бог знает что ещё, запечатлев его в разных возрастах и на разных этапах жизни; Вероятно, научившись не замечать эти картинки, я усвоил первый урок в искусстве отключаться, сделал первый шаг по пути к отчуждению». Однообразный советский мир усугублялся в своей ущербности малыми системами, одна из которых была школа. Именно в советской школе Бродский впервые столкнулся с агрессией извне, с вульгарным и примитивным антисемитизмом: «Что же до антисемитизма как такового, меня он мало трогал, поскольку исходил главным образом от учителей: он воспринимался как неотъемлемый аспект их отрицательной роли в наших жизнях; отплёвываться от него следовало, как от плохих отметок. Будь я католиком, я пожелал бы большинству из них гореть в Аду».
Проблема заключается в том, что в тоталитарных государствах эстетическое чувство личности испытывает язвящий голод: проще говоря, окружающее – скучно, уныло, убого, серо до чрезвычайности! Позднее поэт скажет: «человек это то, на что он смотрит». И будет, несомненно, прав, ибо, если человек смотрит на уродливое и мерзкое – он в итоге станет равным по отношению к объекту своего несчастного созерцания: «главное, наверное, заключалось в смене обстановки. В централизованном государстве все помещения похожи: кабинет директора школы был точной копией следовательских кабинетов, куда я зачастил лет через пять. Те же деревянные панели, письменные столы, стулья – столярный рай. Те же портреты основоположников – Ленина, Сталина, членов политбюро и Максима Горького (основоположника советской литературы), если дело было в школе, или Феликса Дзержинского (основоположника советской тайной полиции), если дело было у следователя». Вполне предсказуемо, что юный бунтарь (он физически не смог бы «сожительствовать» с этой системой) в итоге совершил «отвал», то есть самозабвенно и решительно покинул школу: «Это был инстинктивный поступок, отвал. Рассудок сыграл тут очень небольшую роль. Я знаю это потому, что с тех пор уходы мои повторялись – с нарастающей частотой. И не всегда по причине скуки или от ощущения капкана: а я уходил из прекраснейших ситуаций не реже, чем из ужасных. Как ни скромно занятое тобой место, если оно хоть сколько-нибудь прилично, будь уверен, что в один прекрасный день кто-нибудь придёт и потребует его для себя или, что ещё хуже, предложит его разделить. Тогда ты должен либо драться за место, либо оставить его. Я предпочитал второе. Вовсе не потому, что не способен драться, а скорее из отвращения к себе: если ты выбрал нечто, привлекающее других, это означает определённую вульгарность вкуса».
Но всё же: каким образом среди этого мрака выживали люди культуры? В том числе знаменитые «ахматовские сироты»? В действительности для этих людей культура была первостепенной основой жизни. Представители «волшебного хора» видели смысл лишь в наследии – в «светоче, унаследованном от предков»: «Никто не знал литературу и историю лучше, чем эти люди, никто не умел писать по-русски лучше, чем они, никто не презирал наше время сильнее. Для этих людей цивилизация значила больше, чем насущный хлеб и ночная ласка. И не были они, как может показаться, ещё одним потерянным поколением. Это было единственное поколение русских, которое нашло себя, для которого Джотто и Мандельштам были насущнее собственных судеб. Бедно одетые, но чем-то всё-таки элегантные, тасуемые корявыми руками своих непосредственных начальников, удиравшие, как зайцы, от ретивых государственных гончих и ещё более ретивых лисиц, бедные и уже не молодые, они всё равно хранили любовь к несуществующему (или существующему лишь в их лысеющих головах) предмету, именуемому цивилизацией; итак, с закрытыми глазами, давайте признаем: что-то было для нас узнаваемым на Западе, в цивилизации – может быть, даже в большей степени, чем у себя дома. Более того, как выяснилось, мы были готовы заплатить за это чувство узнавания, и заплатить довольно дорого – всей оставшейся жизнью. Что – не так мало. Но за меньшую цену это было бы просто ****ство. Не говоря о том, что, кроме остававшейся жизни, у нас ничего не было».
Нам пора понять: если в нашей истории и было что-то приличное и достойное, то воплощением человеческого достоинства были именно эти люди – носители культуры. Да, Иосиф Бродский был одним из них, возможно, самый одарённый участник «хора»
У меня складывается впечатление, что мы постепенно теряем связь с этими людьми. По меньшей мере, из чувства благодарности мы не имеем человеческого права забывать эти судьбы, не слышать их пронзительные голоса.
Одинокая ленинградская звезда лукаво вновь мне подмигивает, будто по-партизански следит за мной. Не любить эту полночную набережную невозможно. Именно здесь – на Дворцовой набережной, в дали от колючей суеты, ты способен наконец расслышать голос давно уснувшего поэта.
Свидетельство о публикации №220032801911