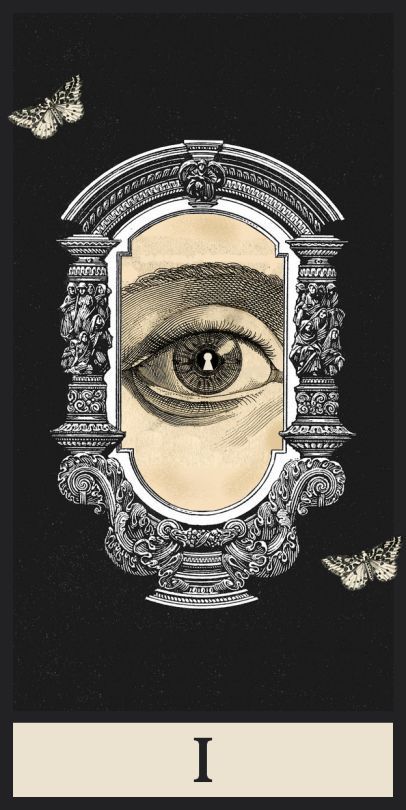Цена нечаянная фантасмагория. 18 плюс
Глупые и банальные люди! Чего они хотят от меня? Почему бы им не оставить меня в одиночестве, в котором я целую жизнь и пребывал?
Да, слишком много вопросов, и слишком сложные на них ответы, но я не могу молчать, я должен их остановить.
К тому же весь этот день начался несколько необычно. С утра появилась старая кастелянша, которая переписала мой больничный листок и регистрационный номер моего желтого судна в свой записной блокнотик, а затем, беззвучно шевеля губами, как будто извиняясь, растворилась в пустоте.
Койка соседа слева теперь оказалась пуста, застеленная ослепительно белой простыней. Вчера его увезли на операцию, и он молчаливо заглянул в мои глаза с хорошо читаемой мольбой на губах: «Не хочу!». Профессор сказал, что его перевели в другую палату.
Вдобавок к палатам и халатам мне вдруг померещилось слово «плаха», и я представил ее, залитую сгустками крови и древесных опилок, и тот омерзительный палач, что жует бутерброд после своей кровавой работы, запивая его жадными глотками пива.
Телевизор также не работал. Вчера я вдруг выхватил из общего контекста одну до ужаса отвратительную рекламу – вертлявая жопа с ярко нарисованными губами и юркий живчик рядом, она улыбается, словно получила пропуск в рай, он подтягивает свои блестящие штаны, она к нему неравнодушна, это ясно с первого взгляда, а он протягивает палец в мою сторону и произносит слоган : « Следующим будешь ты!» Хорошенькое дельце…
И все же я оставался жив. Меня уже не кормят завтраком, но мне в руку, прямо под гипс, забралась какая-то поганая и до ужаса юркая мурашка; она уже, словно фантастический наночип, досверлилась до моего мозга и нагло требует выхода.
А может быть, эту шутку подстроили два омерзительного вида санитара, Ромул и Сид, два рослых негра, (потому что назвать их «афроамериканцами» у меня язык не поворачивается), два студента-абсольвента, выгнанные с курса за неуспеваемость, в халатах, пахнущих говном и соплями? По их непроницаемым сонным харям это можно и сказать; они способны, по-моему, на эту пакостную шутку. Они вчера так баловались возле моей кровати, намекали на клизму и стрихнин, накачанные крэком и казенным морфием, один вид которых вызывает у меня эту жуткую депрессию.
Даже Мэл, моя очаровательная сиделка, сегодня мне не улыбнулась. Мне о ней ничего не известно; я помню только её темные круги под глазами, легкий нарисованный румянец и татуировка мышки Микки-Маус на гладком левом предплечье. В полной отрешенности она отлепила два резиновых присоска от моей груди, молча отключила аппарат жизнеобеспечения.
И я почувствовал себя астронавтом в пробитым космической песчинкой скафандре, а пьяная и сверкающая галактика медленно вытекает из моих горячих жил. Шелестящий голос оператора в шлеме пьянит меня словно поступь Немезиды; открыты золотые царские ворота на январские иды и календы…В тот миг я сказал ей: «До свиданья» и Мэл, слегка испугавшись, как будто впервые услышала мой голос, произнесла торопливо: «Прощайте, сэр… я еще зайду». Мне оставалось только нюхать апельсиновую корочку, вспоминая о далекой Африке.
Бедный, бедный человек очень не хочет умирать. Всю свою никчемную жизнь я чувствовал себя только пропастью, неизменным вакуумом, в которую бездумно бросали словами, поступками и прочими сентенциями, а также гуманитарной помощью, автомобилями, салатами и шелковыми галстуками от Леклер. Но даже в сортире, на дне выгребной ямы, словно мне не было места, я чувствовал себя порою тем слабым мальчиком, стоящем по грудь в испражнениях из фильма «Списки Шиндлера» которому было мучительно стыдно за свое никчемное положение, и еще более стыдно от мысли, что он занимает в этой выгребной яме чье–то жизненно важное пространство. Но и я родился на радость; меня словно экзотический цветок, баловали и холили моя мать и отец. Что же, черт побери, произошло с нашей радостью?
Затем, в тот же полдень, в день первый моей погибели, приснился мне довольно странный сон.
Ромул и Сид в хламидах из жидкого золота, торжественно вошли в мою палату. Были они разряжены в пух и прах, словно готовились к бразильскому карнавалу; у Сида на шее болталась фиолетовая мишура и цеплял взор приделанный к носу свиной пятачок на ниточке. У Ромула оказалась надетой на голову блестящая пластмассовая и страшно попсовая шапочка в белый горох. Он выглядел, словно божья коровка с золочеными усиками, торчащими на манер ушей зайца из Playboy.
Ладони у Сида молитвенно сложены, словно он освященный папский прелат, но сейчас готовится разговеться после долгого рождественского поста.
Ромул несет в руках тарелку, накрытую блестящим хромированным колпаком с пупсиком на верхушке – вырезанным из черного камня крылатым Амуром.
Сид усмехается криво и куда-то в сторону, второй медленно снимет зубами лайковую белую перчатку, медленно плюется ей на пол, неспешно приподнимает крышку голыми пальцами.
Там лежит обглоданная куриная косточка с комочком овсяной каши на гарнир – и Ромул мурлычет, растягивая слова: «Ваш завтрак, сэр». Сид стягиваю простыню к кровати соседа, прожектор слева бьет розово-красным светом, на простыне застыли какие-то темные капли. «У него что – месячные?» - бормочет санитар и растягивает простынь в своих руках подобно улыбке–дивану от Сальвадора Дали. Ромул ставит тарелку на тумбу, и усмехается, как будто он все понимает.
Тело просыпается, оно болит. «Полная, полнейшая неподвижность» - сказал мне вчера профессор – Только так вам гарантируется полное срастание». Что здесь может срастись – он не уточнил, но ободряюще потрепал меня пальцами по моей небритой щеке. Слева – зажим, и справа зажим на запястье, а ноги привязаны к спинке кровати волосатой монастырской веревкой. Или я еще не проснулся?
Хватит мне всей этой ментальности, моих непомерных фантазий и эгоизма. После аварии я словно научился медитировать, и дивные картины преследовали меня подобно Будду Шакьямуни, сидящего под священным деревом Банья в позе лотоса, под едва слышный шорох летящих сверху белых лепестков.
Представилась мне однажды евангельская яблоня во всей своей красоте и зрелости, Древо познания Добра и Зла. Но прошли весенние заморозки, - и все цветы упали к моим ногам. Я чувствовал себя запахом этой яблони, не давшей ни одного яблока, и голос, плывущий с вершины: «Всякое дерево в саду, не приносящее плода доброго в срок, будет брошено в огонь». Но в чем состоит моя вина, если человек — это всего лишь воплощение несовершенства? Не мой это крест, не мои прегрешения. И какой дурак возьмет на себя всю полноту ответственности за все случившееся? Разве что Христос? Так ведь он вроде и не причислен к дуракам…
Меня торжественно одевают и кладут на погребальные дрожки с колесиками и черными херувимами вырванных из туманного Азраила по бокам. Они влачат мои кости по коридору, укутанному в дешевый целлофан. Они торопливы и деловиты, словно левиты, выносящие ковчег завета из соломонова храма. Включаются сотни слепящих ламп, и белые морды в марлевых повязках склоняются над моим лицом. Операционная словно стадион со встревоженными зрителями, которые ловят каждое дыхание идущего на рекорд. И я узнал его – того старичка, грызущего морковку в инвалидной коляске за толстым стеклом операционной, который выдавал себя за экстрасенса и которому все почему-то верили. Что же мне делать теперь? Табак не лечит меня, люди не утешают. В окружении старушки с трясущейся головой, бездельников Ромула и Сида он поднял руки над головой и обвестил всем присутствующих, что мое астральная оболочка уже отделилась от тела и теперь готовится для встречи с Создателем.
Сид задумчиво обхватил рукой свой подбородок, Ромул просто жевал мятную резинку.
Нет, это просто театр, какая-то дешевая комедия и мыльный сериал. Чего они все так страшно суетятся? Приставляют эти дурацкие штуки к моей груди… «Мы его теряем… Нет, мы его уже потеряли… Десять кубиков вот сюда… Пульс?»
— Значит, ничего не поделаешь, - устало произносит хирург, бросая инструменты на поднос. Приготовьте мне горячую ванну, пожалуйста.
Его резиновые перчатки летят в корзину из-под белья. Ассистенты в полной тишине сворачивают провода, закрывая их в свои загадочные ящики.
«Скоты!» - ору я им со своего операционного стола. Похоже, они меня не слышат. Но левая рука уже на свободе! Я цепляю ей поднос с металлическими щипцами. Весь поднос медленно падает на кафель со страшным грохотом.
Они медленно оборачиваются, переглядываясь и реагируя словно на черную кошку, ловящую мышь в темноте. Профессор озабоченно приподнимает мое левое веко, светит мне маленьким фонариком прямо в зрачок. «Вторичные двигательные рефлексы – шепчет он. Рецессия? Весьма необычно …» Мэл стоит в стороне, нервно теребит в руках белую салфетку. Происходит небольшой докторский консилиум. Практикант все это время прижимает к постели мою левую руку. А правой они наложили мне ватно-марлевую повязку. Слишком много ваты – полный рот. Очень хочется пить.
Поминутно они оглядываются на меня и жужжат, произносят реплики, задумчиво смотрят на длинные свитки диаграмм, серые пластинки рентгеновских снимков, листки с показаниями приборов. Один сжимает в руках даже микроскоп. «Вы уверены? – доносится до меня. Я ни в чем не уверен… Жену предупредили? По бухгалтерии он проходит... Три кубика ей успокоительного. Ничего, потом спишем»
Интересно, а почему они не просто не поинтересуются моим самочувствием?
Летели минуты, ужасно хочется пить, а два санитара играют в коридоре в «камень, ножницы, бумага» на «пьявки».
Из общего гула голосов я выхватил петушиный крик одного из студентов, который почему-то выпал из общего поля зрения:
- Я знаю! – вопил он.
- Что ты знаешь? – спросил профессор.
- Старый, забытый, но проверенный метод, – с этими словами студент быстро подошел к моему ложу, достал из карманов брюк маленькое зеркальце и приставил к моим губам.
- Осторожно! – взвизгнула Мэл.
Проверенный годами метод выпал из лап неуклюжего студента и немедленно разбился на тысячу осколков.
- А – э – х-х! – разом выдохнул изумленный консилиум.
- Нельзя же так … под руку – промямлил раздосадованный практикант, вытирая ладонь о край белого халата. – Подлец! – вдруг заверещал он и гулко хлопнул меня по небритой щеке. «К несчастью… - достиг до меня шелест их голосов, - зеркало бьется к несчастью… бедный Этна».
- Ладно, юноша, - сказал профессор, примирительно положив голову практиканта на свое плечо. – Как видите, коллеги, даже природа не в силах что-либо подсказать нам в этом случае. Доверимся же воле провидения. Эй, бездельники!
Из-за стеклянной перегородки немедленно выскочили смущенные Ромул и Сид, оба с розовыми пятнами на своих плоских эбеновых лбах.
- Забирайте это – профессор протянул палец в моем направлении, - предупредите его родных и близких.
Два санитара быстро катят мой больничный катафалк по узкому коридору, впереди вспыхивают лампы, реагируя на наше движение.
- А что, у этого говнюка еще были родные? – удивляется Сид на ходу.
- Заткнись, болван – ответствует Ромул, - карманы проверил?
Они обшарили меня всего, словно двое полицейских, вываливая на грязный пол зажигалку, носовой платок, надорванную пачку зубочисток, бумажник, и, наконец, пустой чехол от мобильного телефона, на толстом красивом шнурке из-за которого у них вышла даже небольшая потасовка – шнурок достался Сиду, а чехол – Ромулу.
Тогда Сид, надменно смотря в сторону второго, молча достал два последних доллара из моего бумажника и переложил их в карманы своих штанов. Все остальное они просто запихали мне за пазуху.
Наконец эти негодяи притащили повозку в небольшое и слабо освященное помещение, которое украшали лишь пару полок с блестящими банками, стеклянными пузырьками и прочим медицинским хламом.
- Что это? – промолвил Сид, щурясь на двух мух, роящихся вокруг лампочки, - что это за комната?
- У нас это называется «чистилищем», - оскалился Ромул, роясь в коробках, - последнее, что они видят перед адом. Мыть его под душем всего, мы, конечно же, не будем, жалко тратить мне на них стиральный порошок, а вот побрить придется… Придется побрить козла, немец говорил, что бы ни везли ему больше колючих, ему противно на небритых свой грим накладывать.
Они вскипятили немного воды в электрочайнике, Ромул плеснул кипятка в консервную банку, добавил кусочек сульфидного мыла и взбил пену помазком.
- Брей ты – протянул он Сиду опаску вместе с банкой – А я на тебя посмотрю.
Сид покосился на бритву, заворчал, но поскольку Ромул был что-то вроде «старослужащего», не стал перечить.
И здесь для меня действительно началось пекло. Бездельник черномазый, страшно потея и высунув от старания свой толстый язык, водил тупым лезвием по моей щетине, оставляя на щеке кусочки белой краски, прилипших после вчерашнего скобления бритвой по окнам в ремонтном отсеке. Мыльная вода с пеной жгли мою кожу словно вулканическая лава; я сучил ногами и комкал пальцами края простыни. Ромул внимательно наблюдал за малейшими изменениями выражения моего лица.
- Смотри ты, - задумчиво произнес он – у него шкура как будто гуттаперчевая, словно реагирует на малейшее прикасание. Первый раз такое вижу. Другому хоть огрызок кукурузы в задницу вставляй - никакого движения, - и добавил вдруг не к месту - где он сейчас?
- Скоты! - пытаюсь я выдавить наружу свой крик через этот мерзкий кляп – что бы вы все сдохли!
Ромул мечтательно сдвинул брови домиком, гладит пальцами мой вспотевший лоб.
- Как будто он говорит мне что-то! как будто прощается, – шепчет он.
- Да это у меня в животе бурчит, - отвечает довольный Сид, словно великий мастер, делая бритвой последние штрихи к моему портрету. – Скоро ужин будет, скат с макаронами. – Все, забирай клиента! Только бабе его не забудь напомнить, что еще мне 12 баксов должна за обслуживание ее покойника! Все на дармовщину хотят умирать.
Мою протухшую физиономию с остатками мыла, щетины и крови от двух порезов быстро протирают полотенцем, смоченном в одеколоне, и, открыв незамеченные мной ранее маленькие стеклянные дверцы в стене, проталкивают катафалк прочь из «чистилища», навстречу темноте. Неужели – всё?
2.
Где ты, моя Энн? Помнишь ли ты наши встречи под старыми липами? От тебя тогда пахло ворованными у матери старыми духами – это был запах резкий и в то же время сексуально вызывающий. После кинофильма ты брала меня ловко под локоть, лепетала что-то про своих родных часами – пестрый звуковой фон для течения моих грустных мыслей; при этом напоминание о предстоящей постели составляли жгучий коктейль из томатного удовольствия и кропотливого труда.
Теперь ты в темной бизнес-паре из жакета и короткой юбки жеманно стоишь в больничном коридоре вертя в пальцах свой маленький ридикюль с блестящими кнопками, и шейный платок все так же пахнет этими ворованными духами. Профессор, внезапно застигнутый по дороге в буфет, переминается с ноги на ногу, крутит пальцы за спиной, пытается вставить умное слово в ее нескончаемые рулады.
Вот, вы говорите – умер – печально всхлипывает Энн, прикладывая салфетку к уголкам глаз.
- Вы хотя бы представляете, какой это удар для всех нас? Дети – в кругосветном путешествии, моя бедная мать…
- Страховку оформите – утешительно вставляет доктор.
Энн на секунду замолкает, затем роется в сумочке пальцами в черных сетчатых перчатках и, наконец, извлекает наружу два скомканных листка серой бумаги, явно вырванных из какой-то книги.
- Что это? – удивляется профессор.
- Сэр, только одну минутку, я вам сейчас прочитаю отсюда, меня это очень волнует…
- Ну, если только одну.
— Вот, это место… Скажите, доктор, вы знакомы с трактатом американского танатолога* (*специалист по человеческим смертям) Раймонда Муди?
- Совершенно не знаком.
- А с докладом д-ра Рихарда Штайнпаха?
- Не имел такой чести.
— Вот что он пишет: «Безрассудным является и практикуемая в больницах аутопсия, когда вскрываются якобы трупы и хуже того: с тех пор, как медицина научилась трансплантировать органы, она смотрит на умирающего как на своего рода источник запчастей.»
- Ну и что здесь страшного?
- Вы… не будите смотреть на моего бедного мужа, ну, выражаясь поточнее, … как на «источник запчастей?»
- И в чем вы здесь видите проблему?
Энн растеряна. Она сжимает в кулачке салфетку, словно это помогает ей выговорить заветные слова:
- Я заплачу… только оставьте его в полном покое. Поверьте мне, он это заслужил.
Профессор внезапно расслабился, фыркнув при этом, словно тюлень,
- Да, господь с вами, мадам. Что вы подумали на самом деле? Мы даже с осужденными так не поступаем. Кому, простите за выражение, на хрен нужны его больные почки? Легкие, отравленные курением? И вообще, простите за грубость, мне давно пора на обед.
Но моя шустрая Энн ловко хватает его за локоть, и даже слегка припирает его потную лысину к стенке.
Мутные стеклышки очков профессора начинают слегка плавится под ее магнетическим взором:
- Справку кто мне выпишет? – проникновенно вопрошает моя жена.
- Простите… Вам туда.
Профессор неопределенно махает своей рукой в направлении коридорной пустоты, и наконец, получив свободу, петляющими шагами спускается по лестнице.
Я отравлен истиной, в моих знаниях слишком много скорби, кровь моя прокисла как нафталин, а моча выталкивает наружу мозги. Возможно ли описать состояние человека, зависшего где-то между небом и землей? Поэтому я даже рад присутствию эмигранта Герберта, тайного фашиста и служителя погребального культа нашего заведения – по совместительству. Он слегка скрасил мое одиночество.
Высокий и с лицом кругом в кожаных складочках он прохаживается по своему кабинету, напевая свои незамысловатые куплеты:
И там, где скачут на лугах мои шершавые олени,
Течет привольно мой Рейн величавый…
Работник морга привычными и плавными движениями точит о ремень блестящий металлический скальпель, а на левом предплечье проступает слегка вытравленная синяя татуировка с четкой надписью: «Die Witwe bittet um ein L;segeld f;r den K;rper» * (* Вдова за тело просит выкуп (нем.)
На коричневом кожаной жилетке, надетой прямо на голое, волосатое тело, словно газыри на кавказской черкеске из различных отверстий торчат разнообразные предметы: толстая недокуренная сигара, фломастер, записные ручки и зажигалка в виде солдатского патрона.
Немец ловко выуживает маркер, рисует им свои непонятные круги на моем плохо побритом лице, груди вокруг сосков, пишет в кругах номера и непонятные мне символы.
Затем в его руках в оказывается прямоугольная измазанная красками палитра художника и кисточка с белым наконечником. Его губы при этом, по обыкновению бормочут бессвязные слова: «Мне кажется иногда, что я слишком люблю свою работу… Какую же помаду с оттенком мне лучше подобрать? Попробую вот эту, №6 – слегка карминную с фиолетовым налетом…»
- Лучше №5 – вдруг слышу я знакомый голос у себя над головой.
Оказывается, это Мэл, собственной персоной, в белоснежной, слегка кокетливой медицинской наколке на голове. Она совсем не испуганно, а даже с некоторым интересом следит за манипуляциями Герберта, засунув руки в карман своего халата.
- Ты права, моя юная газель. Что ты здесь делаешь? Уже закончила дежурство?
- Дай лучше закурить, старый дурак. На минуту вырвалась.
У немца нашлись тонкие сигаретки, и через секунду они во всю задымили, выталкивая под горящую лампу слоистый сиреневый дым.
Молчание длилось, мне показалось, целую вечность.
- Ну и как он тебе? – наконец выдавила из себя Мэл.
- Как тебе сказать, - немец с некоторым сомнением посмотрел в мою сторону, - Покойники уже не кусаются. Не опаснее всех живых. Каким он был при жизни?
- Он и сейчас при жизни, - после некоторой паузы ответила Мэл. - Но это только часть приговора. Ты видишь эти следы от слез у него на щеках?
- Гм, - хмыкнул Герберт в мою сторону, - возможно, это вода, упавшая с губки, перед наложением последнего грима.
- Разве он не напоминает тебе списанный навечно в сухие доки морской корабль? Не успело остыть его бренное тело, как родные уже забыли о нем. Человек словно попадает в водоворот; и каждый новый виток событий все сильнее прижимает его к поручням кресла в американских горках. Все становится против него – постановления врачебных комиссий, разрешение на кремацию, квитанция на гроб, страховки, пластмассовые и дешевые венки… Вдова готова принимать соболезнования, дети молчат, подсчитывая наследство, а гости степенно прижимаются к стенкам в ожидании прощальной трапезы. Капеллан чувствует себя свадебным генералом, поднимая руку с янтарными четками и крестообразно вторит словам: «Pater noster ... caelesti» * (* отец наш небесный (лат.)
- Отпустите меня, наконец! – кричу я на своем прокрустовом ложе.
- Ладно - пойду я, - задумчиво молвит моя загадочная и не на что не похожая Мэл, вставая с кресла. – Советую тебе еще раз подумать насчет его… Работа ждет.
Старик провожает ее долгим взглядом, берет мою голову в свои темные ладони, пристально смотрит в мои глазницы:
- Йорик, бедный Йорик… Что же ты такое? У меня никогда не было проблем, с такими, как ты. И где же мне взять сейчас эксперта по вопросам потенциальных покойников, так упрямо цепляющихся за свою никчемную жизнь? Твое существование для меня – это чистой воды убыток. Вы меня так скоро по миру пустите, черти.
- Отпустите меня, прошу вас, – из последних сил шепчу я одними губами, а языком выталкивая кляп. – Я больше никогда не буду…
Герберт грохочет своим дьявольским смехом, резонируя им со стеклянными колбами на пыльных полках. Они дрожат и пускают радужные пузыри, Он подвязывает мои ступни к основанию перекладины толстой пеньковой веревкой и крутя рукой подобие штурвала, поднимает меня за ноги, в направлении противоположном моему висящему пенису.
Через голову он натягивает на меня льняную багровую плащаницу, завязывает ее тугим узлом на ногах. Не смазанная лебедка скрипит и тянет меня за ноги в направлении неясной в свете вечерних ламп дырки.
- Господи! – кричит немец. - К тебе направляю этого вечного симулянта! Прими его в свои объятья и не дай ему больше погибнуть. Меня такие субъекты лишь утомляют. С каждым днем он будет все более гадко излечимым; он будет требовать денег, морковки на завтрак и личного счастья, причем только для себя. На нем не осталось никаких сопроводительных документов, подтверждающих смерть; но я верю, Господи, что ты его простишь за это – на благо всех будущих потомков моей великой Германии.
- Господи, - продолжает он, – зачем же я пил этот гадкий денатурат из колб с зародышами крокодилов?! Мне страшно, плохо и даже отвратительно.
Он крутит и блюет, крутит и снова блюет на пол. Я срываю с перекладины и лечу в узкий проем с плоской крышкой наверху. Не могу понять – это снова я, или мое дырявое астральное тело? Все несется по крутому желобу с винтовыми нарезками по стенам; в мою массу втиснуто тысячу джи, - неужели теперь предстоит встреча с космосом?
И ярко-светлый выход в конце – я падаю на кучу пляшущих в танце, умственно мастурбирующих, но так привычных человеческому существу скопище человеческих органов моих братьев и сестер. Через мгновения я понял, что сломана моя левая нога с висящей нелепой бумажной биркой на большом пальце.
Конец.
Свидетельство о публикации №220080100570