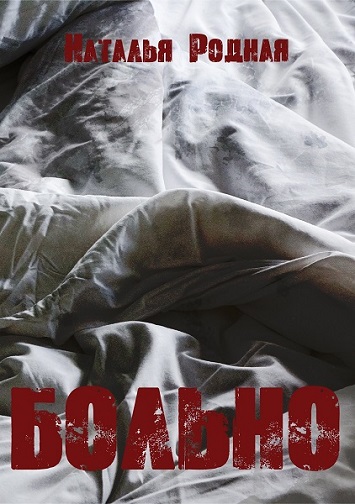Больно
— Больно?
— Не больно, — уверенная, что отвечает вслух, выпукло произносила каждый слог девушка, глядя в больничный потолок, под которым медленно кружилась осыпающаяся побелка.
— Сестра, каталку, быстрее! Кровь, быстрее! — закричала Оля с соседней кровати.
В голове начинало трещать, изнутри надавливая на тяжелеющие веки; долетавшие слова гудели на краях ушных раковин назойливым эхом. Побелка, дробясь на лету, оседала на плечи медсестры и подбежавшего врача. Каталка выехала из палаты и продолжила двигаться в густеющем облаке пылинок, на котором различались редкие блики: белые, голубые, зелёные. Внезапная вспышка, выплеснув на зрительный нерв всю свою яркость, погрузила сознание в темноту.
Лежать рядом с наполовину залитой кровью простынёй, смотреть на вздувавшуюся от влаги текстуру, ощущать её тёплый и влажный запах было неприятно. «Сестра, сестра!» — снова позвала Оля, но поняла, что подойти сейчас некому. Пришлось встать самой, медленно свернуть простынь и отнести на пост. Дежурная заволновалась:
— Что вы, возвращайтесь, ложитесь, давайте я проведу!
«Неожиданно как-то переполошилась, с чего бы?» — медленно, как шаги по коридору, шли мысли в её голове.
— Как на этот раз моя операция?
— Всё хорошо, всё хорошо, — как на механическом заводе, затараторила рядом идущая медсестра, — завтра доктор вам подробно расскажет.
— А сегодня?
— Сегодня вечером капельница.
— А как та, которую увезли? — желая услышать что-то определённое хотя бы о другом человеке, спросила она. Медсестра пожала плечами.
— Ну, хоть делали ей что?
— Аборт. Вы ложитесь-ложитесь, не вставайте.
«После стольких операций с единственной целью — родить, посочувствовать планово избавившейся от своего ребёнка!» — не совладала она с нарастающим внутри отчаянием, прилегла и слабым движением накрыла ноги простынёй. «Почему? Почему всё так? — начал вращаться в голове круг привычных вопросов. — Почему?»
Расплывчатая фигура в ярком одеянии села на кровати готовить посуду к ужину, потом обратилась к кому-то рядом:
— Я вот ногти сделала — не акрил, не гель, но так держатся хорошо и корректировать всего раз в месяц.
— Как материал называется? — спросил другой голос нетерпеливо.
«Очень важный сейчас вопрос! Ещё одни страдалицы!» — вспомнила Оля своё оплёванное чужим абортом сочувствие.
— Ай би ди! — радостно воскликнули через койку.
Голос, которому предназначалось сообщение, что-то невнятно промямлил.
«Нет, ну почему? Я очень даже рада, что так быстро нашёлся ответ на важный вопрос», — язвила она внутри себя, заглушая поднимавшуюся обиду на безысходность.
— Ужин! — крикнула кухарка и с до боли знакомым звуком откинула дверцу раздаточного окошка.
Удушающая волна бессилия прокатилась от ног к голове: здесь знаком каждый голос, звук, медсестра, врач, лекарство. Они незаметно стали кругом её жизни, вращаясь в котором, она растратила силы для выхода из него: пришла сюда, обнадёжили, что-то сделали, ушла, вернулась опять. Захваченная движением, она и не заметила, как перестала мечтать о радостных днях после рождения малыша, когда-то рисовавшихся ей в самых ярких красках.
От вида тарелки, из которой она завтракает, обедает и ужинает в этой больнице, её чуть не стошнило. «Уйти, уйти отсюда, быстрее, как можно быстрее!» — снова и снова прокручивая в памяти операции, консультации, не выбравшиеся из этих стен надежды, она уткнулась взглядом в руку выше катетера, покрытую красными зудящими пятнами. Медсестра остановила капельницу, уколола димедрол.
— Боря, ты можешь меня забрать? — дрожащим голосом спросила Оля, вытирая собирающиеся между щекой и телефоном слёзы.
— М..могу, конечно, а что врач сказал, когда выписывает?
— Нет, без врача, без того, что он скажет, сейчас забрать.
— Что случилось, почему ты не ждёшь врача, не ждёшь результатов?
— Я не жду результатов?! — давясь сдерживаемым с первого слова плачем, закричала она. — Я их уже десять лет жду, но их не будет! Их не будет!
— Подожди, успокойся, я поговорю с врачом, узнаем итог операции, всё бу-дет, — наспех успокаивал муж. — Подожди, подожди, не торопись, давай без твоих выводов!
В трубке фоном зазвучали нотки смеха, уверенность степенного замечания, мгновенное возражение и лёгкий беспечный смешок.
— Где ты?
— Домой иду, площадка детская рядом.
— Уже поздно, уже не гуляют с детьми, — удивилась она, прекращая плакать.
— Гу-ля-ют, — нажимом на каждый слог старался передать очевидность факта Боря. — Не мне же людям рассказывать, когда и с кем им гулять. Ты не переживай, всё наладится, всё бу… — он замолчал, ощутив банальность слов, с которыми давно не связаны его эмоции.
— Ты просто идёшь и не можешь развернуться, чтобы приехать за мной?
— Но посещение до семи, выписка только утром, мы даже увидеться не сможем! Завтра приеду, с врачом поговорю и заберу тебя, когда разрешат. Почему ты хочешь уехать сегодня?
— Потому что уже ничего не изменится.
— Что ты? Что ты? — быстро начал возражать Боря, но остановился перед потоком общих фраз. — Поговорим, когда увидимся, ладно?
Высокие звуки её рыдания перетекли в протяжный телефонный гудок. Ей хотелось бежать, идти, отсчитывать шаги на пути отсюда, но она могла только представлять себе это, мысленно отождествляя себя с движением. Ей не хотелось думать ни о чём, кроме своего ухода из этой больницы. Если бы она могла уйти, то ушла бы прямо сейчас, нет, до звонка, нет, до обеда, до разговора с медсестрой, до того, как увидела окровавленную абортичку, до своей операции, до, до, до…
Её широко открытые глаза поймали длинный луч тусклой лампочки, перед взглядом возник узкий коридорчик, по которому шла девочка, постепенно вырастая в высоту. Растрёпанный хвостик волос, затёртый на рукавах махровый халат с жирафиками, белые худые ноги в растоптанных, когда-то красных тапочках с дырками на больших пальцах. Детская фигурка качнулась, но хватаясь тонкой рукой за стены коридора, восстановила равновесие. Подошла к столу, отпила воды из кувшинчика, поднесла руку ко лбу — горячий, открыла холодильник — пустой, потянулась к дверце духовки, слабым движением выдвинула противень с подгоревшими сухарями, опустилась на холодный табурет и один за другим начала медленно их жевать.
Олина щека коснулась подушки, глаза описали круг под закрытыми веками и снова увидели коридор: широкий, гулкий, с серым полом и стенами, по-казённому отделяющими окрашенную часть от побеленной тонкой полосой. Вдоль них сидели люди, их голоса и скрип открывающихся дверей смешивались в неоднородный гул. Тонкая девочка в серой куртке быстро шла по коридору и, несмотря на усилившийся шум, открыла одну из дверей, объяснив сидящим: «Я к маме».
— Ну что, работать пойдёшь?
Девочка опустила голову.
— Пойду.
— Мне надо с главной договориться.
— Скажешь, когда начинать.
Её глаза раскрывались всё шире, она не могла закрыть их или хотя бы моргнуть — лишь провела головой по подушке и сглотнула. Повернулась на бок лицом к больничному коридору — отблески нескольких тусклых лампочек слились в яркое пятно перед ней, очерчивая подобие крыши и стен, под пологом света замерли два силуэта: один белый пышный, другой — серый с тонкими очертаниями. Фигуры и цветастые точки замирали или двигались перед ними, производя равномерный гул. Вдруг послышался хлопок, взвизгнули женские голоса, дамы, смеясь, вытирали забрызганные шампанским руки, одна из них подошла к невесте, другая — к жениху и полились обычные: «Поздравляем, желаем…»
Поймав взгляд невесты, она замерла: какая уверенность, что это шаг в новую полосу жизни, светлую, непременно светлую. Жених спокойно находился в центре внимания, охотно отвечая улыбками на встречные взгляды — он не перешагивал, он спокойно шёл.
Она очнулась от движений собственных губ, ещё продолжая с кем-то разговаривать, кого-то просить или звать, и сразу расстроилась — не договорила, не допросилась, не дождалась, не нашла выхода?
За окном чуть серел душный августовский воздух, подсвеченный поднимающимся солнцем. Глубокая тишина палаты показалась ей непроницаемой по сравнению с ощущениями мелькавших перед глазами картинок, в которых она ещё надеялась встретить чьё-то сострадательное участие.
Оля попыталась подняться, но удался только поворот головы: бледная щека соседки по палате, едва приподнятая над цветастой наволочкой, усиливала интенсивность чёрного цвета волос, руки обхватили покрытое затёртой больничной простыней скорченное тело. Она брезгливо отвела взгляд и уставилась в потолок. Воспаляемая солнцем темнота медленно отползала от окон, освещая мелкие трещинки на потолке и увлекая ослабевший мозг восстановить их маршруты. Напрячь память и внутренне сосредоточиться ей оказалось не по силам, и она провалилась в сон.
-2-
По залитому солнцем коридору сновали шаги. Стоял обыкновенный больничный галдёж: голос, зовущий врача в коридоре, грохочущая на неровном кафеле каталка, крик санитарки, безучастной ко всему, кроме полосы только что вымытого пола, сбивчивые объяснения в сторону её окрика: «Куда без бахил?»
Она даже обрадовалась возможности избежать страдальческих размышлений в оживлённости утра.
— Вы Кривцова Ольга? — спросил её с порога палаты молодой человек в белом халате. — Я ваш новый врач.
— А где Николай Павлович?
— Его сегодня не будет, я осмотрю вас и выдам заключение. Завтракайте, жду вас в третьем кабинете.
Стоя на пороге, Оля оглядывала кабинет, удивляясь, что никогда не была в нём раньше.
— Проходите, пожалуйста. Как вы себя чувствуете?
— Хорошо, спасибо.
— Давление утром измеряли?
— Нет, пойти измерить сейчас?
— Не нужно, я сам измерю. 130 на 90, немного повышено, может, собьём уколом?
— Не надо, само наладится к вечеру, я уже знаю.
— Хорошо, только больше лежите, отдыхайте. Как вы наркоз перенесли?
— Раньше легче переносила: голова не так болела, в сердце тяжести не было.
— Вам делали несколько операций?
— Да, две внематочные, вторая лапароскопия.
Доктор потёр лоб и спросил:
— У вас сейчас что-то болит?
— Несильно внизу живота, справа. Снова нужно на УЗИ смотреть?
— Часто УЗИ делаете?
— Когда задержка, когда Николай Павлович назначает новое лекарство, перед курсом и после него. На УЗИ, да?
— Подождите. Где результаты ваших предыдущих исследований?
— В карточке, я их с собой не забираю.
— Здесь только последнее, за неделю до операции, на нём…
В Олином кармане зажужжал телефон.
— Извините, наверное, муж приехал, вы меня выпишете сейчас?
— Отвечайте, отвечайте, разберёмся.
— Ты у входа? Я? У врача, подожди, выйду и наберу тебя.
— Вы встретьте мужа, а я пока спрошу, где могут быть результаты ваших обследований.
Они вышли из кабинета. Оля повернула к лестнице, но пройдя несколько шагов, обернулась и спросила:
— Простите, вас как зовут?
— Михаил Михайлович, — ответил он, смущаясь звучанием своего голоса, усиленного коридорным эхом.
— О, уже орёт на весь коридор, что он, Михал Михалыч, здесь! Чего ж фамилию свою министерскую не прокричал, застеснялся что ли? — отметили в курилке достаточно громко.
Он остановился на пороге и, отмахиваясь рукой от волны дыма, попытался спросить о документации:
— Анатолий Петрович, вы не знаете…?
— Во-первых, Алексеевич, а не Петрович, и я не знаю. Всё по своим больным Николай Павлович хранит у себя, вернётся — спросите.
— Пятый раз за второй день один и тот же вопрос. Почему эту неадекватность нам сунули проходить интернатуру? — отслеживая его удаление по коридору, пустил струю дыма заведующий.
— Много сынку надо, чтобы пару печатей поставили? Думал, сейчас рассказывать начнёт, что в лечебном учреждении курить не положено, — замаскировал волнение усмешкой невысокий доктор.
— Та да, — хмыкнул Анатолий Алексеевич, туша окурок о стенку жестянки, наполненной до краёв. — Скажи Маше, чтоб сегодня здесь убрала, я на обход.
На лестнице было прохладно, но удаление от постылого отделения вызывало радость, которая, разрастаясь внутри, побуждала ускорить шаг. Ей вспомнилось школьное ощущение, когда после ненавистной контрольной по математике ноги сами несли по лестнице быстро-быстро.
Боря смотрел в телефон, она подошла к нему и коснулась руки.
— Привет, Оль, — наклонился он к ней и поцеловал в щёку.
— Привет. Я тебе глаженую рубашку оставляла, почему ты не поменял?
— Некогда было, замотался. Тебя уже выписывают?
— Непонятно. Сегодня врач новый, документы ищет, хочет узнать, что тут раньше со мной делали.
— О последней операции что-то сказал?
— Ещё ничего, — она с сожалением провела взглядом по воротнику дважды надетой рубашки.
— Покупаем бахилы, и собирать вещи?
— Пойдём! Ну, скажет он что-то, всё равно я здесь не останусь, и ты меня сразу заберёшь.
Они поднялись к отделению, Боря остался у входа.
Михаил Михайлович заглянул в палату.
— Уже собираетесь?
— Да, — смутилась Оля, — заключение можно и потом забрать, верно?
— В принципе, верно.
— Муж приехал, в коридоре ждёт, — продолжала слабо оправдываться она.
— Хорошо, а можно я с ним поговорю?
— Конечно.
Она выглянула в коридор.
— Боря, доктор хочет с тобой поговорить, ты не против?
— Нет, совсем нет.
— Пойдёмте, — указал рукой в сторону кабинета Михаил Михайлович.
Муж неуверенно потоптался возле Оли, спрашивая взглядом: «Ты не идёшь?» Она заволновалась: «И правда, почему разговор без меня?»
— Мне с вами идти?
— Нет-нет, собирайтесь, мы ненадолго.
Оля наклонилась к тумбочке достать пакеты.
— Здравствуйте, — услышала она совсем рядом и обернулась с заготовленной улыбкой.
Невысокая девушка с чёрными взъерошенными волосами перекладывала мокрое полотенце из руки в руку.
— Здравствуйте, — ответила она ей и развернулась обратно.
— Спасибо, что медсестру позвали, а то неизвестно, когда бы на меня внимание обратили.
— Не за что.
Заканчивая сборы, Оля заметила, что коротко стриженая особа никуда не торопится. «Досадно, что придётся с ней сидеть до Бориного возвращения», — обведя взглядом разложенные по пакетам вещи, она вынула только что упакованную чашку и вышла попить воды из коридорного кулера, но её там не оказалось. «Что за невезение?! Всё равно не вернусь!» — огорчилась она и решила попытать счастья этажом ниже. Опережая её на один пролёт, из отделения спускались два врача.
— Палыч царь! — заметил один. — Бросил прооперированных больных, улетел отдыхать.
— Ну, он с заведующим в кентах, ему можно.
— И куда на этот раз?
— Фиг его знает, сам, наверное, со счёта сбился, где был, где не был.
— Присаживайтесь. Я хочу поговорить с вами о последней операции.
Боря согласно кивнул.
— Дело в том, что у меня сейчас нет доступа к истории болезни Ольги, я могу говорить только о результатах проведённой вчера операции и снимке УЗИ, который был сделан до неё. На нём одна маточная труба, перекрученная, со множеством спаек, так что смысл проведённой лапароскопии мне неясен.
— То есть неясен?! Нам обещали их убрать! Мы столько лечимся в этой больнице, чтобы Оля смогла забеременеть, а…
— А кричать на меня не нужно, я мог вам этого не говорить, и вы бы еще продолжали лечиться, хотя шансы на естественную беременность утрачены и даже осуществление искусственного оплодотворения маловероятно. Нет смысла дальше проводить операции, здоровье не бесконечно. После наступления беременности нужно ещё выносить ребёнка, выкормить. Откуда у неё возьмутся силы после стольких наркозов, лекарств, переживаний? Успокойте жену, рассмотрите другие способы завести ребёнка.
Боря, захлёбываясь возмущением, резко встал.
— Мы можем уехать сейчас?
— Можете, конечно. Дома обеспечьте жене покой, отдых, не заводите сложных разговоров.
— Кто нам выписку выдаст?
— Только Николай Павлович, созванивайтесь с ним, договаривайтесь.
«У неё не будет ребёнка, как ей сказать?» — быстро зашагал Боря, повернув не в ту сторону коридора. «Чёрт!» — ругнулся он, выйдя на лестницу.
На площадке между пролётами Оля смотрела в окно.
— Почему ты здесь? — выплеснул он внутреннее волнение в эту заботливую фразу.
Она не шелохнулась. «Знает, всё знает! Что делать? Кто-то уже сказал! Как её успокаивать?» — перестреливались в его голове вопросы и догадки.
— Оля, — тронул он её за плечо, — зачем тебе чашка?
Она вздрогнула и обернулась:
— Да так, воды хотела.
На верхнем пролёте лестницы звякнуло ведро, санитарка заметила их.
— А, вот вы где? Я ваши вещи на пост вынесла, там уже новенькая располагается.
— Спасибо, тёть Маш, сейчас заберём.
— Я сам поднимусь, — сказал, взбегая на верхнюю ступеньку, Боря.
— Подожди, мне ещё переодеться надо.
— Зачем? У тебя халат красивый, в палате уже нет места, машина возле входа. Подожди меня здесь, спустимся вместе, возле дома нас мало кто заметит.
Оля слабо улыбнулась ему в ответ и осталась стоять у окна.
В коридоре отделения гудели голоса: пациентки, стоящие вдоль стен, приглушённым шёпотом общались по мобильным, врачи громко перекрикивались друг с другом или передавали назначения медсёстрам.
Медсестра с поста позвала его:
— Здесь ваши вещи!
Боря забрал пакеты, спустился вместе с Олей по лестнице, садясь в машину, окинул взглядом серое здание больницы, отталкивая осознание, что информация, вынесенная из этих стен, окрасит его жизнь совсем не в радужные цвета.
-3-
«Какой ты красавчик!» — проводя от плеч по груди и животу, она с явным удовольствием добиралась до кубиков пресса и снова поднималась по мускулистым предплечьям. Он бережно взял её за руку и вывел из-за спинки дивана, словно развернул в танце. Глаза пробежали по обложке медицинского обозрения и бугорку карандашика, спрятанного внутри страниц.
Он усадил её к себе на колени и обнял. Она затихла, боясь драгоценное мгновение сократить. Взгляд скользил по его тонущим в мягком свете пальцам и полусогнутой кисти с чуть заметными сухожилиями и сеточкой вен.
— Смотри, — указала она взглядом выше его ладони, — на подлокотничке уже трещинка.
— Старится наш Берлинчик.
— Ты даже название помнишь?
— Да, мы купили его, когда вернулись из Берлина.
— Я помню.
— Что ты помнишь?
— Ну-у, как ходили в магазин, как выбирали ткани…
— У-у-у, — притворно нахмурился он.
— У-у-у, — скопировала она и засмеялась.
— А по-том? — растягивал он вопрос, поднимаясь по её бедру.
— Сейчас…
— Катюша, доброе утро, — проводил он дыханием слов по её лицу, пробуждая на сомкнутых губах улыбку, — поднимайся.
— Встаю, но делать зарядку и готовить завтрак не хочу.
— Вот так доброе утро! Давай я приготовлю завтрак, с зарядкой сама справишься, — он остановил лоб у её подбородка и вдохнул родной запах.
— Нет! Ты — зарядку, я — завтрак! — быстро поднялась она.
Шёлк халата мелькнул в проёме двери, благородно задребезжал фарфор, просигналила духовка, и густой запах сыра неторопливо добрался до комнаты.
«Вдох-выдох, раз, два, три», — срочно заканчивалась зарядка.
— Как вкусно пахнет, — сказал он, заглядывая в кухню.
— Тебе легко угодить — это всего лишь бутерброды.
— Всего лишь с пармезаном.
— Не ожидала от тебя такой разборчивости.
— Мне он еще на экскурсии понравился, сложенный в погребах кирпичиками.
— Да-а, в Италию хочется ещё — там столько всего интересного. Мы были в северной части, можно по югу попутешествовать…
— Тебя заждался сувенирчик из прекрасных мест, такое издание красивое, подарочное.
— Прямо сегодня начну, — вздохнула она с сожалением о необходимости себе напоминать.
— Не могу помочь убрать — пора...
Спина в отутюженной сорочке, запонки, жест, которым он поднял портфель, запах, взметнувшийся над запястьем…
Бездушная дверь мигом скрыла любимый силуэт. Она раскрыла дверцы книжного шкафа, сквозь блики прозрачной упаковки прямо на неё смотрела «Средиземноморская кухня».
— Николай Павлович, здравствуйте! С возвращением! Как отдохнули? — заулыбался, пожимая руку, Анатолий Алексеевич.
— Хорошо, как всегда, хорошо!
— Разве везде одинаково хорошо?
— Нет, просто лучше, чем на работе.
— Обижаете, Николай Павлович! Мы на вас так надеемся, так ждём, а вам здесь оказывается не очень. На выставку оборудования в Киев съездить нужно, только на вас рассчитываем.
— Съезжу, конечно, отметиться.
— Надо бы в детали вникнуть, что на чём проводить можно.
— Мы только в прошлом году отличное оборудование для малоинвазивных операций закупили, операции проходят на нём отлично.
— Тогда считайте это моей личной просьбой.
— Даже так?
— Хочу открыть кабинет, вас работать пригласить.
— Спасибо, не ожидал. Когда выставка?
— В ноябре, в десятых числах...
— Время есть, позже обсудим ещё раз. Вы моих сами выписали?
— «Министерскому» поручил, что у ваших-то изменится? Он домой их поотпускал, за выпиской сказал к вам обращаться. У него, видите ли, не вся информация на руках, нет доступа к историям болезни.
— Понятно. Как он здесь?
— Сам по себе — не со всеми он, надо понимать, не со всеми.
— Николай Павлович, поговорить с вами можно? — окликнули его у входа в кабинет.
— Да, Михаил, проходите.
— Я не мог нормально работать с пациентами, потому что у меня не было возможности изучить истории, вникнуть в суть назначений, увидеть целесообразность операций!
— Хорошо говорите, как с трибуны, — удобно располагаясь в кресле, отметил Николай Павлович.
— К чему это? Мы с вами в больнице разговариваем.
— Не обижайтесь, когда видишь вас, подобное непременно приходит на ум.
— Я пришёл спросить о другом.
— О чём же?
— Предполагалось, что я выпишу пациенток после ваших операций. В некоторых случаях они были им, мягко говоря, не нужны. Хочется понять…
— У вас замечательный настрой! Как ответственный за ваше здесь пребывание и обучение, Анатолий Алексеевич будет знакомить вас с необходимой вам документацией. Здесь достаточно пациентов, достаточно специалистов любого профиля, любой научной степени, люди обращаются, им оказывают помощь, их наблюдают, направляют к другим специалистам, в другие клиники. Мы не зациклены на себе и своих возможностях — на базе нашей больницы можно получить…
— Простите, но эта скороговорка лишена практического смысла! Я не услышал, что здесь кто-то намерен людей лечить! — хлопнула дверь, торопливые шаги прочь от кабинета взяли на себя выражение недовольства и сопротивления.
Николай Павлович выдохнул и повернулся к открытому окну: начиналась осень, остывающий воздух не плавился от жары, пейзаж за окном был несравним с итальянским.
Рабочие в перепачканных жилетах вколачивали в асфальт рельсы, поодаль кипела бочка со смолой, источая режуще-горький дух. Из люка вылетела громкая доходчивая фраза одного из работников, мол, ему нужен ключ, но коллеги, сбившиеся вокруг покорёженной железяки, никак не отреагировали на просьбу. Несколько трамваев остановились друг за другом, единичные пассажиры рассеянно смотрели в окна. Пылинки веселились в лучах солнца, вырываясь из-под стёршейся на полу резины и кружась у открытых дверей. Вдруг один вагон резко тронулся, подпрыгнул на невидимом препятствии и тут же спустился с него, издав характерный скрипучий звук. Трамвай уехал, Николай Павлович стоял, всматриваясь в покорёженное полотно асфальта и выискивая взглядом источник знакомого скрежета. Ему вспомнилось, как чуть уклоняясь вправо, сужалась аллея деревьев на Пушкинской, в ней красиво разворачивался трамвай, а он, оставив мамину руку, недолго бежал за ним навстречу красоте осенней улицы, её запахам и звукам.
Мама любила выходить из дома настолько заранее, что в пункте назначения с ней можно было оказаться на час раньше. Ушедшие трамваи никогда не огорчали её, напротив, она радовалась возможности пройтись по любимым улочкам. Её фантазия в прокладывании маршрутов от дома ко Дворцу пионеров была неистощимой. Так сложились «весенние» — с минимальным количеством луж, «зимние» — по самой короткой дороге, «осенние» — самые разнообразные и любимые. Мама всегда смотрела вверх, она высматривала на домах статуи, гербы, колонны, наслаждаясь их растворяющейся во времени красотой.
Однажды в предвкушении осенней прогулки он забыл дома самостоятельно рассчитанную и тщательно собранную модель самолёта, которую очень хотел показать на кружке. Вспомнили о ней только свернув на Сумскую и увидев здание, в которое направлялись. Он остановился в нерешительности, на глаза навернулись слёзы, мама наклонилась к нему:
— Коленька, самолётик — не главное, ты сам знаешь, что сделал хорошо, покажешь в следующий раз.
— А что главное? — поднял он на маму краснеющие глаза.
— Главное, чтобы от твоих моделей была польза людям.
— Как от папиных? — спросил он, чтобы не начать плакать.
— Как от папиных, — мама гладила его по голове, а он вертел ею, не выдавая, что успокаивается от прикосновений.
-4-
В душной комнате луна подсвечивала силуэты цветов на подоконнике. Оля тихо присела на край кровати, предугадывая ощущение жажды, провела рукой по горлу, сглотнула. Прошла минута, другая, но пить не захотелось.
Она обернулась на спящего Борю и увидела, как во сне вращались под веками его зрачки, рот искривился, пальцы сжали край простыни — миг и он спокойно уснул.
«Волнуется, конечно, переживает», — подумала она, осторожно вставая с кровати. Бесцельный круг по комнате и коридору, не хочется ни есть, ни пить — боязно без самых простых желаний.
Антуриум на подоконнике кухни свесил подсыхающие листья и мелкие цветы, возле поддона скрутилась страница блокнота, на которой она отмечала даты полива, внесения удобрений, начала и окончания цветения. Бумага зашуршала, покалывая острыми краями ладонь — это несовместимо с её теперешним ощущением жизни.
Она села за стол, дискусы бились своими большими головами о передний край аквариума, вмонтированного в стену — сегодня в нём опять не включалось оборудование, и они остались голодными. Часть воды испарилась, по стенкам прошла белая полоса, от ящичка с аквариумными принадлежностями отвалилась ручка.
Мысли о завтрашнем мытье посуды, глажке рубашек и походах в магазин выстраивались цепочкой безрадостных дел, как будто от неё, обессилевшей, кто-то внутри строго требовал ежедневного соответствия жизни и выполнения всех этих действий.
Сон, давно не приносивший облегчения, успокоил бы её сейчас. Лучше избегать взгляда на часы, чтобы не знать, как давно не спится и сколько ещё осталось до утра следующего мучительного дня.
— Боря, поговори со мной, — надеясь вызвать жалость к себе, попросила она.
— Оля, ты завтра дома, а мне на работу идти, ты спи, спи.
— Помнишь, ты нырял под одеяло и сразу обнимал меня, крепко прижимая мою спину к своему животу, наши согнутые колени складывались домиком. Ты смешно дышал мне в ушко, щекотал и спрашивал: «Как был твой день?». Мои рассказы забавляли тебя — ты не мог поверить, как можно с удовольствием нагладить рубашки на всю рабочую неделю или сварить борщ по двадцатому рецепту. Ты говорил, что мои счастливые глаза убеждают тебя в реальности этого удовольствия, и что, не видя их, ты никогда бы в подобное не поверил.
Её лицо замерло, уголки рта задрожали и поползли вниз, она с отчаянием ребёнка заплакала об исчезнувшей картинке. Если лежать на спине, кровать ощущалась менее противной. Она повернула голову в сторону окна и следила за меняющимися тенями на полу, но пропустила момент, когда они остановились.
— Помоги мне, — под свист чайника звал Боря беспомощно-брезгливым голосом, — а то я что-то здесь разобью.
— Позже встать нельзя было? — неуверенными шагами входя в кухню, спросила Оля.
— У меня сегодня первая пара вообще-то!
— Какой сегодня день?
— У тебя, очевидно, такой же, как вчера, позавчера и третьего дня, — досадовал, опускаясь на стул, беспомощный заложник кухни.
— Борь, уберу я, всё поглажу, постираю.
— Хотелось бы.
Оля поставила перед ним чай и начала открывать пачку печенья, он драматично вздохнул. Пальцы бессильно разжались, на глаза навернулись слёзы, ещё не открытую пачку из дрожащих рук принял стол. Она развернулась, чтобы уйти в комнату, Боря дёрнул её за руку.
— Не надо плакать, может, маму твою позовём, пусть что-то человеческое приготовит?
— А ты так исстрадался без человеческого, что тебе безразлично её непонимание меня?
— Кто тебя сейчас поймёт? Не драматизируй, всем тяжело, но нельзя же так отключаться от реальности, нужно что-то делать, потихоньку, по чуть-чуть, подвиги Геракла от тебя не требуются.
— Ну, зови.
— Я не понимаю, почему ты всю жизнь ею недовольна? Вырастила, воспитала, как смогла, ты замуж вышла, свою жизнь дальше сама строишь, а всё недовольна и недовольна.
— Зови-зови, это не то, что можно любому объяснить словами.
Подстёгиваемым голодом Бориным рукам пачка поддалась быстрее, он взял печеньку и постучал ею об стол.
— Блинчики иное дело, — сказал он, сосредоточенно глядя на источник звука. — И с каких пор я для тебя любой?
— Ты не любой, ты такой же, как она.
— Ох, ничего себе! Раньше ты говорила, что я — единственный, кто понял тебя, кто услышал, — проговорил ошарашенный Боря, подняв глаза от печенья, не удовлетворявшего его представлениям о свежести.
— Ты и сейчас слышишь и понимаешь. Все люди, исключая инвалидов по слуху, слышат и как-то понимают услышанное.
— Спасибо, успокоила. Это тебя на распускаемых слюнях к осмыслению бытия понесло?
Она недвижно уставилась на стену перед собой.
— Эй, ты же не инвалид по слуху, вопрос должна слышать?! — он хлебнул чая, тот оказался слишком горячим, и сплюнул его обратно в чашку.
Оля подняла на него удивлённый взгляд.
— Университетский преподаватель в четвёртом поколении, ты только руки об шторку после еды не вытирай, ладно?
— Ладно, — с женской ехидностью процедил он и быстро вышел из кухни. — Я просил туфли к коричневым брюкам достать, где они?
— На балкон вынесла, чтобы кремом на всю квартиру не воняло.
— Ну вот, можешь же что-то делать, когда хочешь, а то депрессия, депрессия.
Оля озадаченно посмотрела на хлопнувшую дверь, подошла к ней, закрыла замки. Вспоминая перебранку, удивилась слову депрессия — при Борином презрении к психологии, оно явно из чужого лексикона.
«Где это мочалка запропастилась? — переставляла она немытую посуду из раковины на стол. — Исчезла! Так новые, вроде, были».
Заглянула в один шкафчик, в другой, в кладовку — есть! На полке длинная упаковка мочалок. «Прямо радуга! Но радуги без воды не бывает», — подумала она и включила кран.
«Мама, — прочитала она на экране звонящего мобильного, — надо же, только вспомнили».
— Как ты, доченька, как здоровье, как себя чувствуешь?
— Нормально. Ты как?
— Тоже ничего, спасибо.
— Может, зайдёшь?
— Зайти? А когда можно, когда вы дома?
— Не по-праздничному зайти, так, может, приготовить что-нибудь.
— Что?
— Может, блинов нажарить.
— Не узнаю, ты всегда любила готовить, столько пекла, всегда что-то новое…
— Не до этого сейчас.
— Ты хоть не лежи часами, вставай, делай что-то потихоньку.
— Я делаю что-то потихоньку.
— У тебя сейчас есть, что покушать?
— Есть.
— Утром прохладно, одевайся теплее, вещи тёплые достань.
— Понятно. Так когда ты придёшь?
— Может, завтра, я позвоню.
«Почему её интерес ко мне никогда не выходил за рамки еды и одежды? Неужели у взрослого человека нет представления о других потребностях? С этими вопросами всплывали воспоминания об их разговоре в бунтарско-подростковый период. Она всё допытывалась: «Что, ты считаешь, нужно дать ребёнку?».
— Сначала его нужно выносить, родить.
— А потом?
— Потом кормить, следить, чтобы не болел.
— Потом? Потом что?
— Ну, кто знает, что будет потом?
— То есть, кто знает? У тебя уже есть ребёнок, и ты не знаешь? Ты, как животные, носили, родили, кормили, следили, а потом выросло дитя — пусть само бегает, носит и родит. Всё! Круг замкнулся, миссия на земле выполнена!
Шум воды, льющейся из открытого крана, заставил её подняться. Представляя себя роботом, она начала мыть тарелки, ей хотелось стать недосягаемым для чувств существом. Жаль, мыслям и воспоминаниям нельзя придать такой же механический ход, регулировать их включение и выключение. Они приходят сами, как только на лице появляются слёзы, а горло и губы охватывает мелкое дрожание и готовящийся к выходу стон.
— Мама, мама, смотри, маленькие ложечки нужно в эту коробочку, большие — в большую, а вилочки — в длинненькую, да?
— Да.
— А почему ты их в одну бросаешь?
— Вот когда будешь мыть посуду сама, будешь как хочешь раскладывать, а сейчас отойди отсюда!
— Почему отойди?
— Потому что я сказала отойти!
— Но я же сейчас их правильно раскладываю?
— Уйди отсюда, тебе говорят.
Маленькая фигурка поникла, опустив голову в плечи, но не уходила — она же делала правильно. Рука в мыльной пене схватила её за плечо, развернула и оттолкнула к столу.
— Уйди!
Горькая досада с чувством обманутости разливались в голове, животе, горле. Почему только сейчас она поняла, что, если не любят, то правильность, исполнительность, верность будут использовать против тебя?
Робот сломался: остановились клешни, поворачивающие посуду под краном и переставляющие её на край стола. Опорные конструкции подкосились, угрожая быстрым падением, из принимающих свет отверстий полилась солёная жидкость, приводящая в негодность весь механизм.
— Привет, Светик! Как был твой день?
— Привет! День как обычно — поели, покричали, кашей поплевались и спать легли.
— Классно вам!
— Очень классно вытирать её теперь со стен.
— Не расстраивайся, на выходных я с уборкой помогу.
— Неплохо бы обои на кухне переклеить.
— Ну, если уже пора, переклеим. Как настроение?
— Для настроения мне нужно к парикмахеру записаться, когда ты сможешь с ним посидеть, чтоб я спокойно подстриглась?
— В пятницу могу после двух прийти и до шести побыть, этого времени хватит?
— Должно хватить. Всё, заревел, жду в пятницу.
— Свет, ты мне звони.
— Хорошо-хорошо, в следующий раз. Пока.
«Почему она в таком настроении? У неё ребёнок растёт смышлёный, красивый, миленький — столько всего интересного, а она только и рассказывает о буднях», — в дверь кабинета постучали, он вздрогнул и трусливо обернулся.
— Извините, где можно Константина Сергеевича найти?
— Константина Сергеевича в прошлом году искать надо было, теперь я доцент этой кафедры.
— Ой, а как вас зовут?
— Вот когда узнаете, как меня зовут, так сразу и приходите!
Он потоптался в кабинете, собрал вещи, выглянул в окно — вспомнить, где припаркована машина.
В длинном полутёмном коридоре через одну лежали паркетины, через две горели лампочки. «Зачем было сидеть одному так долго? Вышел бы, прошёлся по городу», — досадуя на себя, он остановился, поискал в карманах жвачку и обернулся на звук приближающихся шагов. По выщербленному паркету стучали женские каблучки, безуспешно пытающиеся набрать скорость. Он присмотрелся: издалека приближалась фигура в хорошо сидящем деловом костюме, высокая причёска, красиво лежащая поверх сумочки рука, на которую она аккуратно перенесла плащ, а свободной помахала ему.
«Зачем это сейчас?» — занервничал он.
— Боря, вот экземпляр приказа, подписанный ректором.
— Спасибо, — процедил он сухо и поцеловал её в щёчку.
— Что ты невесёлый совсем? Такое событие, повышение!
— Устал, просто устал за сегодня — четыре пары.
— Понимаю! Когда у заочников сессия, их может быть и пять, и шесть. У доцента ещё чтение лекций по расписанию, — вещала она с самодельной помпезностью.
Он слушал, не меняясь в лице.
— Что дома?
— Как обычно, то орёт, то плачет, иногда с пинка делает что-то, а так лежит целыми днями.
— Ты понимаешь, как ей тяжело?
— Мне легко, что ли?
— Как жаль тебя! Годы идут, ребёнка нет, нервы у неё на пределе, тебе тяжело. Кто знал, кто мог подумать, что так сложится?
-5-
Прищурив глаза, Николай Павлович отодвинул картину рабочих на трамвайных путях к дальнему краю перспективы. «Что ж, надо идти, надо идти!» — постучал он пальцами по столу и поднялся. Кабинет, зрительно увеличенный свежим ремонтом, стал очень приятным помещением.
В полупустом коридоре шёпотом разговаривали пациентки и громко прощались врачи.
— Николай Павлович, добрый вечер!
— Приветствую, Игорь Васильевич, что нового в отделении?
— Кроме, как его кличут, министерского отпрыска ничего.
— Он сын действующего министра, что его так окрестили?
— На анекдот это больше похоже, если честно. Отец помощник какого-то депутата, даже не ясно, имеет ли он отношение к медицине. Когда заведующему первый раз по его поводу звонили, сказали, что из министерства, из какого не уточняли. Он автоматически подумал, что из нашего, когда начал проверять по своим каналам, оказалось, что в нашем никого с такой фамилией нет. Может, он уже узнал что-то новое, но пока никому не говорит.
— Поживём — увидим. Будьте здоровы, Игорь Васильевич!
— Благодарствую! — ответил он, вежливо склонив голову.
«Как к лицу ему интеллигентская выправка, манеры, слова из романов прошлого века, а ведь он в жизни ничего подобного не видел», — подумал Николай Павлович. Вместо матери, погибшей на войне, в глубокой деревне его воспитала бабка-крестьянка. Когда подростком в сельской библиотеке он увидел репродукцию «Едоков картофеля», сказал себе, что он тоже человек, если изба с её жителями — произведение искусства. Перестал стесняться своего происхождения и нищенского быта, в котором вырос, через пару лет уже замахнулся на профессию врача.
«По каким законам складываются жизни, почему мало кому удаётся сохранить человеческое лицо или вообще обрести его?» — Николай Павлович, сидя в машине, взглядом проводил фигуру коллеги к остановке трамвая.
— Кать, я домой еду. Что-то купить?
— Нет, лучше поспеши — ужин готов!
— Вот так-так. И что на ужин?
— Сюрприз! Когда тебя ждать?
— Как всегда, через полчаса.
Взвизгнули колёса въезжающего в гараж автомобиля, хлопнула дверь. Катя вышла ему навстречу, они залюбовались светом солнца, дробящимся о листья винограда, увивающего беседку.
— Как в Италии, правда? — смешав в голосе иронию и восторг, спросила она.
— Правда.
— На этом сходство вечера с итальянским не заканчивается. Пойдём скорей! — она поспешила ко входу в дом, остановилась в проёме открытой двери и, сдерживая улыбку, смотрела на него.
— Пойдём-пойдём, — увеличивая шаг, будто всерьёз разгонялся он на этом крошечном пути.
Кухонный стол с белой скатертью, натёртые приборы, новая деревянная досточка с застывшей на ней цельно держащейся…
— Что это? — изумлённо спросил он.
— Полента! Итальянское блюдо из кукурузной муки, широко распространённое в северной Италии, — отчеканила она, как школьница на уроке.
— Вот так-так, — растянул он, усаживаясь за стол и останавливая руки над приборами. — А чем её едят?
— Сейчас разрежу на порционные кусочки, а дальше всё как обычно.
Держа вилку у рта, он сосредоточенно жевал, потом потянулся к соли.
— Вкусно?
— Ну-у-у, с солью, думаю, будет лучше.
— Не с солью, а с соусом! — сказала она, держа поднятым вверх указательный палец. Быстро поднялась со стула и открыла духовку, из которой заструился умопомрачительный запах овощей и пряностей.
— О-о-о! Это меняет дело, — сказал он, оборачиваясь к источнику аромата.
Оливки, сладкий перец, половинки помидоров и тонкие полосочки моркови проглядывали сквозь густую подливку.
— Так намного лучше.
— Испугался? Думал так и придётся есть?
— Я был готов поддержать тебя!
— Ясное дело — ты не из робкого десятка, — нарочито серьёзно проговорила она, всматриваясь в его глаза. — Какой тебе чай?
— Смотря, что сегодня к чаю.
— Выпечку я еще не освоила, — сказала она, открывая коробку с датским печеньем. — Или следует поспешить?
— Спешить не нужно, — медленно гладил он её золочёную загаром руку.
— О чём ты думаешь?
— Да так, ни о чём…
— Снова хандришь?
— Почему снова?
— Ты не заметил, что каждый год после отпуска погружаешься в раздумья?
— Наверное, потребность думать, осмысливать. У тебя такого нет?
— Есть что-то подобное, но не в таком удручающем формате.
— Почему удручающем? Я хорошо себя чувствую.
— Видел бы ты свои глаза.
— Не преувеличивай, нормально всё. Поначалу я сопротивлялся этим мыслям, не хотел портить себе настроение. Потом заметил, что ничего печального в них нет, если в настоящий момент жизнь радует. Когда нет саднящих ран в настоящем, о прошлых можно вспоминать почти безболезненно.
— Ключевое слово в предложении «почти», — она быстро вышла из-за стола.
— Кать, чего ты? — догнал он её на середине столовой.
— Я книгу штудировала, старалась, а ты ни слова похвалы…
— Ты так на маму похожа.
Катя встревоженно смотрела в его глаза.
— Давно у тебя эта мысль?
— Всегда.
Она смутилась, не зная, что ответить.
— Спасибо, ужин был замечательный, — наклонился он и поцеловал её руку.
— Какой жест! — обрадовалась она возможности оживить атмосферу.
— Я пойду у себя посижу.
Николай Павлович вошёл в кабинет. Ровные ряды книг вдоль бежевых стен бежали к самой дальней, но их удерживал на месте свет, тонко сочившийся из окон и рассыпавший по ним свои блики. Он любил протянуть руку к фолианту, согретому лучом, и замереть, впитывая атмосферу комнаты.
«Поэзия? Путешествия? История? Искусство? Автобиографии? Это Катенькин раздел», — усмехнулся он про себя, усаживаясь за стол.
Быстро уловив суть разложенных перед ним бумаг, он смял их, они летели в корзину, цепляясь за его взгляд изгибами слов. «Не сейчас», — мысленно отвечая им, он откинулся на спинку кресла.
Звук льющейся из крана воды, запах дерева от новой оконной рамы, солнечные лучи, приятно согревающие щеку, он бежит с новым самолётиком по огромной комнате из одной полосы тёплого света в другую. Мама в кухне моет посуду, расстояние между ними кажется ему огромным.
— Мама, ты скоро? Ты уже идёшь?
— Коленька, я рядом — не кричи так.
Но от детского восторга и кипящей внутри энергии он кричит ещё громче. Мама подбегает к нему, спеша прекратить шум.
— Коля, Коленька, — шепчет она, чтобы настроить его на тон ниже.
— Мама, мама, — шепчет он, проводя ладошкой по чёрным пышным локонам.
— Какой ты у меня молодец, не шумишь, чтобы не отвлекать папу от работы.
— Да! Я — молодец! — выкрикивает он во весь голос.
— Тише-тише-тише, Коленька, — голос звучит огорчённо и взволнованно, он чувствует терзание внутри неё.
Не понимая, почему мама расстраивается при повторении ею сказанных слов, он обнимает её за плечи, ощущает биение сердца и спрашивает:
— Почему оно бьётся?
— Потому что любит тебя.
Он приникает к маминой шее и вслушивается в шумящий загадкой ритм.
Из кабинета, восседая на велосипеде, появляется папа и несколько раз объезжает стоящий посреди комнаты стол. Мама быстрыми поглаживаниями по спинке сигнализирует, что нужно отвлечься и уделить время папе, с досадой он поднимает голову и обращает к нему совсем не радостное лицо.
— О! А чего это вы в печали?
— Мы не в печали, — отвечает мама, поднимается и пересаживается в кресло, — слушаем, как сердце бьётся.
— Опять?
— Опять, — говорит он папе, усаживаясь на мамины коленки.
— Не надоело вам?
Вместо ответа он прижимает голову к маминой груди и пытается услышать знакомые звуки.
— И сейчас любит?
— Любит, конечно, любит.
— А почему не бьётся, а?
Всех в семье очаровывало его «а?» — он вкладывал в него столько искреннего волнения, что оно трогало сердце. После минуты умиления его старались развеселить и отвлечь, обеспокоенные тем, что ребёнок выплеснул меру чувства, посильную хорошему актёру.
Не обращая внимания на шум в комнате и папу, который беспризорно вращается вокруг стола, он снова прикладывает ушко к маминому сердцу и, замирая от волнения, тихо-тихо дрожащим голосочком переспрашивает:
— …а?
На мамины глаза наворачиваются слёзы, она сжимает ручки кресла, её сердце начинает биться громко-громко. Он довольный слушает усиленный стук, потом поднимается, чтобы видеть маму и, словно доказывая ей, быстро говорит: «Любит, любит, любит, любит!»
Мама закидывает голову назад, чтобы по лицу не растекались слёзы, переполненный восторгом он становится на её колени, чтобы заглянуть в красивое взволнованное лицо.
— Мама, мама... — начинает говорить он.
Но фраза обрывается папиным:
— Ой, ну хватит уже!
Мама поднимает голову в поиске источника звука, он поворачивается и с недоумением смотрит на папины седые волосы, скомкавшиеся на лбу.
— Откуда ты приехал?
Папа почему-то всегда смеётся в ответ на этот вопрос. Его громкий тяжёлый смех неприятен в атмосфере искренности.
Он снова льнёт к маме, чтобы спрятаться от чужеродных звуков, но она разворачивает его и шепчет, щекоча спинку: «Папе нужно уделить внимание».
— Папа, ты из другого мультика! — выкрикивает он.
— Из какого другого? — облокачивая велосипед о стену, со смешком переспрашивает папа и направляется к ним.
Он старается, но не может вспомнить свой самый нелюбимый мультик.
— Из другого!
— Не из вашего с мамой! — подсказывает папа, присаживаясь рядом с ними. — Ну, это ясно, я другим занят.
Он дотрагивается до папиных взмокших волос, заглядывает в глаза и спрашивает:
— Бибретаешь?
— Изобретаешь, — поправляет папа, сдерживая смех, и переносит его к себе на руки. Не желая усаживаться, он машет ручками и ножками, папа быстро собирает их в свои большие ладони, встаёт и начинает кружить его, приговаривая:
— Ты — самолёт, ты — моё изобретение!
— Биб-биб-биб-ре-тенье, — пытается выговорить он в полёте. Когда голос затихает, папа усаживает его к себе на колени, поправляет прилипшие ко лбу волосы и спрашивает: «Теперь ты из моего мультика?»
— Да, — отвечает он уставшим голосом.
Папа прикладывает своё ухо к его груди и в такт ударам сердца повторяет: «Раз любит, два любит, три любит, считай дальше!»
— Четырле любит, пять любит, сешть любит, — считает он, хватая ртом воздух.
Отец ставит его на пол, ожидая, пока он отдышится, и говорит: «Ну вот, ты и папу любишь, оказывается».
Переводя взгляд на маму, он сравнивает внутри себя чувства.
— Люблю, — тихо произносит он, разворачивается и бежит к ней.
— Ой, маменькины мы, маменькины…
Голос большими кругами витает по комнате, поднимаясь к потолку и раскачивая люстру, которая дополняет каждый слог хрустальным звоном. Он поднимает взгляд на светильник, от которого исходит не только дребезжание, но и расходятся разноцветные круги. Смутно-смутно различим голос, летящий к нему издалека, ощутимо человеческое присутствие. Он изо всех сил пытается расслышать слова, но вокруг тихо, щемяще-тихо. Вдруг из тишины вылетает медленный удар — ра-аз!, за ним второй — два-а!, а дальше очередью — три, четыре, пять… Тёплые ладони касаются его щёк, из груди, разрываемой ударами, вырывается крик:
— Коля! Коленька!
-6-
Дрожащей рукой она водила по лацканам пиджака, потом, зацепив пальцем пустую петельку, попеняла ему:
— Борис, мужчина поднимается и застёгивает пиджак вне зависимости от настроения, в котором пребывает.
— К чему это сейчас? И так тошно.
— Я о том и говорю — мужчина в любом настроении…
— Хватит, пожалуйста.
— Сыночка-сыночка, как ты страдаешь, — медленно проговорила она, пытаясь встретиться с ним взглядом. — Подвезёшь меня сегодня?
— Подвезу, — недовольно буркнул Боря. — Что с твоей машиной?
— Сцепление «ведёт», на СТО поставила.
— Какие термины, а раньше просто «едет-не едет».
— Пять лет за рулём, какой-никакой опыт, — быстро бросила она, сожалея о переключении на другую тему.
— Уже пять лет как папы не стало?
— Да, сынок, время летит, летит, не остановишь.
Она захлопнула дверцу машины и начала, не глядя, искать ремень, чтобы пристегнуться. Боря сел на водительское кресло, потирая ладони.
— Свежо на улице, — сказал он оживившимся тоном.
— Так и на душе должно быть свежо и легко.
— Что ты предлагаешь для этого сделать?
— Поговори с Олей, может, согласится усыновить.
— Усыновить? Ты издеваешься? Она невменяемая сейчас, куда ей чужой ребёнок?
— Послушай, она твоя жена, ты должен успокоить её, пролечить, если нужно…
— Пролечить?! Она слышать не хочет ни о каких врачах, ни о каких лекарствах. Она даже за выпиской к своему Николаю Павловичу не пошла, я сам ездил.
— И что там?
— Ничего определённого, хотя и так всё ясно, — на выдохе произнёс он, выворачивая руль влево.
— Но нельзя же так оставлять ситуацию, нельзя перестать заботиться о ней.
— Как о ней можно заботиться? Ревёт, орёт или начинает нести очередную бурду о маме, которая к ней в детстве плохо относилась. Я вот с недавних пор не такой, как она думала раньше.
— Боря, она живой человек, ты понимаешь, что она испытывает?
— А я не живой или ничего не испытываю, по-твоему?
— Ты не должен отгораживаться от неё: у вас семья, в семье по своим углам не живут.
— Угу, — затормозил он. — Ваш подъезд!
— Сыночек, береги себя!
— Хорошо, до завтра.
— А что завтра?
— Подписанный приказ следует вернуть заведующей кафедрой?
— Ты об этом…
Дверца хлопнула, капли дождя задрожали на стекле. «В дождь эта дура всегда ревёт. Как не хочется ехать!» Буксуя в мелкой ямке, он уставился в тёмное полотно за стеклом: «Из ямы выезжать не хочется, дожил!» Он въехал на обочину, остановился и набрал «Сергей Сергеевич кафедра»:
— Светочка, вечер! Как вы там?
— Ой, совсем неудобно разговаривать — голову мою, руки в пене…
Гудки. Телефон полетел на пустое сиденье рядом. «Что теперь, навсегда здесь остаться?» — он нажал на газ и по пустой дороге выехал со двора. Стоя на перекрёстке, крутил в голове только один вопрос: «Куда?», хотя точно знал направление своего движения.
В дверь лучше не звонить — пара минут без её растерянного или заплаканного лица продлевают счастливые минуты.
Из темного коридора виднелся отблеск лампочки микроволновки, отражённый стеклом кухонной двери. Свет включать тоже не хотелось — пусть уже всё будет так: темно, тихо, спокойно. «Хотя спокойствие здесь ненадолго!» — подумал он и аккуратно включил.
Никто не выходил, он заглянул в кухню: холодно, нет запахов, нет звуков, грязная тарелка с вилкой притаились у раковины, на столе открытый журнал, рядом с ним пакет разноцветных ниток. «Что за чёрт?» — прошипел он сквозь зубы и пошёл в комнаты. Постель в спальне так и осталась несобранной. В маленькой комнате на диване спала Оля — широкий открытый лоб, направленный в потолок, казался ещё выше, чёрные ресницы закрытых глаз резко выделялись на белой коже, бескровные губы сложились в блаженной полуулыбке. «Мученица, твою мать! — брякнул он по выключателю. — Будить или пусть спит, может, повезет, и она проспит до утра? Поесть я и сам, в принципе, могу, пусть лучше спит!»
Боря закрыл за собой дверь кухни, поставил чайник с твёрдым намерением исключить его свист после закипания, взял со стола журнал и стал рядом с плитой, как часовой. «Узоры, спицы, крестики, петельки, а что? Неплохо! Говорят, вязание успокаивает», — он схватил зашипевший чайник и налил воду в чашку с пакетиком, который сразу заблагоухал сладким химическим ароматом. Развернул пачку печенья, вскрытую утром, и, макая края печенюшек в чай, съел — сейчас ему не нужен ни аромат свежей выпечки, обволакивавший кухню по утрам, ни сияющее в предвкушении комплиментов лицо Оли.
Звонок в дверь. Он вскочил со стула, с трудом сдерживая рвавшиеся наружу комментарии. На пороге стояла соседка — старушка из квартиры напротив.
— Боренька, здравствуй, хочу попросить тебя, лампочка на кухне перегорела, поменять нужно, — она отвела взгляд и утёрла ладонью набежавшие слёзы.
— Нет проблем, Раиса Андреевна, что вы так? Сейчас поменяю, новая лампочка у вас есть?
— Есть, есть, — сказала она, разворачиваясь к своей двери.
— Пойдёмте.
На тёмной стене коридора он разглядел завешенное зеркало, на едва освещённом уличным фонарём кухонном столе — фотографию с траурной каймой и рюмку с кусочком хлеба.
«Разве у неё был кто-то родной?» — поднявшись на табурет, Боря начал быстро перебирать в памяти всё, что о ней помнил. Она вежливо здоровалась при встрече на лестнице, угадывая моменты, когда стоило заговорить, а когда — только ограничиться приветствием. Иногда звала кран перекрыть, гвоздь забить, и только раз он видел, как с умиротворённым выражением лица она крестила спину спускавшегося по лестнице мужчины с весёлым выражением лица, никак не вязавшимся со статностью его фигуры.
— Готово! Раиса Андреевна, включайте, — сказал он, ступая на пол.
В ярком свете весёлое выражение лица на фотографии казалось бы более весёлым без каймы.
Боря, смущаясь, перевёл взгляд на Раису Андреевну.
— Всё, куда лампочку выбросить?
— Всё, — ответила Раиса Андреевна, переводя взгляд с Бори на фотографию, — вот и всё. Ушёл сыночек, такой молодой, зачем же я осталась, лучше бы он жил.
Боря напряженно молчал, перебирая в уме слова, которые никак не хотели становиться подходящими. Чем утешить человека, когда его горе такое же чужое нам, как и его жизнь? И это можно сказать о любом горе и о любой жизни, кроме собственных, правда, себя тоже утешить нечем, когда…
— Понимаю, — рассеянно выдавил он из себя.
— Спасибо! — сказала она и подняла глаза к потолку. — Теперь мне светло.
— Не за что, зовите, если нужно.
— Спасибо, спасибо тебе!
Последние слова соединялись со звуками закрываемого замка, разлетавшимися в упругой тишине пустой лестничной клетки.
Он остановился перед своей дверью, выдохнул и шагнул. В кухне горел свет и присвистывал чайник, Оля листала журнал и крутила в руках жёлтый клубок.
— Как Раиса Андреевна?
— Откуда ты знаешь, что она заходила?
— Услышала её голос из комнаты.
— Ты не спала?
— Спала, но после звонка в дверь проснулась.
— Ах, да, конечно, проснулась, — выдавал он по одному слову, смущаясь, что упустил такой очевидный факт.
— Ты чем-то расстроен?
— У неё сын умер, фотография с ленточкой в кухне стоит.
— У неё был сын? Я не знала.
— И я не знал.
— Надо будет зайти к ней, поговорить.
— Зайди, попробуй.
— Кушать будешь? Я смотрю, ты только чай наколотил.
— Буду, — обрадовался Боря.
— А почему сам не разогревал?
— Не хотел шуметь, тебя будить.
— Спасибо. Что ты будешь? Есть суп с грибами, есть рагу.
— Рагу вчерашнее, а суп свежий?
— Свежий. И ты на ужин будешь суп есть?
— Буду, а что делать?
— Ой, ну ты ещё заплачь, — начала раздражаться Оля.
— Нет-нет-нет! — Боря быстро сменил тон на оптимистичный. — Буду суп! Ты сама варила?
— Сама, кто ещё?
— Может, маму позвала?
— Я-то позвала, но она не приходит, когда действительно нужно.
— А-а-а-а, — с готовностью выразил понимание Боря, подыскивая нейтральную тему. — Ты вязанием увлеклась, тут вот журнальчик лежал?
— Да, увлеклась! — отрезала Оля, опасаясь недовольства новым хобби при наличии одного супа на ужин.
— Я не против, и суп вкусный.
Оля слабо улыбнулась в его сторону: «Вот оно, стерпелось и слюбилось! Неужели так всю оставшуюся жизнь будет длиться?»
— Ты ужинать не хочешь?
— Не хочу, покушай сам, я потом посуду помою.
Борина бесполезность на фоне собственной беспомощности раздражала её, лучше было не смотреть на него с такими мыслями — она быстро встала из-за стола и вышла из кухни. Через несколько минут из крана полилась вода, она быстро вернулась.
— Что ты, не нужно, я сама помою.
Он обернулся и посмотрел на неё растерянным взглядом: «Я и сам не знаю, что нужно, сам боюсь, хоть бы хуже не стало…». Казалось, ещё долго можно читать в его глазах эту мрачную подборку, но он отвернулся. Оля отрешенно смотрела на его согнутые плечи, руки, неловко расставлявшие посуду в шкафчике, воду, стекавшую с ладоней на локти.
-7-
Что-то неприятно касалось лица, он слабо пытался отмахнуться, открыв глаза, увидел перед собой испуганное лицо Кати и сжал её руку.
— Катя... — ему не хватало воздуха, чтобы договорить, он приподнялся, шумно вдыхая.
Из её глаз хлынули слёзы, он огляделся по сторонам, понимая, что просто уснул за столом.
— Почему ты плачешь?
Она быстро высвободила свою руку, гладила его по щекам, беззвучно шевеля губами, и обессилев от волнения, прижалась к нему. Ровно и сильно билось её сердце.
— Коля! Коленька!
— Как ты меня напугала!
— Как ты меня напугал!
— Чем?
— Страшно было — ты обмяк на стуле, ноги вытянуты вперёд, расслабленные руки свисают с кресла, как в фильмах...
— Я просто уснул, откуда у тебя такие мысли?
— Не знаю… Не веяло сегодня оптимизмом от твоего настроения, тревожно стало.
— Что ты? Просто пригрелся на солнышке в тишине и задремал.
Катины слёзы, не успевая побыть круглыми слезинками, беззвучными ручьями растекались по лицу.
— Как ты незаметно плачешь — слёз не видно, только под глазами всё мокрое.
Она уткнулась головой ему в плечо.
— Тебе что-то снилось?
— Да, мама с папой, квартира на Пушкинской.
— Вы жили на Пушкинской?
— Да, квартира была здоровенной! Когда меня в детский сад отвели, я сразу спросил у воспитательницы, почему комнаты такие маленькие, если детей так много? Она пообещала, что места непременно хватит всем.
Вид из окна помню, мы на последнем этаже жили, деревья были ниже дома, мама ставила меня на табурет перед окном, чтобы я смотрел, как деревья осенью пожелтели, как снег под фонарями зимой кружит.
Иногда она включала концерт или симфонию на пластинке, говорила мне слушать и смотреть. Музыка меня отвлекала, но я замечал, что она наслаждалась именно их сочетанием. Однажды музыка неожиданно быстро затихла, мама объяснила, что это Неоконченная симфония Шуберта.
Узнавать причину недоработки композитора я не стал, но в тот же вечер нарисовал половинку дерева и половинку дома — воспитательница вернула рисунок. Я объяснил маме, что не дописал, как Шуберт, она развернула меня к папе, а сама тихонько смеялась. Папа похвалил за догадливость: «Молодец, сознательно опираешься на полученные знания!»
Мама его радости не разделила и рассказывала мне перед сном, что нельзя становиться хитрым и изворотливым, что у композитора была единственная уважительная причина не довести начатое до конца — он умер. Я спросил её тогда, как это умереть? «Никто не знает, как это, сынок, мы знаем только, как существовать, как быть, как просыпаться по утрам, а как исчезнуть, мы не представляем, наши чувства не знают, наш опыт не подсказывает этого». Помню, обнял её изо всех сил и сказал, что она никогда не умрёт, потому что у неё есть я. Она гладила меня по голове и приговаривала: «Никогда, сыночек, никогда!»
— Ты решил стать врачом, чтобы люди не умирали?
— Нет, мне было интересно корабли собирать, самолёты. Папа настаивал на конструировании, я увлекался, но сам по-настоящему не тянулся к нему, мамина лирика была от меня ещё дальше. Однажды на зимних каникулах мы пошли в кукольный театр с папой, который редко ходил с нами. И надо ж такому, я уснул прямо на представлении. Когда мы поднимались по заснеженной площади Поэзии, папа полушутя-полусерьёзно говорил маме, мол, замучаешь его культурными мероприятиями, подрастёт, будет идти мимо театра и скажет своей девушке: «Ужасное место, меня сюда в детстве силком тащили!» Надо подождать, пока его чувства сформируются, он сам к чему-то тяготеть начнёт, а так спугнёшь мальца.
Мама прислушалась и с тех пор всегда спрашивала меня, хочу ли я в театр или на ёлку.
— И ты всегда говорил, что хочешь?
— Да-а, а ты откуда знаешь?
— То-то я смотрю, у тебя всегда тон для ответа заготовленный, интонация убедительная, знаешь, что билеты заранее покупать следует, культурно-воспитанный весь.
— Смейся-смейся, — в шутку изображая обиду, предложил он.
— А как тебе детки в садике, ты любил играть с ними?
— Не особо. Они были какими-то серыми, слабыми, ноющими, я чувствовал себя другим — сильным, уверенным. Я не понимал, почему они льют слёзы и зовут маму, разве не понятно, что она за ними придёт? Пытался некоторым объяснить, рассказать, успокоить, но они ни в какую — плакали и плакали, потом эти сопли пузырями, так неприятно было.
— Как-то ты не по-врачебному.
— Врачом я тогда ещё не был, — слабо улыбнулся, углубляясь в раздумья, Николай Павлович. — Но сейчас шокирует моя детская немилосердность, отсутствие желания понять, войти в положение другого.
— Коль! Ты что? — резко отпрянув от его груди, с удивлением спросила Катя. — Как можно к себе, ребёнку, предъявлять такие требования? Ты видел много взрослых, способных или желающих войти в чьё-то положение?
Николай Павлович поморщился от досады.
— Много не видел, но… я сам хотел таким стать, таким быть…
— Это утопия, ты сам это понимаешь.
— Почему утопия, разве нет людей, которым это удалось?
— Есть. Я думаю, что тебе удалось…
Он быстро поднял на неё внимательный, мгновенно становящийся пристальным, взгляд.
— …я говорю о том, что ты поддерживал меня в самых сложных ситуациях, я никогда не чувствовала себя одной, самостоятельно проживающей что-то. Мои мысли, мои ощущения всегда соединялись с твоими, свою внутреннюю жизнь я делила и делю с тобой, или ты не об этом?
— Ты себе противоречишь.
— В чём?
— Сначала ты сказала, что это утопия быть таким, а потом — что мне это удалось.
— Я имела в виду, что это утопия в мировых масштабах, но «отдельного человека спасти всегда можно». Тебе удалось!
Он отвернулся в сторону, выбирая какому настроению поддаться. Катя решила за него.
— Хватит философии на сегодня, лучше расскажи, как ты весь такой маменькин в садике не плакал и домой не просился?
— Мне мама рассказала, что когда я там, она узнаёт новые маршруты для наших прогулок, новые кружки, где мне будет интересно, новые спектакли, на которые можно пойти в выходные. Сразу предупредила, что первый раз с детками ходить нельзя, она должна сама всё узнать, а потом уже со мной идти. И я спокойно её ждал.
— Не верится даже.
— Что ж поделать?
— А мама тобою прочно владела.
— Что значит, прочно владела? Я был ребёнком и, благодаря ей, всегда чувствовал себя защищенным, любимым, как это ты сказала? — спросил он, переводя на Катю взгляд и нетерпеливо потирая безымянным пальцем о большой в поисках слова. — Не чувствовал себя самостоятельно проживающим что-то! — вспомнил он её выражение, идеально совпадавшее с его ощущением.
— Ты, наверное, многое перенял от неё?
— Не думаю. Я всегда чувствовал себя другим, не таким, как она. По складу я был ближе к папе, но он никогда не приближался ко мне, я не успевал понять его, сравнить себя с ним. А маму я рассматривал, как большую картину.
— Почему большую?
— Помню, мы приехали в Ленинград, мне было лет десять-одиннадцать, и первый день, как заворожённые, гуляли по центру города, рассматривая один за другим открыточные виды, сменявшие друг друга со скоростью вращения калейдоскопа в руках ребёнка.
Мы ходили, не ощущая ни холода, ни усталости. К вечеру я уже тяготился повсеместной красотой, мне казалось, что вот-вот начну задыхаться ею и мне нужно открыть что-то внутри, чтобы продолжать улавливать её. Впервые я ощутил предел своих чувств, предел способности воспринимать, впитывать в себя.
У меня немного кружилась голова, мы вышли на Троицкий мост, я смотрел на широченную Неву, на людей, которые устраивались напротив Петропавловской крепости любоваться закатом. Мне хотелось закрыть глаза, чтобы остановить текущий внутрь меня поток великолепия, а мама раскинула руки в стороны, подняла голову в небо и сказала: «Вот это мощь! Вот это красота! Вот это — город по мне!»
Я онемел, у меня внутри всё остановилось. Никогда бы не подумал, что кого-то хватит не только воспринять увиденное, но ещё и, наслаждаясь, соотнести себя с ним.
Папа, не веря своим ушам, повернулся к ней, — он часто смотрел на неё, как будто видел впервые, — и сказал, что ничего сверхъестественного, понятно, что великие люди строили, результат достойный, но чтоб прям так?
— Они очень разные в твоём описании.
— Фатально разные. Ребёнком я воспринимал это как данность, не зная, что может быть иначе.
Вечером после ужина мама садилась читать под лампой, и если она там не сидела, а разговаривала с подругой по телефону, папа удивлённо восклицал: «Сегодня что, от лампы не заряжаешься?» Он не спрашивал её, ему не нужен был ответ. Он, походя, вешал эту фразу в воздухе и шёл в кабинет совершенно довольный собой.
Она ничего не отвечала и даже не оборачивалась на звук его голоса, только тень неудовольствия пробегала по её лицу и было понятно, что она хотела сказать: «Лучше б ты промолчал!»
— Как она с ним жила?
— Она многое могла переживать в себе, наслаждаться красотой и радостью, подаренной мгновением, — причудливой тенью на стене, солнцем, вспыхнувшим в застывших каплях дождя, чириканьем воробьёв, дерущихся за крошки на тротуаре. А ещё у неё был я…
— Может, не только ты?
— Может… Однажды мы пошли на пикник с сотрудниками папиного института или его кафедры, уже не помню точно. С другими ребятами я собирал дрова, мы рубили ветки, шумно было, весело. Перед девочками старались показать, кто сильнее, кто минимальным количеством ударов срубит пень, который, в общем-то, никому не мешал, — ну, дурачество, ребячество такое. Когда каша сварилась, шашлык поджарился, почти все расселись парами, новоиспеченные кавалеры повелевали дамам: «Не вставай — я принесу!» — и, преодолевая смущение от новой роли, подносили им кушанья.
То ли мне тогда никто не понравился, то ли понравившуюся окружили заботой раньше. Я сел один, поднял глаза и увидел, что напротив, также с краю и чуть поодаль от компании, сидела, опираясь на руку, мама, а рядом с ней — мужчина. Он что-то говорил ей, они оба спокойно смотрели перед собой. Он вроде бы просто сидел рядом, но в положении его тела был едва уловимый наклон к ней — он как будто хотел подойти ей по форме, не обнять, не приблизиться — совпасть. Удивительно, но они показались мне чем-то целым, хотя я видел его впервые.
Во мне сразу поднялось недовольство — посмотрел на них ещё раз, ничего не изменилось. Вдруг мама повернулась к нему и я увидел её взгляд, искрившийся надеждой и удивлением. Она смотрела на него, как на приближающееся северное сияние: «Неужели? Не может быть!»
Мне хотелось стряхнуть с себя настолько сильное впечатление, я отчаянно сопротивлялся его реальности. Тут к ним подошёл папа. Наконец-то! Сейчас он тоже увидит ситуацию и вернёт всё на свои места.
У него в руках была полная тарелка кусочков шашлыка, он недовольно буркнул: «Что это вы огурцами и зеленью питаетесь?» Они синхронно подняли на него взгляды, в которых был только один вопрос: «Зачем ты…?» Мамино такое выражение я знал, — но он! — он смотрел на него точно так же! Я почти кипел от злости, а папа, как ни в чем ни бывало, сел рядом с ними и начал есть мясо из тарелки, руками. Мама отвернулась и опустила глаза, собеседник, не поворачивая головы, окинул боковым зрением её силуэт и не отводил взгляда. Весь их вид выдавал мучение обществом соседа, который даже не смотрел на них, а только монотонно жевал своё мясо. Когда на тарелке остался один кусочек, он развернулся и громко сказал: «Молодой человек! Может вы всё-таки уступите место своему начальнику рядом с его женой?» Тот поднялся, сделал шаг вперёд, намереваясь уйти, но шагнул в сторону и просто поменялся с ним местами.
Папа присел рядом с мамой и голосом, идущим из недр желудка, спросил, взглядом показывая на свою тарелку: «Будешь?»
Мама улыбнулась с какой-то горькой иронией и мотнула головой, мол, нет. А через несколько секунд я заметил, что она сдерживает смех. Над чем она смеялась тогда? Над злой шуткой жизни, над своим выбором, над диаметральной противоположностью ощущений рядом с людьми, занимающими одно и то же место?
Он замолчал, Катя ждала продолжения рассказа, но длилась только пауза.
— И всё?
— Не всё, — ответил Николай Павлович, задумчиво рассматривая перед собой картины, которые только что описал. — Помню, только-только рождалась весна: наступали морозы, потом сразу теплело, мягкие и колючие ветры дули вперемежку, мы ужинали втроём на кухне, вдруг открылась форточка и холоднющий поток воздуха ворвался в кухню. Мгновенно стало зябко и противно, я съёжился, удивляясь, как так может быть: мгновение, то же вещество, но другой температуры — и атмосфера в комнате совсем другая?
Папа поднялся, с возмущением хлопнул рамой, а садясь за стол — подтяжками, маму раздражал этот жест, она резко повернулась к нему и спокойно, как будто продолжая рассказ, сказала: «В лесу подснежники цветут, ещё не целыми полянками, а только одиночными цветами. Их узкие стебельки прокалывают опавшие листья, а хрупкие небесно-голубые цветочки едва-едва раскрыты». «Какие подснежники? Снег не сошёл, стойкое тепло ещё не установилось», — медленно проговорил опешивший папа. «Они раскрываются под снегом», — продолжила мама. «Не может быть! Рано ещё!» — тоном эксперта заключил отец и начал шумно переставлять посуду на столе, подбираясь к следующему блюду.
Мама сидела, неподвижно глядя перед собой. Я тогда понял, что за этим взглядом, за разговорами невпопад она прячет свою уязвимость, скрывает в них свои чувства.
Через несколько дней мы с папой были вечером дома, каждый занимался своим. Неожиданно он заглянул в мою комнату: «А где мама, ты не знаешь? Восемь вечера уже». «Не знаю!» — ответил я. Мы вышли в коридор и уставились на телефон, независимо друг от друга, обдумывая кому звонить. Простояли молча пару минут и вместе обернулись на звук поворачивающегося в замке ключа.
Вошла мама — я никогда не видел её такой. Она окинула нас взглядом человека, у которого из рук забрали ношу, с которой он таскался всю жизнь, тяготясь, перепачкиваясь, изо дня в день озадачиваясь ею. И вот она стоит на пороге первый раз без неё и не понимает, что делать дальше.
Папа, обычно безразличный к её настроению, безошибочно уловил его: «Ну-у-у? И откуда мы такие окрылённые возвратились?» Она посмотрела на него какие-то доли секунды, словно не могла узнать, понять, кто он. Потом открыла свою сумочку, достала из неё подснежники — несколько хрупких нераскрывшихся цветков лежали у неё на ладони, — и протянула ему. У папы от неожиданности пропал дар речи и отвисла челюсть. Он неуклюже ткнул пальцем в цветы, не веря, что они настоящие, прокашлялся, приходя в себя, и издал звук, окончательно возвращавший его в реальность — хлопнул подтяжками: «Кто же сопровождал мечтательную даму в тёмном опасном лесу?» Она посмотрела на него, как бы говоря: «Мне вообще всё, связанное с тобой, безразлично», — и начала снимать обувь, пальто, поправлять причёску у зеркала.
Чувствовалось, она стала другой. Мне захотелось подойти к ней, тронуть за руку, сказать: «Мам, вернись!» Я сделал шаг, она посмотрела на меня с приятной улыбкой и спросила: «Что?», но каким-то другим, незнакомым голосом. Желая успокоиться, я выискивал в памяти подобные её разговоры, движения, выражения лица, и вспомнил её рядом с тем мужчиной на пикнике, который так не хотел отводить от неё взгляд. Мысленно сравнивая его с отцом, я понял, что он о времени появления подснежников спорить бы не стал.
Папа закончил ковыряние в цветах и начал чесать ладони, будто обжёгся об их холодные стебельки и бутоны. «Ну что?» — весёлым тоном спросила мама, намекая на недавний спор. «Ничего», — процедил он сквозь стиснутые челюсти.
Меня шокировало произошедшее, я развернулся и ушёл в свою комнату, ждал, что мама зайдёт, но она не зашла, вышел на кухню — она спокойно ужинала, а папа ходил вдоль стены, размахивал руками и что-то шипел. Впервые его ровное отношение ко всем в доме сменилось эмоциями, увидев меня, он быстро вышел. Сам не знаю почему, но я вышел за ним.
В квартире было тихо, вопросительно тихо, только поздно вечером я услышал, как они шли по коридору, выглянул и застал момент, когда они вместе входили в папину комнату. Помню своё удивление — мне было четырнадцать лет, но я ни разу не видел этого раньше… Ой-ой-ой, нога затекла, вставай!
-8-
— Светочка, почему ты не перезвонила вчера?
— Ой, помехи какие-то — не услышала, что ты говоришь?
— Сигнализация на машине запищала. Спрашиваю, почему ты не перезвонила вчера?
— Не знала, сможешь ли ты разговаривать.
— Если бы не мог, я бы так и сказал. Как вы?
— Всё хорошо, как обычно. В какой день ты говорил, можешь с ребёнком посидеть?
— В пятницу. А кроме посидеть с ребёнком ничего не предвидится?
— Борь, конечно, предвидится, не нуди.
— Ладно, только впечатление такое, что ты мне не рада.
— Рада, Боря, просто мы только встали, настроение ещё не проснулось — позже созвонимся.
— Хорошо, до попозже.
«Какое счастье не видеть его с утра! Десять лет утренних прими-подай! Неужели я когда-то была им рада, вставала раньше, выдумывала, старалась. Кажется, это было во сне, в горячечном бреду…
Похоже, новое счастье взаимное. Хотя, что он приобрёл? Сухой бутерброд, подогретые остатки ужина, чай из пакетика, возможность лишний раз меня не видеть?
Ну, допустим, меня он избежал, но что-то в жизни должно радовать, согревать, обнадёживать? Может, у него кто-то есть?» — Олю неожиданно приободрила скорость потока мыслей. Давно в её голове не рождалось ничего связного — только нытьё, обрывки болезненных детских воспоминаний, перемешанных с проживаемыми горестями.
Она встала с кровати, раскрыла шторы: сумеречное октябрьское утро, капли не то тумана, не то дождя неподвижны на стекле окна. Пустая детская площадка кажется неуместно яркой. Хорошо, что не нужно касаться её стылых металлических перекладин, качелей, лавочек. Выпирающие рёбра дрожащей собаки, бегущей через двор, точнее делений градусника говорят о том, какой на улице холод.
Она выдохнула и невольно съёжилась: «Так хорошо утро начиналось… К соседке нужно зайти, поговорить, поддержать человека, хотя, что я? Разве я умею понимать других, выражать сочувствие, сопереживать?» Ей так хотелось выбраться из своей угловатости, научиться говорить о чувствах, которые не выставляют напоказ, которые редко понимаются окружающими.
— Здравствуйте, Раиса Андреевна!
— Здравствуй, Оленька, — ответила соседка, явно обрадованная тем, что узнала её по звуку голоса. — Проходи, проходи, вместе посидим, чайку попьём.
— Искренне сочувствую вам, — еле выдавила она из себя.
— Спасибо, деточка, — и слёзы с высшей степенью готовности подступили к краям нижних век. Оля молча обняла её за плечи — вот и всё, что она смогла сказать человеку. Ей самой захотелось плакать, и она сразу ощутила текущие по щекам слёзы.
— Не плачь, не плачь, детка. Пойдём, — позвала Раиса Андреевна, развернувшись к кухне.
На столе быстро выросли вазочки с вареньем, конфеты, вафли, строго поделенные разноцветными полосами начинки.
«Как старушкам так быстро удаётся организовать угощение? У меня вечно то заваляется что-нибудь до чёрствого, то свежее кончится, как всегда, некстати… Кого они всё время ждут?» — вспомнила Оля неудавшееся Борино чаепитие.
— Бери, бери ещё конфетку, — живым теплом звучал настроенный на понимание голос.
Она прятала лицо, низко наклоняясь к чашке и ощущая себя маленькой неуклюжей девочкой. Чтобы отвлечься от своего состояния, она подняла взгляд на Раису Андреевну.
— Ваш сын?
— Да, Оленька, мой сыночек. Мне двадцать пять было, муж бросил, потому что родить не могла. Он трубачом в оркестре сидел, да и раструбил среди всех знакомых и незнакомых, что такая вот я, неспособная. С кем познакомишься, когда за тобой такое тянется? Друзья от дома отказывали, на работе сторониться стали — обиженная на весь свет ходила, и так себя жалела, так жалела.
Мы с мамой жили, отец года два, как умер. Маме пятьдесят исполнилось, на пенсию только вышла. Работала на военном заводе с сорок первого до конца войны, год за три ей посчитали. Но она деятельная была, дома ей не сиделось — устроилась почтальоном, мешки писем с поездов снимала, сортировала, разносила по частному сектору, а там — дорог никаких, да с тяжестью всё время. Простыла она, суставы воспалились, ноги не разгибались, а зима, помню, такая холодная, такая снежная. Отправила она меня с этими письмами по домам, но разве по такой завирухе их разнесёшь? Найду нужную улицу и опускаю в ящик все письма, что на неё пришли, — дальше уж соседи соседям сами передадут. Стала под фонарём, адреса перечитываю, вдруг калитка скрипнула. «Господи, думаю, кто ж выйдет в такую-то метель?» Оборачиваюсь — ребёночек в одних колготках стоит, и не то, что плачет — воет. Я к нему, платок с головы сняла, как раз его завернуть бы хватило, но он платок выхватил и на землю бросил, а сам дверь закрыл и опять завыл под забором. Я кричу ему, чтобы в дом шёл, чтобы одевался, а он только воет. Я и в дверь эту колотила, и снежками в окна бросала — никого, нигде. Потом соседи выглянули, сказали, что пьяницы там живут, это ребёнок их, он привычный, мол, волноваться не стоит.
Не помню, как домой возвратилась, проплакала ночь, утром в милицию пошла. Они мне: «Знаем, знаем, гражданочка. На следующей неделе суд, лишат этих алкашей родительских прав». «А ребёночка-то куда?» — спрашиваю. «В детский дом, там не сахар, но лучше, чем с такими». Милиционер простецкий мужик, видно, что жалостливый, я к нему: «А можно я ребёночка заберу?» «Это суд решает, органы опеки, комитеты…»
Мама поначалу отговорить хотела, убеждала, что пока документы для усыновления соберу, с ума сойду. Но как начала я их собирать, поняла, что не передумаю, сжалилась и выдала мне двести рублей на взятку главной комитетчице. Так быстрее дело пошло, мне сразу разрешили с ним в больнице находиться, пока они там свои бумаги выписывали.
У него воспаление лёгких, температура под сорок, смотрит невидящими глазами, губами шевелит и опять засыпает, а я всё сижу рядом. Дородная медсестра рассердилась: «Что вы, мамаша, сидите безучастно? У ребёнка жар, вы б хоть губы смочили, водой напоили». Откуда мне было знать, что делать — я от волнения себя не чувствовала и кто знал, какой во мне пылал жар?
А он такой маленький был, щупленький, лежать ровно на кроватке не хотел, как я ни расправляла ручки-ножки, как по спинке ни гладила — всё забивался в угол между стеной и подушкой, только так засыпал.
Домой привели его, кроватку в комнате показали, игрушки, какие смогли достать, он на них и не глянул, походил-походил, зашёл в кухню, сел возле мусорного ведра. Сколько мы слёз тогда выплакали?
Мама больше на работу не вышла, так с ним сидеть и осталась. Помню, вернусь домой, стану у порога, зову его, а он из-под кровати в комнате голову высунет и смотрит в коридор. Скидываю пальто и к нему, сажусь на пол возле кроватки: «Сыночек, мама пришла, иди к маме, кушать вместе пойдём, играть будем», — реакции никакой или тарабанил тихонько по дну кровати, вот и всё его развлечение. Конфетой выманить пытались: «Сыночек, конфетка, сладенько, вкусно», — не шёл — не знал, что такое. Брала книгу, начинала читать, но как поймёшь, нравится ему или нет? Личика не видно, всё время молчит. Только, когда страницу переворачивала, он выглядывал посмотреть, от чего звук идёт. Я тогда ноги вперёд вытягивала, он головку на них укладывал и смотрел, как я страницы листаю. Пролистаю медленно книгу, дотянусь до него, глажу по головочке: «Сыночек, сыночек мой!» Подниму его за плечики и на ручки, тогда не плакал и спокойный был.
Перед Новым годом дефицитное доставали, принесла несколько мандаринок, даю ему, он взял и на пол бросил, думал отскакивать, как мячик, начнёт, катал, катал её по полу и ножкой наступил. Почистили ему другую, на дольки поделили, показываем как есть, уговариваем — попробовал, сказал, что невкусно и он такое не хочет.
Днём тридцать первого соседка банку огурцов принесла, только поставили её на стол, он в слёзы, мечется по квартире, испуганно на всех смотрит, в комнате за занавесками прячется. Мы не сразу сообразили, что он вспомнил, на ту банку глядя. Думали, нового человека испугался, перед соседкой долго неудобно было.
Купили ему к лету рубашечку яркую у спекулянтов, так досадно было, что вещь не на вырост. Но он вышел в ней красивый, ухоженный, ладненький. Смотрю, мальчонка к нему бежит, веснушчатый, круглолицый, улыбчивый: «Меня Витей звать, а тебя?» «А меня — Сыночек». Обняла его: «Паша, Пашенька», он засмущался, смотрит на пацанёнка: «А он?» «Он — Витя», — говорю, с ним играться нужно. Витя ему машинку протянул, он взял, посмотрел и назад вернул. Говорю ему: «Пашенька, Витя дал тебе свою машинку, а ты дай ему свою, и будете вместе играться». Смотрит на меня долго, потом берёт за руку и говорит: «Пойдём!» На следующий день мама вышла, пытались мы на детской площадке освоиться, с детками подружиться. Глаз с него не сводили, что делать говорили, сами играть начинали, он не обижал никого, не бил, игрушки не отбирал, но все только косились на него, на нас. Мы сразу не поняли, в чём дело. Привыкли к нему, он для нас какой есть, а посмотрели на него рядом с ребятнёй и увидели — он не улыбается, вообще не улыбается, никогда. Взгляд у него прямой, немигающий, личико вытянуто, не по-детски напряжено. То, что он ночью зубами скрежетал, на нервное списывали, успокоительное давали, ждали, когда пройдёт, но что улыбки на его лице ни разу не было, даже не заметили.
Что делать, куда бежать? Раньше ж никаких консультаций не было. У подруги моей мать в интернате работала, ей позвонили. Она сказала котёнка в дом принести да самим улыбаться чаще. Мы как подумали, где мы и где то, от чего улыбаются — так и слёзы в три ручья, разве мы сами хоть раз улыбнулись после его появления?
Выручил нас Мурлыка, Паша много игрался с ним, повеселел, заулыбался, потихоньку с детками игры наладились. За год до школы в садик повели, воспитательницы его никогда не ругали — тихенький, смирный, но и не хвалили.
В школу пошёл — поведение отличное, да успехи не особенные. Что тогда на меня нашло, что в душе поднялось? Вдруг так горько стало — я ж ему, я ж для него всего столько, а он? Мне им гордиться хотелось, слушать о нём на родительских собраниях. Что о нём скажут: три, четыре, когда-никогда пятёрка по географии или физкультуре, а мне этого мало. Давай по кружкам водить, ему всё нравилось: и в цирковой студии жонглировать, и конструктор на скорость собирать, и народные песни петь, но везде результат посредственный, только педагоги довольны, что проблем с ним нет.
А меня мордует мысль, что он неблагодарный, что отдачи от него никакой. Пошёл он, помню, в бассейн, вроде увлёкся, захотел на соревновании победить. Мне взахлёб рассказывал, как тренируется, и приседает больше, чем другие, и дыхание на дольше, чем они, задерживает, а первый приплыть не может. Что меня тогда дёрнуло, сама не знаю? Сказала ему: «У тебя ножки короткие, ты первый не приплывёшь».
Как он посмотрел на меня тогда… Так ни на предавших не смотрят, ни на оскорбивших, с жалостью какой-то, что ли? Он не кричал — замкнулся, делиться своими рассказами перестал. Я заволновалась, но разговаривать с ним не стала, побеседовала с сотрудницей — у неё тоже сыновья. Она меня сразу успокоила: «Пацану пятнадцать лет, что ж он тебе, как маленький, всё выкладывать будет? Наоборот — хорошо, мужественнее, сильнее становится». Я и успокоилась, чувствовала возникшую преграду между нами, но ждала, что он её преодолевать начнёт, а он не начал…
В бассейн больше не пошёл, ни на соревнования, ни просто так. Заметила, что он читать полюбил — везде с книжками, выписки из них делал, в своих — на полях что-то отмечал. Общения нет, а знать, что на душе у ребёнка, хотелось, так я его школьные сочинения читала. С умом, с чувством написаны, но оценки как обычно — три, четыре. Досадно мне стало — ну уже ж хорошо, чего оценки-то прежние? Пошла в школу, учительницы в тот день не было, я к директрисе. Она меня помнила, слушала, успокаивала, что-то советовала, но я не унималась — хорошие сочинения у моего сына, почему снова тройки? Она отвечать прямо не стала, достала из шкафчика тетрадочку с сочинением, которое на областной олимпиаде первое место заняло, — читайте, мол, вот как писать нужно! Я начала читать — так это ж Пашино! Я ей его тетрадку с этим сочинением и показала. Она сконфузилась, что вы, быть такого не может?! Это дочка Ольги Викторовны, учительницы по русскому языку, пишет. Я обомлела вся — как это, мой ребёнок пишет, а они своим детям переписывать позволяют и на них потом медальки вешают?
Пришла домой, на душе обида камнем, еле Пашу с кружка дождалась и сразу к нему: «Пашенька, ты знал, ты знал?» А он спокойно так: «Знал». «И не обидно тебе, сынок?» — спрашиваю. «Понятно, — говорит, — она ж её дочка, а Ольга Викторовна свою дочку любит». Как пощёчина прозвучало, я не знала, что ему сказать, — ничего не сказала. Только мне ещё обиднее стало, почувствовала, что он уже взрослый и не я говорю ему, что хорошо, что плохо, у него уже свои умозаключения, свои взгляды имеются. И я, вроде как, и не нужна ему больше — горько это, вырастила, выкормила, а теперь не надоблюсь. Мне даже обидно стало с ним заговаривать, большой, мол, сам так сам.
Потом как-то заметила, что он сутулится, говорю ему: «Сынок, ты спинку ровнее держи, что ж ты молоденький, а согнутый ходишь?» А он говорит: «Опять я тебе не такой, то ноги короткие, то спина кривая». Я ему: «Что ты, я же с добром к тебе, хочу, чтобы ты красивый был». «А я некрасивый, — говорит, — ты же мне никогда другого не говорила». Ой-ой-ой! Слышала я про этот возраст переходный, что грубят, что хотят самостоятельности, но что делать, как к нему относиться, я не знала. Других послушаешь — у всех проблемы, у некоторых — и посерьёзнее. Утешала себя, что он не самый плохой, не самый непослушный, что как-то оно само наладится — и до нас люди детей воспитывали, и после нас будут.
После восьмого класса он в училище засобирался, спросила его, в какое он поступать намерился. Сказал, что в педагогическое, «Тю, — думаю, — зачем оно ему?» Сама ж молчу, выждала время, успокоилась, чтобы спросить спокойно. «Кто-то же должен к детям хорошо относиться», — сказал мне. Я совсем перестала его понимать, на душе всё тяжелее становилось, руки опустились, пусть идёт, как идёт.
Закончил он училище, в школу работать пошёл, доволен был, а потом вся эта перестройка, годами зарплаты учителя не получали, как выжить? Пришёл однажды домой, сказал, что бухгалтером пойдёт, теперь все становятся бухгалтерами на новых фирмах. Слышала я тогда про эти фирмы, про рэкет, про облавы, но подумала, скажу я ему, он что, послушает? Я и смолчала. Устроился он, быстро деньги появились, еду покупать стали, не шиковали, но и не голодали, как тогда многие. Через год повестка в суд приходит, как я испугалась тогда! Пошёл он, мне говорил, что не виноват, что подставляют его, что ещё заседания будут и он всё докажет. Куда там — пять лет дали! Когда первый раз к нему на зону приехала, стала говорить, что не надо было на эту фирму соваться, пересидел бы в школе, а он и отвечает: «А разве тебе меня жалко было, ты тогда хоть слово сказала?» Я и думать не думала, что он ждал моих слов, что мог к ним прислушаться. Он сказал тогда: «Не приезжай сюда больше, тебе тяжело, не надо — что этим исправишь?» В электричке у меня сердце схватило — инфаркт, хотела бы приехать, не могла. Мама из последних сил за мной ухаживала, выходила, поставила на ноги, а сама ушла через месяц. Грустно, тошно, хоть вой. Мыкалась я, мыкалась, решила поехать к нему, деньги начала собирать, продукты запасать, что ж с пустыми руками-то ехать? Консервы, носки, яблоки складывала потихонечку в уголок. Вдруг среди дня звонок, открываю — Паша на пороге! Разволновалась я тогда, лицо покраснело, попросила его лекарство достать из шкафчика, а там — батарея пузырьков и флакончиков. «Мама, что с тобой?» — спрашивает. «Инфаркт перенесла, сыночка». Он аж побледнел, накапал тех капель, сел со мной рядом, обнял: «Почему же ты мне не сообщила, не написала, если бы с тобой что случилось, я бы и не узнал». Смотрела на него, что сказать не знала, опустила глаза, выдохнула: «Думала, ты сердишься на меня, сынок». «Я простил тебя, мама, я всё понял, понял».
Расспрашивала его о том, что на фирме случилось, как он сейчас живёт. Рассказал, что взял тогда чужую вину на себя, что дело пересмотрели, его досрочно освободили, что сошёлся с женщиной, у которой ребёнок. «Так и живёшь с чужим, своего не хочешь?» — спросила. «Он есть у меня, значит, мой!» — сказал. Он был такой спокойный, уверенный, мудрый. Я тогда увидела, что он человеком вырос, честным, искренним, да все равно обидно, что без меня, что не я его таким воспитала, не от меня он это доброе воспринял. Не знаю, может, бог какой-то есть, судьба, характер его родителей?
— Да как же не от вас, Раиса Андреевна, вы же столько…?
— Не считают, когда любят, — всё отдают, всю душу вкладывают. Тогда, наверное, могут сказать, что от них перенял доброе, хотя…
— Несправедливо это!
— Несправедливо, деточка. Кто любит, ищет не справедливости, а что ещё отдать, как ещё сделать жизнь любимого человека лучше. Ты подумай прежде…
Раньше Оля слышала только дебильноватые лозунги, смешивающие обвинение и долг непонятно перед кем с угрозой вечной неполноценности: «Женщина должна родить до тридцати», «Женщина это мать!», «Вот родишь себе ребёночка — у тебя всё на свои места станет». От растерянности она не находила, что сказать, только молча кивала, то опуская, то поднимая глаза на собеседницу.
— Разволновала я тебя, деточка, аж неудобно.
— Что вы, что вы, Раиса Андреевна, всё в порядке, — растирала она по щекам катившиеся слёзы.
— Возьми салфеточку, возьми конфеток за царство небесное.
— Сочувствую, сочувствую, — бормотала Оля, поднимаясь. — Спасибо, что поделились, а то вот живём по соседству и ничего друг о друге не знаем.
— И о тех, с кем бок о бок живём, знаем не ахти как много, но то уже от нас зависит, то уже от нас…
-9-
«Боже мой, почему в жизни всё так тяжело? — со стоном произнесла Оля, опускаясь на кухонный стул. — Решала женщина проблему бездетности, страха одиночества, ощущения неполноценности, и что из этого вышло? Прав был кто-то умный, когда сказал, что мы не решаем свои проблемы, мы заменяем их новыми, часто куда более сложными. Почему? Почему всё так тяжело и безвыходно?» После этого вопроса она всегда плакала, но, проведя привычным жестом по щекам, ощутила, что они сухие. На мгновение она оторопела: «Господи, слёзы, слёзы-то где?», продолжая всхлипывать, она опустила голову, её плечи дрогнули, как перед началом рыданий, но глаза остались сухими. Оля застонала, ощущая, что лишается привычного способа облегчения страданий. «Облегчения? — да, она была уверена, что так ей становится легче. — Может быть, может быть, мне уже лучше и поэтому я не плачу? Но почему тяжело по-прежнему?» Она застонала грудным голосом, напоминавшим приглушённый треск, но не успела начать раскачиваться в такт стонам — зазвонил телефон.
«Кто это ещё?» — подумала она, вздрогнув и обернувшись на звук. Сравнив перспективу раскачиваться в ритме своих стенаний или поговорить хоть с кем-то, она выбрала второе. «Ири-на-Ни-ко-лаев-на, — выдавила она из себя по слогу. — Что ж ей от меня сейчас нужно?»
— Алло, — сказала она, стараясь звучать в привычном тембре.
— Алло-алло, здравствуй, Оленька!
«Как противна эта натужная вежливость!» — сразу отметила она про себя.
— Здравствуйте, Ирина Ивановна!
— Как ты себя чувствуешь, всё в порядке?
«Блин, какой порядок начать ей сейчас описывать?» — мгновенно раздражаясь, подумала Оля.
— Да, в общем, да.
— Мы с Борей вчера разговаривали — ему звание доцента присвоили, — он рассказывал, что ты плачешь, не контролируешь себя. Может, тебе помощь какая-то нужна, сейчас депрессию хорошо лечат, вот когда я после смерти Фёдора Борисовича обратилась…
— Да-да, вам быстро помогли, и вы вернулись к преподаванию уже через месяц.
«Сколько можно одно и то же рассказывать и настырно всем вокруг предлагать, как будто нет других по свойству проблем и иных по складу людей?!»
Собеседница замялась, но, выдержав паузу, продолжила:
— Так может, и тебе, Оленька, смогли бы помочь?
— Может, и смогли бы…
— Ты подумай, подумай, а то время идёт, ребёночка ведь и усыновить можно, раз уж такая ситуация сложилась.
«Твою… ж налево! Ну, если ты один-единственный способ знаешь, один-единственный опыт прожила, откуда у тебя эта фанатичная уверенность, что он подойдёт всем, что другие только в нём и нуждаются?»
— Подумаю, конечно, ведь Боря очень страдает и род ваш, богатый мыслящими людьми, требует продолжения.
— Ни к чему твои остроты сейчас, когда ты в таком состоянии. Позаботься лучше о том, чтобы ты его продолжить смогла.
— Ну всё, я заботиться пошла, мне время нужно, силы, чтобы сфокусироваться на результате.
В трубке раздался возмущённый смешок:
— А-а-а, иди-иди, бог в помощь.
— И вам, Ирина Ивановна, и вам!
«Странно, откуда у меня силы сопротивляться? — оглядывалась вокруг себя Оля, не предполагая их наличия внутри. — Только что вопила страшным голосом, и вот…».
Она перевела взгляд на ещё светящийся экран телефона, раскрыла список последних вызовов: Ирина Ивановна, Боря, Мама, Боря, Мама, Боря. «И здесь замкнутый круг!» — подумала она и, перейдя в контакты, начала медленно их пролистывать.
«Алёна Парикмахер… Да ну нахер сейчас вся эта красота.
Алиса звено. Какое звено, от чего звено?» — она откинулась назад, подняла голову вверх и сосредоточенно уставилась в потолок, как будто на нём сейчас появится информация о звеньях. Долго концентрироваться ей было трудно и, досадуя на себя, она вернулась к списку.
«Амаль. Цыганчёнок-одноклассник, у него рано умерла мама, папа его один воспитывал. Каким он добрым был, каким отзывчивым! Встретила его случайно в супермаркете, взяла номер, но так и не позвонила.
Боря. Понятно, проехали.
Бяроза. Господи, это кто? А-а-а, это мороженое из магазина на остановке. Я съедала его ящиками после первой безрезультатной операции, и чтобы не ходить в магазин зазря, взяла номер — узнавать о наличии.
Вита Архетип. Ну, эту забыть нельзя! Она первая на курсе увлеклась психологией, скрупулёзно изучала героев античной литературы, в которых — она твёрдо уверовала — отражены архетипы человечества. Она оказалась настойчивой — ни вздохи сконфуженных лекторов, ни насмешки однокурсников её не смущали.
Всюду буду. Нет, я всюду не буду — куда поедешь, если нельзя трястись в автобусе после операции, куда полетишь со скачками давления при гормональной терапии?»
Оля отложила телефон и посмотрела вглубь кухни — поесть бы. За распахнутой дверцей холодильника откровенно мало продуктов, а на белых полочках то здесь, то там — засохшие пятна пролитых супов, борщей, подлив. «Я не помню, когда их готовила, а здесь, прям, летопись сохраняется», — отметила она, морщась от отвращения. — «Нужно что-то делать!» — подумала она, выставляя кастрюлю на стол и хватая тряпку, чтобы быстро вытереть пятна хотя бы с краю.
Глядя на подогревающийся суп, она вспоминала фразы из рассказа соседки и невольно съёживалась: «Ужас! На что потратилась жизнь человека? Как она жила, недовольная всем? Хотела ребёнка, но полюбить его не смогла. Почему не удалась сердцу искренность? Почему она так ждала отдачи?»
Густой супчик забулькал и запах. «Красивенький!» — сказала она, перемешивая его яркую юшку и «гася» ложкой очаги кипения. Перелитый в тарелку, он выглядел симпатично. «Сейчас ещё хлебушком дополню», — подумала она и открыла хлебницу. Но в ней лежала только сморщенная горбушка. «Жаль… пир не удался. Что из неё сделать, сухарики? Так суп остынет за это время».
Оля крепко схватила горбушку, понимая, что если отпустит и посмотрит на неё ещё раз, точно не съест. «Фуф, хоть что-то приятное существует!» — радовалась она, неся пустую тарелку к раковине. — Что б еще сейчас сбацать?»
Оля подошла к холодильнику и, рассмотрев содержимое его полок и ящиков, поняла, что сбацать можно только список продуктов для похода в магазин: «Эх! Такой порыв угас».
На улице прекратился дождь, но солнце не вышло и теплее не стало. «Ладно, хоть с неба не льёт и не сыпется, уже хорошо!» — рассуждала она, натягивая колготки. Одевшись, она глянула в зеркало: глаза, обведённые кругами, смотрели с худого бледного лица. Она всматривалась в них, стараясь поймать хоть немного оживления — проходит, проходит уже... Она моргнула и коснулась рукой щеки: «Какая сухая кожа. Где крем, где батарея косметики, неизменно оборонявшая столик?» Бесформенные брови, короткие ресницы, нос в чёрных точках не выдерживали критики. «Ой, ну что мне теперь, физиономию два часа разукрашивать, чтобы в магазин выйти?» — подумала она небрежно, но почувствовала, что расстраивается. «Никуда я не пойду — погода плохая! Картошку пожарю!» — вбежала она в кухню, хотя готовить ей уже не хотелось. Она достала пакет с картошкой и, беря из него мокрые, подпорченные клубни, кромсала их резкими движениями, а потом начинала очищать и бросать в раковину, намеренно извлекая побольше звука.
Вдруг в дверь позвонили. «Кто это?» — устало выдохнула она, глядя на грязные ладони. Открыв кран посильнее, она надеялась, что звук воды заглушит повторный звонок и освободит её от необходимости открывать двери. Но звонок прозвенел ещё раз.
— А-а, это ты? Я и ждать перестала, — сказала Оля, закрывая за мамой дверь.
— А я вот пришла.
— Ты с работы?
— Да, с первой смены.
— А что в сумке такое тяжёлое?
— Купила тебе творожка, сметаны в киоске на остановке, там хорошие, домашние.
— Спасибо, — на выдохе произнесла Оля, окидывая холодным взглядом фигуру матери, наклонившейся снять обувь.
— Что ты делаешь?
— Картошку чищу.
— Нужное дело. Как ты?
— Нормально. Поможешь?
— Давай.
Оля поставила перед ней пакет с картошкой, положила рядом ножик, а сама начала доставать грязные полочки из холодильника, вымывать их и устанавливать обратно, старательно избегая взглядов на мать.
— А почему ты не пришла, когда я тебя звала?
— Собиралась, но всё не получалось.
— Ну, это понятно, это как всегда, — выдохнула Оля, заметив, что очень быстро перемыла полки холодильника. Улыбаясь от довольства собой, она повернулась к матери и увидела, что та ничего не делает, просто сидит перед миской начищенной картошки.
— Блин! Почему ты мне не сказала, я бы тебя ещё что-то попросила сделать?
— Оль, может, ты мне чая нальёшь?
— Вот тебе всегда только бы что-то взять, ты ничего не умеешь отдать от себя.
— Оль, я замёрзла, но если так…
— Так! Ты не приходишь, когда тебя просят, не помогаешь, когда можешь, поэтому так!
— Ты просто вспомни, как ты хотела другую маму — богатую, умную, с положением.
— Тебе лишь бы больно сделать! Да, хотела… — она замолчала и, глядя перед собой, начала вспоминать последний разговор с Ириной Ивановной.
— Она хотела помочь мне!
— Помогла?
Оля потупилась, но не сдалась.
— Ты считаешь, что тогда она не хотела мне помочь?
— И тогда, и сейчас она хочет счастья исключительно своему ребёнку.
— А мне получается, счастья никто никогда не хотел?
— Почему никто? Я вот…
— Ты? Это смешно… и ужасно то, что ты сделала!
— Но я дала тебе всё, что могла, всё, что у меня было. Да, вместе со своими страхами, со своими недостатками…
— Знаешь что? Иди! Всё равно толку от тебя никакого!
— Пора уже становиться взрослой — меньше ждать от других.
— Чудесно! Человек, который не может ничего дать, советует ничего не ждать. Оригинальное решение!
— Ты, надеюсь, потом поймёшь.
— Что? Что ещё я должна понять? Что в этом всём непонятного?
Стоя возле лифта, мама помахала Оле рукой, но та быстро захлопнула двери и, войдя в кухню, которая ещё час назад одаривала приятными перспективами, зарыдала.
-10-
«Золотой денёк — сколько солнца! — почти вслух произнёс он, высматривая в тени подходящее место на парковке. — Нас может радовать одновременное присутствие света и тени — парадокс. Какие удачные туфли, правду говорят, хорошая обувь не жмёт! — мысленно оценивал он последнее приобретение. — Хотя я не хотел покупать, Катя уговорила».
Луч солнца, пробившийся между листвой, блеснул на запонке. «Мило, очень мило, но… что радости, когда не ощущаешь его прикосновения к себе?» И, отступив в сторону, прошёл под струившимся солнечным светом, поворачивая к нему щеку.
Поставив ногу на верхнюю ступеньку, он залюбовался изящностью туфли, открыл покрытую растрескавшейся краской дверь и шагнул в вестибюль. Не поднимая взгляда от новых туфель, он ступал на плиты, криво схваченные цементом по швам, вдоль, поперёк, наискосок. «Как неудачно!» — поморщился он, отрывая от них взгляд с брезгливой поспешностью.
На площадке у лифта громко переговаривались врачи, он поздоровался и, не задерживаясь, шагнул к лестнице.
— Николай Павлович, вы не с нами?
— Зачем перегружать лифт? Мне на второй этаж, — с улыбкой парировал он, едва наклонив голову в сторону вопрошавших.
— Я пешком взойду! — отделяясь от группы, сказал мужчина с мягко-седыми волосами.
— Игорь Васильевич, как вы?
— Я-то?
— Вы-то! — засмеялся неожиданному изменению в ритуале приветствия Николай Павлович.
— Да как я? Вот молодость догнать хочу, побежал с вами по лестнице.
— Получилось! — улыбнулся Николай Павлович, пропуская его в двери отделения.
— Игорь Васильевич, я вас уже час жду! — быстро заговорила фигура в синем халате, отделяясь от стены и направляясь к нему.
Николай Павлович окинул коридор взглядом: возле окон спинами к нему замерли несколько силуэтов с телефонами, напротив туалета грохотала ведром уборщица, раздосадованная отсутствием лиц, в которые можно бросить замечание. «Меня, кажется, никто не ждёт», — выдохнул он, почувствовав себя уставшим.
— Понимаю, извините, сначала переоденусь, потом обход начну. Завтракайте, успокаивайтесь, я подойду к вам, — ответил Игорь Васильевич.
— Паникуют с самого утра? — спросил его Николай Павлович, входя в ординаторскую.
— Не без этого. Вы смотрели её?
— Смотрел, миома, на УЗИ вполне понятная картина, но она, когда услышала, что опухоль, стала настаивать на трёхмерной эхографии, допплерографии.
— Вы всё провели?
— Успели только ЭХО.
— На ней что?
— Субмукозная размером с семинедельную, чётко видны расположение и форма.
— Это и на УЗИ видно.
— Настаивала, сказала, что настроена на операцию.
— Будем решать. Данные УЗИ и ЭХО у вас?
— У неё.
— Доброе утро! — заглянул в ординаторскую заведующий. — Скорая внематочную везёт, у кого сегодня операционный день?
— Ни у кого! Почему её к нам везут? — возмущаясь и пугаясь одновременно, выпалил доктор с бледно-рыжими усами.
— А бес его знает! Привезут — расскажут. Готовьтесь кто-нибудь!
Стихло дрожание захлопнутой двери.
— Офигительное утро понедельника! Я оперирую завтра, так почему бы меня уже сегодня не заставить? Где логика? Николай Павлович, может, вы? — растерянно забормотал усатый доктор, суетливо растирая пальцами лоб и виски.
— Ксения Альбертовна на смене? — спросил Николай Павлович тоном без эмоций.
— В отпуске, — уверенно ответил кто-то из угла.
— Она сегодня! Сегодня выходит! — тыча пальцем в график, радостно завопил усатый.
— Вот видите, не операционный, но всё-таки ваш день.
Николай Павлович постучал в сестринскую.
— Доброе утро! — обвёл он взглядом кабинет и остановил его на стоящей прямо в центре Ксении Альбертовне. — Доброе утро. У вас новый халат, — задержался он взглядом на верхней пуговице, — но придётся сменить на стерильный.
Она вопросительно посмотрела на него, он дёрнул плечами и беспомощно развёл руки в стороны.
Её длинные пальцы мгновенно обхватили верхнюю пуговицу халата, чтобы расстегнуть, но остановились — прямой взгляд и сдержанная улыбка проводили Николая Павловича за дверь.
— И это врач, который видел всё, — засмеялись молоденькие практикантки.
— В данном случае, видимо, не всё, — отводя взгляд от фигуры в центре, шепотом заметила та, что постарше.
— Стерильные инструменты готовы? — обратилась Ксения Альбертовна к полной невысокой сестре с хаотично выбивающимися из-под шапочки волосами.
— Готовы, они у нас всегда готовы! Молодёжь возьмёте? Учить их надо, что ж они сидят здесь целыми днями?
— Николай Павлович не согласится, возьму, когда будет оперировать кто-то другой. Пойду оперблок проверю, вы отмечали новый набор инструментов?
— Отмечала, там понятно всё, — небрежно ответила сестра, пытаясь собрать волосы под шапочкой.
— Кирилловна, помнишь её молодой? — оставив попытки усмирить волосы, крикнула она в направлении ширмы, как только закрылась дверь.
— Помню! — равнодушно ответила высокая бледная сестра. Расправляя мятый халат, она повернулась к зеркалу и запричитала о сложностях раннего подъёма да обязательных утренних хлопотах. — Ну, говорить комплименты мне никто не придёт, если заведующий в настроении, сойдёт и такой.
— Может и сойдёт, — с неудовольствием глядя на неё, нахлобучивала шапочку пониже взволнованная пышка.
— Она его личная медсестра? — спросила симпатичная практикантка.
— Господь с тобою! Личная медсестра у больного, а не у врача!
Девчушка обиженно отвернулась.
— А вот не надо обижаться, надо правильно говорить!
— Матвеевна, да оставь ты их в покое, других забот нет?
— Так сама объясни, что Николай Павлович только с ней оперирует, другие его не так понимают, не так инструмент подают.
— А если её нет, он что, откажется?
— Может и отказаться.
— А как тот человек?
— Другой врач возьмётся.
— Он тут крутой! — с замедленным осознанием новой информации протянула студентка.
— Да-а, — мечтательно подхватила вторая, — фарт же кому-то за такого замуж выйти.
— Фарт! — подмигнула им Зоя Матвеевна, и смех выбил из-под шапочки с таким трудом заправленные волосы.
— Михаил, вы со мной на обход?
— С вами, с вами!
— Беспокойная пациентка наметилась, поучитесь с такими работать.
— Почему она беспокоится?
— Женщины всегда беспокоятся, а тут опухоль.
— Серьёзная?
— Рядовой случай, — спокойно произнёс он и толкнул дверь палаты.
— Здравствуйте, — неспешным тоном начал Игорь Васильевич, разворачивая к кровати стул и усаживаясь на него. — Со мной молодой врач, Михаил Михайлович, он будет слушать, вы не против?
— Мне всё равно.
— Тогда расскажите нам, что болит, почему обратились?
— Ничего у меня не болело и сейчас не болит, просто на УЗИ в поликлинику пришла, там сказали, что опухоль.
— Вам что-то назначили?
— Нет, от них сразу к вам пришла — мне знакомая посоветовала. Ваш врач смотрел, вот записи.
Игорь Васильевич прочёл их и передал стоявшему за ним Михаилу.
— Кровотечения были?
— Не было.
— Это хорошо! И анализ крови почти в норме.
— Оперировать нужно?
— Думаю, нет.
— А если это?..
— Анализ на онкомаркеры вы сдали, дождёмся результатов. Не начинайте преждевременно волноваться!
— Но если показатели с доброкачественной совпадают, может произойти ошибка?
— На несколько показателей сдать можно.
— Это поможет?
— Да, это поможет уточнить диагноз. Не нужно так волноваться, диагноз распространённый, нуждается в уточнении, дальнейшем наблюдении, но никак не в подобной реакции.
— Тогда зачем меня здесь оставили?
— Вы много места не занимаете, — улыбнулся доктор. — А если серьёзно, чтобы вы анализ утром сдали, чтобы остальные обследования могли без очереди пройти, поскольку находитесь в стационаре.
— Какие обследования?
— Те обследования, на которых вы настаивали. На сегодня допплерография осталась.
— И вы настаиваете, что ничего серьёзного у меня нет?
— Послушайте меня, сейчас врач, который проведёт допплерографию, на операции, во второй половине дня он освободится и посмотрит вас, договорились?
— Так почему вы не отпускаете меня домой, если ничего серьёзного?
— Я же вам объяснил, из стационара вас обследуют сегодня, а если по записи — недели через две, вам так лучше будет?
— Не лучше.
— Вот, поэтому позвоните детям, пусть книгу почитать принесут, еду, которую вы любите, договорились? Михаил Михайлович, у вас вопросы к пациентке есть?
— Нет, у доктора всё под контролем!
Игорь Васильевич аккуратно закрыл дверь палаты.
— Может, ей успокоительное нужно? — спросил Михаил.
— Не жалуется она ни на бессонницу, ни на головную боль.
— И что, новопассит три раза в день очень повредит?
— Очень не повредит, но нервничать заставит.
— То есть?
— Психика так устроена. Если кто уверовал в некую неподтверждённую реальность, будь то бог, смертельная болезнь, измена мужа или жены, он будет видеть «доказательство» этого во всём, и в назначении валерьянки тоже.
— Ну-у-у, можно уколоть что-нибудь под видом подготовки к процедуре.
— Эта идея получше, но будут ли показатели допплерографии достоверными при воздействии седативных препаратов?
— Можно после процедуры ввести, если так.
— И как это будет выглядеть, запоздавший наркоз или не введённое контрастное вещество?
— Так что делать?
— Всё сделано: дети придут, еда, любимая книга, это успокаивает.
— Откуда вы знаете, что у неё есть дети?
— Михаил! — остановился от удивления Игорь Васильевич. — Беременности, роды, в карточке вся информация. Как-то вы не наблюдательны. Вас учить и учить. А что предложите для лечения заболевания?
— Опухоль маленькая, оперировать нет смысла, подобрать гормональную терапию и наблюдать.
— Почему в операции нет смысла, только потому что опухоль небольшая?
— Ей сорок два, гормональная активность организма снижается…
— Это мысль! В каком случае операция была бы показана при аналогичных размерах опухоли?
— Будь она лет на пятнадцать-двадцать моложе, планировала беременность, у неё диагностировали бесплодие, не связанное с другими факторами.
— Голова!
— Так зачем делают столько обследований при понятной картине?
— Она на них настаивает, она оплачивает.
— А если бы не настаивала и не оплачивала, онкомаркеры всё равно нужно делать?
— Есть такой анализ, о нём знают, получается, нужно.
— А если у неё подтвердится?
— Очень теоретически.
— Но вы бы ей не сказали?
— Ей не сказал бы!
— Это как?
— Был тут у нас прецедент, — Игорь Васильевич кивком головы указал на стол врача, занервничавшего утром. — Он сказал, да даже не сказал, а ляпнул пациентке, что у неё большая опухоль, при том, что первый раз увидел её на УЗИ. Она вышла и на перекрёстке кинулась под машину. Водитель — молодец, затормозил об островок безопасности, перёд машины, конечно, всмятку, спас дамочку несмышлёную...
— С чего вы взяли, что он её спасал? Он исключительно о себе беспокоился.
— Но он же себе в ущерб её объехал, ей жизнь сохранил.
— А себе — жизненное спокойствие, — хмыкнул Михаил. — Наезд на пешехода чреват множеством негативных последствий, а машина застрахована — ударить не страшно, реакция у него хорошая, вот и вся доблесть.
Игорь Васильевич заметно смутился.
— Вы никогда не водили? — мягко переспросил Михаил.
— Никогда.
Смущаясь неловкостью ситуации, Михаил осмотрел периметр пустой ординаторской.
— На отделении происшествие отразилось?
— Отразилось? Такое понеслось, — оживился Игорь Васильевич. — Её муж — обладатель знакомств с «нужными» людьми. В отделении началась проверка за проверкой, аттестации, подтверждения квалификации, фиктивные увольнения, угрозы открыть уголовное дело... В каких кабинетах заведующий только не побывал, и чего мы тут только не услышали! С тех пор к душевному спокойствию и формам передачи информации внимание особое.
— И часто запущенный рак диагностируется?
— Не часто. В большинстве случаев, на самой ранней стадии обнаруживаем и оперируем, статистика по отделению знаете где?
— Там, — указывая на шкаф в дальнем углу, ответил Михаил.
— Возьмёте и ознакомитесь!
— Так если она здесь наблюдалась, почему опухоль раньше не заметили?
— Она наблюдалась у Николая Павловича, который старался подвести дело к операции, но что-то, видимо, было упущено, опухоль начала быстро расти, тут как раз бы провести операцию, но она попала к другому врачу на УЗИ.
— Он что, онкологию здесь оперирует?
— Не было у неё! Наблюдали за ней, следили, врач принял решение обосновать операцию.
— То есть, вместо лечения сознательно позволяли заболеванию усугубиться…
— Михаил, начнёте изучать статистику, заметите, что отделению предписано в год провести столько-то операций плановых, столько-то ургентных. Потом по каждому диагнозу установлено количество вмешательств, нет нужного количества — через год нет отделения!
— А как же люди?
Раздался слабый стук в дверь, на пороге возникли растерянные парень и девушка.
— Мы третью палату найти не можем…
— А мы её специально спрятали, чтоб за посетителями наблюдать. В конце коридора есть поворот, свернёте, потом в узеньком коридорчике увидите три палаты с номерами, первая…
— Вы уж проводите, Михаил Михайлович.
Игорь Васильевич встал из-за стола — желтеющая ветка за окном словно приглашала подойти и рассмотреть себя ближе. Редкие берёзки роняли листву на сочный газон, обрамлённый кустиками самшита. «На это есть, а что ни одного бесплатного анализа, ни одной бесплатной таблетки пациент не получит — никого не волнует!»
Покидающие больницу растерянно озирались по сторонам, брели к мужниным машинам — кто в тапочках с цветочками, кто в халатике аналогичной расцветки. Звуки речи с восточным акцентом то били в барабанные перепонки, то, не задевая их, легко ложились на слух — колоритный молодой грузин, жестикулируя перед лицом врача, настойчиво повторял ему что-то, но тот лишь отрицательно качал головой.
— Посетители к нашей пациентке? — не оборачиваясь, спросил Игорь Васильевич.
— Да, а как вы узнали?
— В какую палату приглашали, адрес на истории болезни, время, за которое они могли добраться, возраст молодых людей. Учить вас наблюдательности и учить!
Михаил остановился у стола, листая историю.
— Настраивайтесь на внимание к деталям, и в профессии, и в жизни определённо пригодится. Умение собрать информацию и логически её проанализировать определяет качество вашей работы. Посмотреть на УЗИ и выписать симптоматическое лечение сами понимаете, какое и чего качество.
— Но ведь так тяжелее…
— Тяга к бездействию ума — часть человека. Высокий результат есть всегда усилие, личное, постоянное, никому не видное. Не решитесь на него — желание лечить остановят первые ошибки в диагностике, не выздоравливающие пациенты, «корректировка» вашей терапии срочными операциями.
Игорь Васильевич развернулся к собеседнику и, глядя на его растерянный вид, снисходительно произнёс:
— Озадачил я вас.
— Есть немного.
— Продолжим обход?
— Конечно!
Николай Павлович, на ходу снимая забрызганную кровью шапочку, возвращался вернуть её в операционную.
— Полостная? — удивился Михаил. — Почему не лапароскопия? Почему так быстро?
— Сами как ответите на эти вопросы?
— Полостная, возможно, из-за разрыва органа, в котором находился плод. Скорость смущает, может, тщательно зашивать не пришлось?
— Бог с вами!
Из операционной выехала каталка.
— Удостоверьтесь!
Михаил вперился взглядом в мраморно-бледное лицо женщины.
— Оттенок красивый.
Игорь Васильевич подавил смешок.
— Я теперь за всем наблюдаю.
— Правильно-правильно!
Игорь Васильевич шагнул навстречу вышедшему из блока Николаю Павловичу и молча пожал ему руку. Михаил, сторонясь, прошёл мимо.
— Напрасно вы так — за тридцать лет практики один летальный исход и то, при каких обстоятельствах.
— Не хочу я слышать про его обстоятельства!
— Да я бы вам и не рассказал…
— А как же оставленные на самотёк опухоли, заведомо не нужные процедуры и операции? — выпалил Михаил, ободрённый сознанием собственной правоты.
— Ну, здесь, как на проезжей части: не зная правил, не поймёшь, кто герой, а кто обычный прагматик.
-11-
Мягкий свет угловых торшеров, плавно струясь, перетекал в середину комнаты. Катя, беззвучно ступая по ковру, приближалась к склонившейся над столом фигуре.
Николай Павлович поднял взгляд от коснувшейся края стола тени.
— Надо же? Сам отвлёкся.
— Надоело, — выдохнул он, заключая её в объятья.
— Очень надоело, я смотрю.
— О-че-нь! — выталкивались горячие звуки быстрыми движениями губ.
— Я пришла спросить, что в дорогу взять, — лепетала, отстраняясь, сбитая с толку Катя.
— Что хочешь.
— Я так не хочу!
— А как?
— Давай вместе решим!
— Только вместе, — соединяя края халата у неё на груди, согласился он. — Какой был вопрос?
— С чем бутерброды делать?
— На твоё усмотрение.
— Решили вместе, — выдохнула Катя.
Николай Павлович пробежал взглядом начало оставленной статьи, пролистал до её окончания: «Внушительно! Автор думал, слова подбирал». Зажужжал телефон, он потянулся за ним, оправданно теряя интерес к повествованию.
— Добрый вечер, Григорий Матвеевич, рад слышать! Я так понимаю, мы завтра с вами увидимся?
— Не поездом решили, на машине. Погодка приемлемая, в шесть выедем, к одиннадцати уже на месте.
— Не преувеличивайте, наш троакар уже не самый новый. Могу, конечно, по нему проконсультировать, но зачем? Там свои консультанты будут.
— Расщедрились на оборудование?
— Выход из каменного века, это шаг, — засмеялся Николай Павлович в унисон с собеседником.
— Да, с Катей, вместе походить планируем. До закрытия будем, нам не приобретать, только отслеживать…
— Понял, до встречи!
— Кать, представляешь? Матвеич-жук звонил, про своё бедное отделение рассказывал.
— А что он должен был тебе рассказать?
— Такая отчаянная конспирация с ног сбивает, по-моему, уже все знают о его кабинете и уровне оборудования, а он всё трёт, как денег на отделение не хватает, как давно пора его выводить из каменного века.
— Ваш заведующий лучше?
— Наш сначала отделение сделал, а потом себе кабинет открыть решил, хотя зачем он ему?
— Очевидно, много не бывает, — она завернула в фольгу ещё несколько бутербродов и начала укладывать их в контейнер.
— Что у нас со временем? Завтра в шесть уже выехать нужно, это в пять встать…
— Сам такое решение принял.
— Сам?
— А с кем?
— С той, что не хотела делить моё общество с настырными пассажирами.
— Коль, в холодильник поставить нужно, — шагнула она в сторону, приподняв контейнер.
— Вижу-вижу, — выхватил он у неё ёмкость.
— Коля! — обернулась она, угодив губами в открытый для поцелуя рот.
Серые и чёрные пиджаки объединялись в группы, влево-вправо вращались головы, погружаясь и выныривая из рукопожатий, мелькали ладони, искренне и не очень звучал смех. Платья без удержу расточали ароматы, где-нигде вспыхивали и покрывались оценивающими взглядами драгоценности.
— Матвеевич тебя здесь ждёт?
— Вряд ли. Мы о встрече не договаривались, если только случайно столкнёмся.
— Сразу зайдём?
— Пройдёмся вдоль стендов, через час конференция начнётся.
— Там, наверное, и встретитесь.
— Возможно.
Лавируя между группами, Николай Павлович ограждал свою даму от активной жестикуляции стоявших к ним спиной.
У входа в зал спросили бейджи участников.
— Мы забыли… Их можно здесь получить?
— Да, конечно, слева от входа администратор распечатает. Приятного посещения!
Катя осталась ожидать, Николай Павлович зашагал через вестибюль к нише, в которой гудел принтер.
Высокий, стройный, походка твёрдая, костюм из немецкой ткани так славно сидит. Густые аккуратно уложенные волосы чуть покачиваются на ходу. Блеснув запонкой, он расстёгивает портфель, длинными пальцами достаёт билеты участников и легко сжимает их в чуть сомкнутой ладони. Катя улыбнулась от удовольствия, глядя ему вслед.
Через секунду напротив неё остановилась пара: он деревенски-простоватой наружности с отсутствием стрижки и неаккуратно отросшими ногтями, она — в юбке аляповатой расцветки и пиджаке, не сходящемся у неё на груди. Катя в недоумении отвела взгляд, но из любопытства проследила за их удаляющимися спинами.
«Какие ножки!» — удовлетворенно отметил Николай Павлович, перешагивая через ступеньку, чтобы скорее приблизиться к жене. Матовость колгот очерчивает рельеф голеней, юбка, не прикрывая округлости колен, обтягивает лёгкий овал упругих бёдер.
— Раздобыл!
Катя, не теряя восхищения во взгляде, неохотно перевела взгляд в направлении предстоящего движения.
— Пойдём!
Быстрыми струйками посетители растекаются между стендами, как будто каждый знает, что ищет и где именно оно расположено. Вялые зевки и сдержанная похвала изредка перемежаются восторженными репликами и взглядами.
— Час это не так много, Катюш, надо сообразить, где наш зал.
— Давай подойдём к плану. Вот павильон номер три, вот зал номер семь — мы уже всё знаем!
— Исключительно в теории пока.
— Смотри, мы здесь, за нами переход. Всё как на ладони, — она обернулась и указала рукой на длинный коридор, в котором сгустилась неожиданно большая группа.
— Подойдём?
— Пожалуй.
Толпа оказалась удивляюще разношерстной: гладковыбритые мужчины с перстнями на сосисочных пальцах чуть сторонились худых бородачей с запылёнными сумками для ноутбуков. Дамы в элегантных туалетах, обхватывая кожаные клатчи, с недоумением рассматривали мужчин в коричневых туфлях под серые костюмы и, приподнимая лакированные чёлки, промакивали выступивший от удивления пот.
Издали обозревая публику, они невольно замедлили шаг. Через минуту их обогнала пара, увиденная Катей ещё у входа: разляпистая дама с мешковатой сумкой и кавалером в тусклых ботинках неровной походкой спешила стать вишенкой на торте этого зрелища.
Николай Павлович, ускоряя шаг, окинул взглядом объединившую их вывеску: "Medical & Мoney in Ukraine today".
Он кашлянул, чтобы не засмеяться, Катя крепче сжала его локоть и сдержала эмоции.
— Мы сюда, надеюсь, не регистрировались? — спросила она шёпотом, когда они миновали толпу.
— Сюда — нет, — едва размыкая губы, ответил Николай Павлович.
— Надо же, какое стратегическое место выбрали, но как-то странно, согласись.
Николай Павлович на ходу развернул буклет и указал ей на аудиторию конференции: «Депутаты ВРУ… главные врачи, научные сотрудники медицинских учреждений… юристы, менеджеры, бухгалтера…»
— Прекрасная подборка — нужные друг другу люди. Одни — с мозгами, другие — с деньгами. Предложи умному работать на себя, и ты владелец процветающего бизнеса, очень в тему.
— Начало только через час, а все уже собрались!
— Жизненно необходимо…
— Вот третий павильон, мы пришли! Зачем было спешить, Коль?
— Посмотрим, где седьмой зал и начнём осматривать ближайшие стенды, идёт?
— Почему ближайшие?
— Потому что мы не знаем, когда регистрация начнётся, а опаздывать не хорошо!
— Тут совсем никого нет.
— Не совсем, стенды открыты, представители на местах.
— И к чему нам оборудование для реабилитации? Коль, ну ей-богу, за час…
— Вот и хорошо, первыми войдём, разместимся удобно. Не волнуйся, Катюнь, пока можем грамотного собеседника поискать, дело не только в материалах, люди тоже интересны! — кивнул он в сторону пёстрой толпы.
— Самых забавных мы, кажется, уже видели.
— Отчаиваться не стоит, — произнёс он участливым шёпотом, — поищем всё-таки.
— Пойдём хотя бы к нужному оборудованию, ты же его изучать приехал?
— Не надо там ходить сейчас.
— Почему?
— Потому что не все должны знать, что меня интересует, неохота в Матвеевича превратиться.
— А ты исключительно на выставках узнал, чем он кабинет обставил?
— Не только.
Катя недовольно выдохнула:
— Всё шутки, всё шутки.
— Что мне, плакать теперь?
— Ни в коем случае!
Резкий звук равнодушно отодвигаемых стульев, скорость удаления слушателей из аудитории, краска, густеющая на лице лекторши, констатировали провал конференции.
— О чём она гудела? Она к теме отношение имеет?
— Имеет! Рассказала о достижениях своего роддома, кажущихся ей современными, старалась, как могла.
— Понятно, что она своими результатами гордится, но зачем я три часа на неё убил?
— На контрасте с ретроспективой, наверное, легче выбрать новую технику, — ободряюще шутил Николай Павлович, посматривая на Матвеевича с высоты своего роста.
— Коля, может, ты со мной по старой дружбе к оборудованию подойдёшь?
— Разве только по дружбе.
Григорий Матвеевич засуетился:
— Кате, наверное, скучно будет?
— Нет-нет, не волнуйтесь, Катя по образованию врач, понимает в происходящем.
— Не знал, — смутился Григорий Матвеевич, близоруким взглядом выискивая в её внешности параметры, несовместимые с медицинским образованием.
— Пойдёмте!
Подстраиваясь под бодрящуюся походку бывшего коллеги, Николай Павлович успевал ловить на Кате восхищённые взгляды идущих навстречу.
— Матвеевич, мы правильно идём, может, с планом сверимся?
— Правильно! В следующую линию соскальзываем и там уже наше.
— А он ещё полон сил, — шёпотом заметила Катя.
— Где ему ухайдакаться? Санатории, курорты, зам толковый, ребёночку младшенькому лет десять.
Катя ответила ему удивлённым взглядом.
— Пришли, Коль, я тут кольпоскопы спрашивал, по их словам, так самые лучшие, но дешёвые подозрительно.
— Поглядим.
— Да, конечно, — неловко метушился Матвеевич перед входом.
— Это оптические — вчерашний день, потому и дёшевые. Уже не первое поколение видеокольпоскопов вышло, стоит среди них выбирать.
— Они дорогие?
— Конечно.
— Ну, пойдём, пойдём ещё, — заискивающим тоном просил Матвеевич, — надо лазерный или криоаппарат выбрать, эрозии…
— Двадцать первый век на дворе, диагноза такого нет в мире, вы что, выжигать собрались?
— Ну, умный ты, конечно, всегда был. Посмотришь на установочку? — спросил он у входа в павильон отечественного производителя.
— Не лучшие.
— На японские у нас не хватит, глянь, а?
— Без проблем, — Николай Павлович развернул буклет с описанием, — двадцать пятая модель неплохая. Обучите УЗИста на ней работать и...
— Спасибо тебе, — начал прощаться Григорий Матвеевич, морщась от неудовольствия.
— Пожалуйста. Гистероскопы, инструменты для лапароскопии не интересуют?
— Куда нам до такого оборудования?
Николай Павлович медленно протянул руку для прощания.
— Что он от тебя хотел?
— Зама проверяет, наверное?
Им навстречу шёл высокий блондин в элегантном, безупречно скроенном чёрном костюме.
— Вот и он, — шепнул Николай Павлович Кате.
— Почему ты не поздоровался?
— Мы, вроде как, не знакомы.
Катя обернулась ему вслед, Николай Павлович поймал её возвращающийся взгляд:
— Я смотрю, и ты за ним последить не против.
Она легонько хлопнула его по предплечью свёрнутым буклетом.
— Так что значил этот опрос?
— Думаю, старьё из своего кабинета вынесет в отделение, а всем расскажет, что денежек только на б/у технику хватило. Гистероскопии и лапароскопии он ещё в прошлом году проводить начал, но отделению это оборудование пока не светит.
— Мутненький, — задумчиво произнесла Катя.
— Таких мутненьких сейчас много.
— Когда-то немного было?
— Всегда хватало, но инструменты были проще, обман — изящнее.
— Пойдём отсюда — так бестолково день проходит.
— Идём.
— Подожди, это и завтра нам сюда приходить?
— Зачем? После обеда посмотрим то, что нам нужно, и выедем с утреца.
— Может, с вечера?
— Куда так спешить? Погуляем по городу, поужинаем, выспимся, и уж тогда… — он поднял на Катю вопросительный взгляд.
— Тогда, — согласилась она.
-12-
Зонты покрывали пространство над лужами, ненамеренно сближая под собой движущихся прохожих. «Мужчина, осторожнее!» — взревела толстуха, глядя на провиант, сыплющийся из разорванного при столкновении пакета.
— Куда гребёшь? — вызверилась она на Олю, начавшую собирать раскатившиеся вдоль тротуара яблоки.
— Я… я не… гребу, — смущённая наглостью, Оля опустила яблоко на асфальт.
— Видели? Видели? Потащила бы воровка! — раздувая пухлые щёки и сощуривая глаза, тётка счастливо игнорировала отсутствие интереса к себе и продолжала вопить. — Погань! Погань-то какая!
Едко-дребезжащие звуки её воплей и трясущиеся пышные формы ярко контрастировали с монотонной стройностью дождя и безразличием на лицах прохожих.
— Вот так и помоги человеку, — тихо произнёс возле уха твёрдый участливый голос.
От услышанных снаружи собственных мыслей Оля вздрогнула и обернулась: «Молодой, а такой рассудительный!» Не оправившись от удивления, она смущённо кивнула ему в ответ.
— Не расстраивайтесь вы так, улыбнитесь. Хорошего вам дня!
Стеклянные двери подземного перехода быстро замелькали перед ней, множась в застывших слезах.
«Вот так, ни за что, на ровном месте обругать человека? Как можно? И главное, с такой уверенностью переть… — Оля осторожно спускалась по мокрым ступенькам, словно отыскивала на них истоки человеческой наглости и грубости. — Откуда? Где берут?»
Дождь затихал, поток людей редел, тротуар становился шире, а сердце как сжалось, так и ни с места. «Фуф! — нервно выдохнула она и покачала головой. — Где эта баба взялась?» Она обернулась, отыскивая её фактурный силуэт, и, не найдя, ускорила шаг: «Ушла, и я пойду! Вот мерзость, надо ж такому!»
Домофон после прикосновения ключа издал тупой протяжный звук. Оля дрогнула от его шаблонной противности: «Этот ещё никогда никому не рад, хоть бы музыка какая…»
Она нажала на кнопку лифта и поняла, что тот не приедет. «С двумя пакетами на седьмой этаж тащиться! Устроила себе праздник, наготовила, переборола горе…» — всё больше серчала она на каждой следующей ступеньке.
«Ну и денёк… Хотя ладно, ничего фатального, ну грубая тётка, что с неё взять? Люди открывают рот, и из него льётся то, что в них самих. Я причём? Может, опыт у неё такой, все крадут у неё… Поднял бы другой, она б на него вызверилась… Но больше никто не поднимал…»
Уставая, она замедлила шаг и, подойдя к следующему пролёту лестницы, подняла взгляд вверх — щуплая девушка пыталась вытащить коляску из сжавших её дверей лифта. «Вот чума! И лифт сломала, и сама в опасности!» — с досадой подумала Оля и, оставив пакеты, быстро взмыла вверх.
— Давайте я двери подержу, а вы достанете коляску?
— Спасибо.
Оля изо всех сил пыталась отодвинуть дверцу со своей стороны, но она поддалась лишь на несколько сантиметров.
— Не получится, надо лифтёра вызывать.
— Если бросить, коляску сомнёт.
Оля с новой силой оттащила половинку двери, на этот раз та раскрылась шире.
— Вытаскивайте скорей! — крикнула она, изо всех сил пытаясь сохранить освобождённое пространство.
Девушка дотянулась до верха коляски и быстро выкатила её, отбегая назад.
За их спинами засмеялся ребёнок — малыш в комбинезоне, мешающем ему сделать лишний шаг, чуть приседая, хлопал в ладоши и заливисто хохотал.
— Спасли твою коляску, Хохотун! — наклонилась Оля к малышу и поправила съезжающую ему на глаза шапку. Он засмеялся громче, наклонился вперёд и начал быстро переступать с ноги на ногу, копируя только что увиденное.
— Артист! — улыбнулась ему девушка и повернулась поблагодарить помощницу. — Спасибо вам! Так вовремя вы здесь оказались!
Оля оторвала взгляд от малыша и посмотрела на неё — она узнала её сразу — Витка, — но что-то внутри заёрзало, и выдавать себя ей не захотелось.
— Не за что, — быстро ответила Оля и начала спускаться вниз за пакетами.
— Как не за что? — удивлённая столь быстрым прощанием Вита растерянно смотрела ей вслед. — Видите, больше никто не поднимается и если бы не вы, я до сих пор сражалась бы с лифтом и точно не победила! Спасибо! — договорила она удаляющейся Олиной спине.
«Не навязываться же ей, — вздохнула Вита, — хотя странно, могли бы и пообщаться».
— Пожалуйста-пожалуйста, — бормотала Оля, стараясь идти как можно медленнее, чтобы не увидеться на обратном пути.
Совпадая с её ожиданиями, повернулся замок, зашуршала ткань комбинезона, щёлкнул фиксатор на колёсах спасённой коляски, дверь закрылась.
«Такой голос красивый. Недавно переехала, иначе мы бы давно встретились. Замотанная или просто запыхалась, не накрашенная совсем, в бесформенных штанах, не очень на неё похоже».
Оля перестала замечать усталость и ступеньки, на автомате вошла в квартиру, опустила пакеты на пол и, приободрённая мерным ходом мыслей, уже переходила из коридора в кухню, когда мимолётным взглядом зацепилась за собственное отражение в зеркале.
Ей захотелось, чтобы оно исчезло, как в кино, когда герой, перевоплощаясь, перестаёт видеть себя, а зеркало осыпается, не сдюжив отразить прелестей метемпсихоза. Она залюбовалась собой в новом костюме, пригладила воротник у шеи, поднялась на цыпочки, чтобы рассмотреть юбку, завертелась из стороны в сторону с ладонями на бёдрах и внутренним ликованием: «Как хорошо сидит!» Новые колготы скользят по голеням, вот-вот она вдохнёт аромат, но теряется: «Какой? Какой сейчас подойдёт?»
Она быстро опустила взгляд на правый угол столика, в котором припали пылью несколько флаконов, взяла один, потом другой: «Не такой! Не то!» Раздосадованная, она подняла на себя взгляд: бледное лицо, потухшие глаза, с худых плеч свисает мешковатый свитер, бёдра углами тремпеля выдаются из растянутых спортивок, дулька неухоженных волос завалилась на бок.
«Может, и тётка заорала на меня, потому что… и Витка прикинулась, что не узнала… Но ведь важно то, что внутри, а не барахло. Кому нужна эта «ветошь маскарада»? — протестовала она, не желая видеть очевидное. Чтобы скорее расстаться с тяжелыми мыслями, она подняла пакеты, вошла в кухню и начала быстро раскладывать продукты по полкам: «Лучше не думать или хотя бы не думать много!» Поставила на конфорку кастрюлю с водой, срезала одним движением узелок на сетке с овощами, взглядом отыскала то, что понадобится сейчас. «Так лучше. Лучше что-то делать, не вязнуть в размышлениях. Кому они нужны? Какой от них толк?»
«Прелесть! — выдохнула она над кастрюлькой, благоухающей томатами и приправами. — Здорово, что успела последних овощей купить, настоящих, с земли. Скоро теплично-пластмассовые пойдут, ни запаха в них не будет, ни вкуса. Они, как зима, будут ровно-холодными, беззвучными, безупречными». Оля вздрогнула от реалистичности своих мыслей: «Зачем? Опять?» Уже бесконтрольно в воображении пронёсся зимний пейзаж за окном: укрытые снегом деревья, тонко разрезанные линиями жалюзи, не тревожащие ни звуком, ни красками. «Неужели она придёт? Неужели она была?»
Оля ещё раз наклонилась вдохнуть запах, который наполнял её слабое сознание силой земли, трав, их соков, их вечной загадкой жизни: «Блаженство!»
«Что здесь? — приоткрыла она дверцу духовки и осторожно отвернула край фольги от зарумяненного бока большого яблока. — И здесь красота! Всё красиво. Только в человеке какой-то изъян, какой-то дефект… Опять?» — грустно подумала она, не ощущая в себе силы противостоять сползанию в неутешительные мысли. «Хватит! Нужно что-то делать, вот хотя бы поесть!» Она остановилась перед плитой: «Одной как-то не хочется, вообще не хочется, я не помню чувства голода в последнее время, что-то пресное движется во мне тягуче, а потом выясняется, что это слюни и сопли, как говорит Боря. Не пора ли ему, кстати, домой вернуться? Половина четвёртого», — она силилась вспомнить, какой сегодня день недели и во сколько он обычно возвращается, что-то пыжилось выстроиться в сознании, но сразу обрывалось. «Чёрт возьми!» — раздражённо выдохнула она и вышла в коридор посмотреть на календарь — все клеточки в каких-то непонятных загогулинках, единичных цифрах, многоточиях. «Что за клинопись? — возмутилась она, перелистывая календарь к началу, — мало-мальски понятное было в январе, а потом? А потом я, кажется, сюда не смотрела». Опуская одну за другой страницы, Оля вернулась в сегодняшний день — девять, нолик, две точки, вроде треугольник, только без одной стороны. «В девять начало лекции, наверное, — приободрилась она, — а дальше? Точки это пары, допустим, то есть их две, значит, они закончились давно, треугольник это вопрос». Она поискала взглядом телефон, но вспомнила, что он в куртке. «Сейчас разберёмся совместными усилиями», — думала она под гудки в трубке.
— Борь, ты где?
— В универе. Лекции ещё…
— Так в девять же начались? Отмечено две, что ещё?
— Завтра лекции…
— Я понимаю, что завтра, а сегодня что ты там ещё делаешь?
— Готовлюсь… перевожу…
— А-а-а… Кушать не хочешь?
— Можно, в принципе…
— Приезжай, дома готово всё!
— О-о-о, неожиданно…
— Борь, не мямли, ты едешь?
— Да, да, выезжаю, скоро буду.
«Вот это поворот», — он нервно застучал пальцами левой руки по столу, набирая номер правой.
— Света, я сегодня не приеду, не смогу, извини.
— Что за извини, Борь? Мы договорились, у меня запись к парикмахеру!
— Не кричи, Свет, так вышло, ну, получилось так, я должен домой ехать.
— Зачем? — ошарашенно спросила она.
— Ну, ну, понимаешь, Оля сегодня… первый раз… она… — представив, насколько нелепо прозвучит дальнейшее разъяснение, он оборвал его. — Ну, в общем, домой надо…
— Я не поняла, что там Оля?
— Ничего, просто позвонила, надо ехать к ней сейчас.
— Если ничего, зачем ехать? И ты говорил, что она тебе не звонит, никогда не спрашивает, где ты.
— Да, так и было, а вот сегодня позвонила…
— И ты поедешь, хотя ничего серьёзного и внятного не прозвучало?
— Надо к ней поехать сейчас…
— Мне надо к парикмахеру, на кого ребёнка оставить? Приедь хоть на час с ним посидеть!
— Я ей сказал, что уже выезжаю, где я буду полтора часа ездить?
— Давай так, он спит, я не буду его будить, поеду к своему времени, а ты приезжаешь и смотришь за ним до моего возвращения…
— Свет, ну я же сказал, не могу…
В трубке раздались гудки, он быстро поднялся, закрыл кабинет и побежал к машине.
— Оль, я тут в пробке стою и у меня что-то сломалось, машина не заводится.
— Ты что, издеваешься?
— Нет, машина…
— Закрой её и оставь.
— Как? Посреди дороги?
— Через сколько ты будешь?
— Не знаю, как только заведу, сразу приеду. Через час, может чуть больше.
— Ладно, — в недоумении произнесла она и сбросила вызов.
Боря посмотрел на гудящую трубку и задним ходом выехал с парковки.
-13-
— Это немилосердно, в пять утра будить швейцара, — сказала Катя, увидев как тот, выскользнув из ближайшего ко входу кресла, застыл у двери.
— Сейчас и парковщика разбудим, — ответил Николай Павлович, нажимая на кнопку дверей паркинга. — Смотри, уже на ходу, значит, не мы его подняли.
— С добрым утром! — поприветствовал входящих улыбкой, овеянной тонкой струйкой пара.
— С добрым утром! — ответил Николай Павлович, приближаясь, чтобы расплатиться.
Крупный мужчина с раскрасневшимися щеками сворачивал в ладони мелкие купюры, целясь толстыми пальцами в миниатюрные кнопки кассового аппарата.
— Свежо, — заворачиваясь в лёгкое пальто и медленно переступая с ноги на ногу, заметила Катя шагающему в расстёгнутом пиджаке мужу.
Он, копируя её жест, погрозил пальчиком: мол, знаю, что ты хочешь мне сказать, и быстро юркнул на водительское сиденье. Машина дёрнулась и мелко затряслась.
— Уже греется, садись, — спешил он к двери с её стороны. — Сейчас-сейчас! Теплеет уже, — ёжился он, демонстративно не застёгиваясь. Катя попыталась соединить на нём борты пиджака, затем, не выпуская их из рук, медленно привлекла его к себе.
Прекратив отсчёт тающих в поцелуе мгновений, под потолком стихли звуки рождения нового чека. Парковщик посмотрел на кольцо бумаги, овившее его пальцы, и смущённо улыбнулся, отыскав взглядом его обладателей.
— Поехали, — бодро предложил Николай Павлович.
— Поехали, — Катя отпустила край пиджака, который тут же был резко запахнут.
Перестали гнаться за ними тени многоэтажек, приземистые супермаркеты остались покоиться в утренних потёмках. Из серой пелены вырывались сбрызнутые багрянцем деревья редеющих перелесков, без остатка растворённые в серо-жёлтых соловьиных оттенках. Колкие крики одиночных птиц пронзали цельное полотно тишины и затихали, пугаясь бесповоротности его нарушения.
— Катюш, может, вздремнёшь?
— А ты как? Радио включишь?
— Какое радио, если ты спишь?
— Включай, так можно наблюдать за тобой, словом иногда переброситься.
— Не волнуйся! — быстро ответил он, притормаживая у края дороги. — Сейчас одеяло из багажника достану, выходи, пересаживайся, — звал он, открыв дверцу с её стороны.
Она вышла и, держа в руках плед, замерла на заднем сидении.
— Располагайся, чего ты? — удивлённо смотрел он на неё в зеркало.
Она послушно начала разворачивать пледик, он одобрительно кивнул и прибавил скорость.
— Коль, только мы никуда не спешим, хорошо?
— Я чуть-чуть, только, чтобы не уснуть. Катюш, располагайся!
— На дорогу, пожалуйста, смотри!
— Ты укладываешься, и я не свожу с неё глаз, договорились?
— Договорились.
Оранжевый луч солнца полоснул по линии горизонта, как скальпель по коже лба, оставляя багроветь низ и отекать синевой верх рассечённых тканей. Краткие и несмелые трели пичужек перемежались с шумом крыльев молча взлетающих птиц. Под слабым ветром осыпалась влажная листва, мельчайшие капли сонно приникали к стеклу. В стороне блеснули пары фар, с грубым шумом пронеслись машины. Тяжёлые тучи заскользили, украшаясь пунцовым светом льющегося в земную серость восхода. Ветер всё безжалостнее разгонял неподвижные облака, освобождая свет, изгибая до хруста ветки и тут же оставляя их дрожать, расставаясь с последней листвой.
Вдоль встречной полосы на боку лежал грузовик, с кучи высыпавшихся корнеплодов медленно соскакивали грязные клубни, Николай Павлович остановился и мелко-мелко задрожал, неподвижно глядя перед собой.
Катя проснулась от усиливающегося стука его зубов.
— Коля! — позвала она, теребя его локоть.
Он остался неподвижным.
— Коля! Коля! — безуспешно звала она и, выпутавшись из пледа, побежала к нему. В шаге от водительской двери она, сдержав крик, остановилась. Из перевёрнутой кабины грузовика сочилась струйка крови. С боковой дороги неуклюже бежал мужчина.
— Помогите! Помогите! — закричала она ему. — Нужно остановить кровь, разбейте здесь, — сказала она, показывая на крупные трещины, раскроившие лобовое стекло.
— Я за рукавицами, — крикнул он, забегая за перевёрнутый грузовик.
— И бинт возьмите, и аптечку, всю аптечку!
Струя крови начала темнеть, Катя метнулась к кабине, рассмотреть положение водителя — голова закинута назад и скрыта за синей тряпкой.
Вернувшийся мужчина быстро надевал рукавицы.
— Я аккуратно, чтобы в него не полетело, — сказал он, нажимая в центр самой глубокой трещины.
Сквозь выросшее под скрежет стекла отверстие Катя протянула руки к истекающей кровью голове, под пальцами зачавкала тёплая от крови фуфайка.
— Рана здесь, придержите.
Мужчина бережно приподнял голову, освободив Катину руку. Она свернула подушечкой начало бинта, приложила к ране, попыталась обмотать его вокруг головы, но не смогла дотянуться.
— Ближе к нему надо.
Катя облокотилась о землю и свободной рукой начала бинтовать.
— Оборачивайте бинт и возвращайте мне — я не достаю.
Бескровное лицо водителя обрамлялось белизной.
— Шея цела?
— Дышит, — вытирая с трясущихся пальцев кровь, ответила Катя.
— Держите голову, я скорую вызову, телефон в машине, — бормотала она, пятясь назад.
— Какая скорая, мы на трассе, когда она приедет? До больницы три километра.
— Вы один его не достанете, я не смогу помочь.
— Сейчас кто-то остановится, буду просить, подержите.
Катя присела, протянула руки, но они предательски затряслись.
— Потерпите, я курточку сверну, подложу.
Он лёг на асфальт и аккуратно поднёс свёрток к голове, Катя осторожно опустила на него перебинтованный висок.
За ними притормозила машина, из неё выскочил парень и подбежал к ним.
— Скорую уже вызвали?
— Помоги его вытащить, сам повезу.
Катя поднялась, отыскала взглядом застывший на водительском сидении силуэт мужа и бросилась к нему.
— Полиция, — удивлённо сказал парень, обернувшись на звук быстро приближавшегося автомобиля.
— Мать их! Нафиг надо?
— Ты сбил?
— Сбил и сам бы отвёз, а теперь…
Он разочарованно махнул рукой на торчавшие осколки лобового стекла, встал и отошёл в сторону, словно ситуация окончательно перестала его волновать.
— Ого! Кто опрокинул грузовик? — спросил полицейский.
— Я, — небрежно ответил мужчина.
— Где машина?
— Там, — указал он за перевёрнутый борт и сплюнул себе под ноги.
— Между колёсами въехал?
— Кто бинтовал? — спросил парня второй полицейский.
— Женщина тут была, — ответил тот, растерянно оборачиваясь. — Вон она, возле машины.
— Врач?
— Откуда я знаю?
— Удаляй осколки, попробуем его вытащить!
Парень смутился приказным тоном просьбы, но начал аккуратно их доставать.
— Женщина, вы врач? — крикнул полицейский, приближаясь к Кате, склонившейся над водительским сидением.
Полицейский подошёл вплотную и увидел, как она, заливаясь слезами, трясёт сидящего за плечо.
— Что с ним?
— Я не знаю, — ответила она, вытирая бегущие слёзы и пачкая лицо грязью, стёкшей с рукава на ладонь.
Полицейский смущённо отвёл взгляд от тёмной полосы на её щеке и протянул ей сложенный вчетверо платок с отутюженными краями.
Катя подняла на него взгляд.
— Возьмите, вытрите лицо, — сказал он, неохотно разворачиваясь к Николаю Павловичу.
Катя сделала шаг назад, полицейский растерянно потряс его за то же плечо и в недоумении отступил.
— Он не ранен?
— Нет, — с досадой ответила Катя, понимая, что это обстоятельство не улучшает ситуацию. — Скорую надо вызвать…
— Вызвали уже.
— Коля! Коля! — пыталась она заглянуть в его глаза. — Что с тобой?
Нарушив неподвижность, он положил ладонь ей на плечо, вторую — себе на грудь. Она заметила, что кисти посинели от сжимавшего их спазма.
— Коля, ты говорить можешь?
Он молчал. Она обернулась, чтобы позвать на помощь, и увидела, как четверо мужчин переносят к обочине водителя.
— Спасли! — вырвалось у неё.
Николай Павлович перевёл взгляд на движущиеся фигуры и внезапно выскочил из машины. Он подбежал к перевёрнутому борту и начал с остервенением разгребать груду свеклы перед ним.
— Что ты делаешь, Коля, что ты делаешь? — кричала Катя, проглатывая подкатывавшие к горлу комки.
Он, кусая губы, всё быстрее распихивал в стороны скользкие от грязи клубни. Катя зарыдала, закрывая изящной ладонью лицо.
— Мужик, ты чего? — кинулся к нему полицейский, чтобы схватить его за руку.
Николай Павлович оттолкнул его так, что тот едва не упал.
— Женя! Сюда! — крикнул он напарнику, начавшему записывать показания водителя.
— Остановитесь! Что вы делаете? — подбегая, закричал тот.
— Давай браслеты, он не остановится!
Едва удержавшись на ногах, полицейские застегнули на нём наручники.
— В аптечке успокоительное есть, неси, уколем ему!
— Не здесь! — попросила Катя, преграждая собою путь возвращавшемуся полицейскому.
Втроём они развернули Николая Павловича и повели к машине. Он тяжело дышал, то громко заглатывал воздух, то пытался провести по плечу подбородком. Посаженный на заднее сидение, выдохнул и тут же обернулся к месту, с которого был возвращён. Его губы дрожали, сквозь них никак не успевало выйти понятное слово.
— Коля! Коля, повернись ко мне, я здесь, здесь, — со слезами умоляла Катя, — укол надо сделать, приляг.
Он обернулся, прохрипел: «Не мне», и снова начал жадно заглатывать воздух.
— Кому, Коля, кому?
— Они-там-не-дышат, — сливая слова в одно, сказал он.
— Там никого нет, Коля. Водителя сейчас скорая заберёт, второй не пострадал — тихо сказала она, не останавливая обжигающие лицо потоки слёз.
Он прилёг на сиденье и, отталкиваясь от пола ногами, дёрнулся к дверце. Полицейский, стоявший возле неё, потерял терпение и за шиворот выволок его из машины.
— Смотри, — указал он на кабину без лобового стекла и лежащего на обочине водителя, — он был внутри, мы вытащили его. — Смотри! — крикнул он, указывая влево на боковую дорогу, — с неё этот придурок врезался в грузовик. Вот он стоит, видишь, он здесь, не там. Высыпались буряки на пустую дорогу, ты затормозил перед ними и всё, нет там никого! Нет!
Катя громко зарыдала, полицейский, как ребёнка, повёл дрожащего Николая Павловича обратно.
— Садись, мужик, не загоняйся больше, — выдохнул он и с жалостью посмотрел на Катю. — Помочь, может?
— Скорая приедет, пусть они уколют, — растирая по щекам слёзы и макияж, ответила она.
-14-
«Баю, баю, баю-шки», — в неестественно быстром темпе напевал Боря, входя в квартиру и снимая обувь.
«А мы уже проснулись, мы уже глазки открыли, мы ротиком зевнули и ручками потянулись. Славный мой!» — любуясь, он щекотал проснувшегося кроху.
«Какой ты сладенький! И послушный, и не кричишь, да?» — спросил он, поднимая малыша на руки.
«Вот ты славный! Слюнку пустил, от удовольствия или от радости?» — продолжал расспрос Боря, шаря по кроватке неуверенной рукой в поисках салфетки.
«Просто глотнуть не успел, да? Да?» — лепетал он, вытирая ротик послушно сидящего карапуза.
«Что ты всё молчишь и молчишь? — пытался развернуть его к себе Боря. — Пойдём в зеркало на тебя посмотрим».
«Красавчик мой! Красавчик, смотри, как ты на папу похож! — прижимался он к его свисающей щёчке, откровенно любуясь отражением. — Вот если бы тебя бабушке показать… На неё ты тоже похож, наверное?»
«Всё будет хорошо, она поймёт… А нам с тобой кушать пора, — потеребил он пухлые щёчки тихо сидящего на руках малыша, — как хорошо, что ты такой спокойный, как хорошо».
Боря зашёл в проветренную кухню, сияющие фасады шкафчиков, блестящее окно, натюрморт над покрытым скатертью столом, записка, прижатая вазочкой.
«Будем с тобой читать, что нам советуют предпринять на этот раз. Рекомендуют подогреть сцеженное молоко, всё чистое взять из первого шкафчика от плиты. А мне? Мне ничего не рекомендуют…». Заметно приуныв, Боря опустил малыша на стульчик для кормления, открыл холодильник, на весу оттяпал ножом кусок колбасы и приложил его к тонкому кусочку хлеба, который при сжатии челюстями начал крошиться и осыпаться на пол. «Чёрт! — кинулся он к висящему на стене полотенцу. — Хотя ладно, потом уже всё уберу». Он отложил в сторону ставший треугольным кусок хлеба, с которого тут же скатилась колбаса: «Ё..! И рука теперь жирная. — Несколько секунд он рассматривал ладонь, потянулся к полотенцу, но вспомнил, что лучше его не пачкать, перевёл взгляд на разобщённый бутерброд, схватил полотенце и раздражённо вытер им руку. — Сама сказала, всем чистым готовить, я ради чистоты». Он бережно разровнял полотенце и поставил бутылочку в микроволновку, попутно подбирая свою нехитрую снедь ртом со столешницы.
«Греется, греется уже, — гладил он сидящего малыша, который спокойно катал перед собой пластмассовую крышку. Заметив её, Боря смутился. — Сейчас-сейчас игрушки тебе принесём, чем это ты играешься?»
Аккуратные ряды мишек-заек сидели вдоль кроватки. «А где простые человечки, кубики, зверюшки, которых я покупал? — он обвёл комнату взглядом, подошёл к комоду и начал наугад открывать ящички. — Вот они!»
«Смотри, что у меня есть, — заискивающим тоном заговорил он, выкладывая перед ребёнком яркие фигурки. — Смотри, квадратик синий, слоник серый, мишка коричневый…». Малыш небрежным жестом смешал их в кучу и потянулся к крышечке в Бориной руке. «Ну что ты?! — сочувственно-назидательно протянул он, убирая руку за спину и снова выкладывая перед чадом фигурки, ведущие к всестороннему развитию. — Этими играться нужно, смотри, мишутка, слонёнок, квадратик». Поджав губки, малыш продолжал тянуться к руке с крышкой. Боря попытался настоять на улучшенном варианте развлечений и завёл руку за спину — раздался крик. «Ой, ну чего ты? Крышечка тебе нужна? Крышечка? На-на-на крышечку!»
«Господи! Да неужели ж она совсем им не занимается? Что это такое?» — возмущался Боря, накручивая на бутылочку соску.
«Подождём, чуть-чуть подождём, пока остынет», — сообщил он ребёнку, ничего не замечающему, кроме возвращённой безделушки. «Интересно тебе?» — не мог унять сочувствия Боря, глядя, как тот обхватил края крышки двумя руками, явно не намереваясь её отпускать.
Он присел возле стульчика и начал выкладывать игрушки перед собой, сначала один комплект, потом другой. Ловким жестом малыш взял фигурку, совпадавшую с крышкой по цвету и сжал её в кулачке. «Молодец! Молодец! Цвета различаешь! Это зелёный, зе-лё-ный! — Боря потянулся погладить его по щёчке, но ребенок поднял ручки со сжатыми трофеями и отвернулся в сторону. — Чего ты, чего ты? Папа не заберёт у тебя, папа не заберёт!»
Приложил бутылочку к щеке: «Да, не горячая, вроде… самое то! Слышишь, твоя еда готова, ням-ням».
— Как вы тут?
— Покушали, поигрались немного, — наклоняясь к Светиной щеке, спешил сообщить Боря.
— Цём! — я поцеловал маму, и ты поцелуй, уговаривал он сопящего малыша, готового только целиком перейти к ней на ручки.
— Подожди, подожди, мама снимет пальто, туфли, чуть согреется и возьмёт тебя, — приговаривал он, переступая с ноги на ногу.
Света медленно снимала одежду, обувь, поправляла волосы, внимательно рассматривала себя в зеркале. Боря остановился, малыш перестал тянуть к ней ручки и затих, увлёкшись ниткой, прилипшей к Бориному воротнику.
— Ну как? — недовольно воскликнула Света. — Долго я буду ждать комплиментов в обществе мужчин?
— Ааа, да, — растерянно спохватился Боря. — Красиво, очень красиво, — искал он перепуганным взглядом, куда именно приложить комплимент.
— Понятно, — разочарованно выдохнула Света, потушила лампу у зеркала и направилась в кухню.
Боря быстро шёл за ней, повторяя, что ребёнка он уже покормил, только посуду помыть не успел. Недовольная Света воссела во главе стола, он робко предложил:
— Может, чайку?
— Ну, давай.
Боря, не выпуская малыша из рук, включил чайник.
— А хорошо тебе, — сказал он, обводя взглядом спустившиеся чуть ниже скул волосы, — с такими длинными волосами я тебя ещё не видел.
— Наверное, — равнодушно ответила она, переводя взгляд на закипающий чайник.
— Тебе какой?
— Зелёный с жасмином.
— В пакетике или настоящий заваривать?
— Ты спешишь, я так понимаю, некогда заваривать?
— Ну, я бы и себе заварил.
— И себе пакетик залей, конечно.
В одной руке удерживая малыша, другой он поставил перед Светой дымящуюся чашку, которую она сразу же обняла костлявыми пальцами.
— Замёрзла?
— Нет, просто неуютно, — дёрнув плечами под тонким свитерком, ответила она.
— Светуль, не начинай… Всё хорошо, я приехал, его покормил, ты осуществила задуманное, да?
— В принципе, да.
— Вот и замечательно, — подытожил Боря, усаживая малыша себе на колено и освобождая руку, чтобы взять чашку.
— Посади его на стульчик, сам спокойно попей.
— Пускай тихонько сидит, — улыбнулся он малышу, засовывающему в рот скрученную нитку. — Нельзя-нельзя! — погрозил Боря, вытаскивая нитку из ладошки за свободный край.
— Теперь он тихо не посидит, — маслянисто-сочувственно произнесла Света. — Сади его за столик.
— Ну-ну-ну, не плачь, не плачь, — спокойно говорил Боря, попадая ножками в отверстие между стульчиком и его возвышением, — где твоя супер-игрушка?
— Ты тоже оценил магическое воздействие пластмассовой крышки на ребёнка?
— Оценил. Вот, вот она, держи!
— Спокойствие воцарилось ненадолго, пей скорее.
— Я тороплюсь, да?
— Тебе жена звонила, во времени ты сегодня ограничен.
— Есть такое. Надо бы праздник обсудить.
— Да что его обсуждать, пойдём в Макдональдс, да и всё.
— Кого позовём?
— Мама, понятно, придёт, девчонки с факультета и семинаров.
— Они будут с детьми?
— Не все.
— А какого возраста их дети?
— Есть три, есть пять лет.
— Надо, чтобы ему интересно было, — кивнул Боря в сторону стульчика, — его праздник.
— Будет ему интересно. Всё нормально будет.
— Ну, хорошо. Ты уже дома будешь? Пойду тогда.
— Ага.
— Принеси мне его на минутку.
Света неохотно отделилась от коридорного угла, в котором было так удобно, и вынесла кричащего малыша.
— Почему он орёт?
— Крышку уронил.
— Свет, нельзя было его спокойным принести, трудно за крышкой последить?
— Значит, нельзя!
— Иди-иди ко мне, — звал Боря, усаживая себе на руки беспокойное дитя. — Папа принесёт тебе ещё крышечек, ещё принесёт.
— Другие на него не действуют.
— А мы попробуем.
— Ладно, прощайтесь, хватит уже сюсюкаться.
-15-
Ветер с тупой настойчивостью сквозняка проникал под кожу ещё не отвыкших от тепла прохожих, сверлил между рёбрами, обхватывал незащищённые шеи. Парень в пляжных шортах и сланцах, переминаясь с ноги на ногу, часто оглядывался, будто хотел обнаружить и тут же удавить причину похолодания. Не найдя, он уставился перед собой с возмущённым недоумением на лице: «Вот, блин! Да вчера ж ещё тепло было!» Студентки бежали к остановке в накинутых на плечи не застёгнутых куртках — днём потеплеет — и, стоя в очереди на маршрутку, разглядывали синеющие пальцы, ёжащиеся в босоножках.
— Зой, похолодало, комедия «Кто в чём» началась! — выходя с балкона, сообщил Игорь Васильевич.
— Считай, весь октябрь грелись, сколько ж можно-то?
— Да-а, добрая осень, тёплая, сухая, — с тоской в голосе сказал он, входя в кухню.
— Помешай в кастрюле, я пока тебе куртку из шифоньера достану.
— Кто пришёл? — улыбнулся Игорь Васильевич топающему малышу. — Кто без тапок?
— Деда…
— Деда в тапках.
— …а сегодня в садик?
— В садик, родной.
— Мама и папа спят.
— Так я отведу.
— Моё сердце не хочет в садик.
— Ох, сердешный мой, давай кашу мешать.
— Ложкой!
— Разумеется, ложкой.
— Мы за кашей следим, потому что бабушке тяжело?
— Ну, как сказать? Мешать кашу ей не тяжело, ей сложно всё успеть, всех одеть, всех собрать.
— А я сам одеваюсь!
— Молодец какой! Бери тарелочку, наберём тебе каши.
— А бабушке?
— И ей наберём, как же?
Зоя Матвеевна вошла в кухню.
— Виталя, ты уже здесь?
— Здесь я. Садись кушать, а то всё не успеешь.
— Когда это бабушка что-то не успевала?
— Ну, вдруг, бабушка?
— Соберёшь его в садик? — спросил Игорь Васильевич из комнаты.
— Соберу и отведу — я на второй сегодня!
— Хорошо, раз так!
— Бабушка идёт, потому что мама и папа спят.
— То они сегодня, завтра уже с ними пойдёшь!
— Разбаловали мы их, всё под боком, всё, что б готовенькое да горяченькое. Как быть теперь?
— Не преувеличивай, придёт и их время с зорькой вставать.
— Так ты заберёшь его из сада?
— Заберу-заберу, — пощекотал дедушка бока скачущего рядом с ним Витальки.
— И мы пойдём гулять с тобой и раскладывать листья?
— Холодно сегодня, но если распогодится, сходим, — ответил Игорь Васильевич, расцеловывая провожающих.
— Где этот ваш живодёр холёный? — кричал, вбегая в отделение, мужчина с седеющими волосами и до безобразия искажённым гневом лицом.
— Куда мчишься? Уборка в отделении! — крикнула санитарка, резко выпрямившись над ведром, в котором полоскала тряпку.
Не обратив на неё внимания, он подбежал к ординаторской, глухо стукнул в дверь и мгновенно распахнул её.
— Где этот скот?
— Успокойтесь, пожалуйста, — пытался как можно громче и твёрже ответить Михаил, оказавшийся единственным в кабинете.
Возмущённый визитёр, оглянув помещение, сделал естественный вывод.
— Ах, он заведующий! Как я сразу не понял! Заведующий, конечно! Где он?
— Кто?
— Заведующий ваш! Вашу мать! — ревел мужчина, багровея и быстро вращая выпученными глазами.
— Явно не здесь, — ответил Михаил.
Как ужаленный, посетитель выскочил из ординаторской и остановился, бесцельно вращая головой вправо-влево.
— Мужчина! — окликнул его доктор из палаты напротив. — Отойдите от кабинета, там никого нет!
— Есть сопляк какой-то! А я спрашиваю, где ваш заведующий не нажирающийся?!
— Прекратите кричать, это больничное отделение!
— Где ваш заведующий? Знаю я, какое ваше отделение!
Из дальнего конца коридора приближался высокий широкоплечий доктор.
— Рот закройте, пожалуйста! Вы с заведующим поговорить хотите?
Оценив параметры приближающейся фигуры, посетитель убавил звук.
— Где? — спросил он с ослабевающим энтузиазмом и засеменил вдоль стены от следующего за ним врача.
— Вы идёте к его кабинету, — подбадривал тот бредущего к выходу крикуна. — Да, да, всё верно, вперёд потом налево.
Почти у выхода посетитель сообразил, куда движется, резко шагнул назад, но сразу ощутил ладонь, покрывшую его лопатки.
— Нет, ну послушай, здесь же мою жену резали?!
— Здесь оперируют.
— А ты тут, вообще, кто?
— Вообще, врач.
— Но не ты её оперировал?
— Не я.
— Хоть бы фамилию спросил! Так сразу — не я!
— Мне фамилия не нужна.
— Понятно, только бабло…
— Я не хирург, я не оперирую.
Громко сопя и резкими движениями приглаживая на себе пиджак, он ещё пытался выглядеть устрашающе.
— А ты что, громила такой, здесь делаешь?
— Вас слушаю.
— Идёт! — с прежним энтузиазмом крикнул прижатый к стене посетитель, услышав шаги на лестнице.
— Спокойнее! Да, кто-то идёт, возможно, на следующий этаж.
В отделение вошёл Игорь Васильевич и удивлённо оглядел стоящих у двери.
— Добрый день, что происходит, Вадим Георгиевич?
— Возмущён, — указал он взглядом на стоящего перед ним, — но суть претензий пока не известна. Вроде, с заведующим поговорить хочет.
— Может, и не с заведующим, — небрежно бросил посетитель, возвращая на место съехавший галстук.
— Если не с заведующим, я готов вас выслушать.
— А вы кто?
— Врач этого отделения.
— Вы оперируете?
— Нет.
— Так что с вами разговаривать? — слабея от гнева и обиды, махнул он на Игоря Васильевича.
— Вы или разговаривайте или выходите за двери!
— Вадим Георгиевич, не горячитесь так.
Облокотившись о стену, визитёр сощурился и направил взгляд между их плечами.
— Операцию сделали — внематочная. Скорая заливалась, какое тут оборудование хорошее, как здесь всё сохранят… мы им заплатили, чтоб сюда привезли. А тут вырезали, вырезали трубу и всё!
— Успокойтесь, даже если одну удалили, беременность возможна, искусственное оплодотворение возможно.
— Не возможно! Не возможно! — ударял он по стене сжатыми кулаками.
— Успокойтесь, послушайте, я вам всё объясню.
— Что? Что объяснять? — краснея и водя ладонью по груди, посетитель поднял голову и шумно вдохнул, ослабив галстук. — Одна… уже одна была… — Ни на кого не посмотрев, он опустил голову.
— Значит, показания были… значит, жизнь… сохранить… — летели ему вдогонку бесполезные слова.
— Ну, вы ж хоть деньги верните, хоть часть, так распанахать где угодно могли, — вдруг обернулся он, поставив ногу на порог.
— Я их не брал.
— Никто не брал. Юрист тоже посмотрел на квитанцию и сказал, что я сделал благотворительный взнос, а больше никто ничего не брал, — двигая бледными губами и еле слышно произнеся слова, он шагнул за порог.
Игорь Васильевич вздохнул и, опустив голову, несколько секунд молчал.
— Ох и утречко началось, Георгиевич.
— Ага, — без эмоций ответил тот.
— Вы с ночного ещё не ушли?
— Да вот из-за типа этого не успел.
— Теперь можно собираться, — открыв перед ним двери ординаторской, сказал Игорь Васильевич.
— Тупо напрягаться не захотел, — тряся в воздухе листом бумаги с чернеющими строками слов, заключил усатый врач, — фраернул, типа, ты не можешь, так я могу. И всё — весь пар в гудок ушёл!
— Подождите, — выхватил листок у него из рук другой врач, — здесь указана кровопотеря и нитевидный пульс.
— А реанимационные мероприятия при нитевидном почему не указаны? — мгновенно возразил усатый. — Тут написать что угодно можно, кто это проверит?
— У Альбертовны спросить можно.
— Ой, когда эта Мальвина против него слово сказала?! Я говорю! Состыкуй с тем, что скорая написала! Не было разрыва — кровотечение незначительное, скорую вызвали сразу — «учёные» уже! Меньше чем через два часа она уже на операционном столе лежала. И они не идиоты, понимали, что кому обещают, значит, можно было!
— Отчего же вы не смогли?
Усатый обернулся:
— Здравствуйте, Игорь Васильевич, я мог бы…
— Прекратим этот разговор.
— Почему вы его всё время защищаете? — краснея от преодолённого смущения, спросил Михаил.
— Я никого не защищаю. Однако не следует вести разговоры за спиной, вернётся Николай Павлович — с ним напрямую и обсудите. В теории все сильны! — пристально глядя на усатого, подытожил Игорь Васильевич и, быстро подойдя к шкафу, сменил куртку на халат.
— Михаил, утренний обход, вы со мной?
— Да, — без энтузиазма ответил тот и медленно встал, явно жалея о невысказанном в прерванном разговоре.
— Почему вы его оправдываете? — отстаивал право на возмущение Михаил.
— Я не оправдываю.
— Но почему вы не стали разговаривать со всеми, неужели все неправы?
— Вы не поверите, но так называемые «все» и есть неправы.
— Почему?
— Потому что со своей колокольни каждый смотрит. Не советую вам присоединяться к многоголосым хорам, в них люди сходятся, объединённые ненавистью к кому-то или чтобы утвердиться во мнении, которое уже сложили.
— Так что делать? Ни с кем не разговаривать?
— Выходить и работать, вот как мы сейчас. Свою голову включать, чтобы не совершать ошибок.
— Но это не ошибка! С таким опытом он понимал, что делает!
— Это вы, Михаил, всё понимаете, пока за горой учебников спрятались, пока между вами и неподвижным телом не оставался скальпель и несколько секунд для принятия решения. Пока вы не вглядывались в застывшее лицо: «Выживет, если я рискну?» Пока у вас не дрожало всё внутри от сознания, что рискнули вы, полагаясь на эфемерности — добротность телосложения, умеренную бледность лица, ровность собственного дыхания, бесстрастность ритма приборов... Пока вы шкурой не ощутили, от какой ерунды в иные минуты жизнь человека зависит…
Михаил покачал головой, сопротивляясь услышанному.
— Так что, опыта, на который вся жизнь ушла, мало для результата?
— А вы знаете его жизнь и опыт?
— Не знаю, но вы, конечно, знаете? — закипал Михаил.
— И я не знаю.
— Н-н-н, м-м-м…
— Вот и я об этом. Пойдёмте работать.
В коридоре Игорь Васильевич остановился у окна и подозвал Михаила.
— Смотрите, мужчина, который кричал здесь, стоит в очереди на маршрутку. Что он пережил?
— Может, это уже факультативно? Ещё и о нём нужно думать?
— Нелишне разуметь, как твои действия на других отражаются.
Михаил отвернулся. Точно с началом шага, абсолютно деловым тоном Игорь Васильевич спросил: «Сколько взяли за операцию?»
Михаил опешил, открыл рот, чтобы ответить, но звук не получился.
— Сколько бы ни взяли, для пассажира маршрутки сумма неподъёмная. Что это значит? Долги? Согласие на любую кабалу в виде работы? — ответил он сам себе. — Думайте! Думайте чаще, думайте больше…
Последние слова утонули в нарастающем за их спинами шуме — врачи, выйдя из ординаторской, расходились кто куда.
-16-
На круглый обеденный стол ложились тонкие косые лучи, высветляя до невидимости мелкие пылинки. Отодвинув тарелку в тень, полураскрытая ладонь осталась в тёплой полосе. По другую сторону стола отодвинулся стул, и лёгкие шаги направились вглубь кухни. Открылся и закрылся холодильник, щёлкнул чайник, степенно зашуршала бумага, нервно зашелестел пакет, досточка глухо ударилась о столешницу, нож, цокнув ручкой, опустился рядом с ней.
Лёгкие шаги направились к столу, голова сидящего развернулась в их сторону, но угодила в полосу слепящего света и мгновенно повернулась обратно, нежившаяся ладонь быстро закрыла ослеплённый глаз.
— Тебе опять плохо?
— Нет-нет, что ты? Не волнуйся. Ты теперь в каждом моём движении будешь что-то подозревать?
— После увиденного, наверно, да.
— Не надо, пожалуйста, не надо так.
Руки, протянутые поверх полос света и тени, едва коснулись освещённого Катиного локтя, который, нервно дрогнув, прижался к телу. Медленно потянулись обратно и, дойдя до края стола, мягко опустились на колени.
— Коль, я думаю, что должна знать причину произошедшего!
— Тише, тише, пожалуйста, прошу тебя.
— Я тоже тебя очень прошу…
Он ссутулился и низко опустил голову в плечи.
По столу начали двигаться чашки и блюдца, в сахарнице, поддаваясь слабому натиску ложечки, зашуршал сахар.
— Коля, ты меня слышишь? Ты чай будешь?
— Зелёный.
— Да-а-а… — неуверенно растянула Катя, окидывая взглядом стол, — сейчас принесу.
— Не вставай! — быстро сказал Николай Павлович и схватил её за уже выскользнувший из полосы света локоть.
Катя присела обратно, задетые её локтем чашка и блюдце покатились по полу.
Николай Павлович наклонился, взял осколок и замер, глядя на его острые края. Через несколько секунд пальцы начали синеть.
— Коля, отпусти! Не надо!
Он мотнул головой и разжал ладони — осколки противно зазвенели.
— Я уберу!
— Не уходи.
Катя обернулась, протянула к нему руку, но не смогла дотянуться, чтобы обнять.
— Иди ко мне, — переставляя стул ближе, позвала она.
Николай Павлович молча положил голову ей на плечо. Она гладила его по руке, целуя лоб и щеку, раскрыла ладонь, убедиться, что он не поранился.
За окном раздался сдавленный хруст, она вздрогнула, оглянулась, но ничего не увидела. Он со стоном выдохнул и прижался к груди. Катя обняла его плечи и начала медленно раскачиваться. Задрожавшей рукой провела по его волосам, он остановил её ладонь и на несколько секунд прижался к ней уголком губ.
— Так родители погибли.
На Катины глаза навернулись слёзы, она стянула со стола салфетку.
— Может, не надо продолжать, не надо, чтобы ты снова это чувствовал.
— Как же ты узнаешь, если не послушаешь?
Катя поднесла салфетку к лицу.
— В такой, примерно, день они поехали утром на дачу, рано выехали, я ещё спал. Под утро мне сны тревожные виделись — в школу проспал, пошёл только к третьему уроку, всё время не по себе было, хотелось закрыть глаза и как-то не полностью включаться, думал, от погоды настроение такое.
Последним уроком физкультура была, бегал со всеми, мяч в кольцо забрасывал, только разыгрались, пить захотелось, я выбежал из зала и рванул в конец коридора — там фонтанчик был. Не успокоил дыхание, хлебнул и поперхнулся, хотел кашлянуть, не смог — вдохнуть не могу, двинуться страшно.
Рядом в кабинете закричала учительница, выставила пацана из класса и громко захлопнула дверь. Он увидел меня и как заорёт: «Синий! Синий!» Учительница выскочила обратно, помню, она подошла ко мне, я потерял сознание.
Очнулся на кушетке в медпункте — всё болит, ноют руки, ноги, спина, мне страшно шевелиться, даже почувствовал, как от страха у меня глаза округлились. Медсестра подошла: «Ох, и напугал ты нас! Как себя чувствуешь?» А я ничего сказать не могу, попытался голову поднять, чтобы заговорить, но не смог. «Что ж такое?», — произнесла она надо мной и пошла в угол кабинета к телефону. Потом скорая приехала, укол какой-то сделали, тело обмякло — я уснул. Проснулся от холодного воздуха из форточки, посмотрел в окно — было уже темно.
В замке повернулся ключ, вошла медсестра: «Ты поднялся! Вот молодец, мы уж за тебя испугались. Покушать надо». Она ушла и вернулась с тарелкой слипшихся макарон и котлетой, от которой несло жареными сухарями. Что-то из этого я долго жевал, но боялся глотнуть. «Ешь! Ешь! Не зацикливайся!» После глотка мне стало спокойно, я почувствовал себя как будто ожившим, это было странно и страшно.
Пошёл домой, в двери торчала записка, написанная корявым почерком с какими-то аббревиатурами и бледно-синими оттисками печатей. Рассмотрел её, ничего не понял, открыл дверь, вошёл. Дома никого не было, я включил свет только в коридоре и долго бродил по пустым, наполовину освещённым комнатам.
Подошёл к папиному столу — из потрёпанной папки торчали листы с чертежами и мелкими зелёными буковками, я выдернул несколько и рассматривал их на свет.
В маминой комнате на столике стояла вазочка с засушенными цветами, я дотронулся до неё и вдруг вспомнил, что утром ощущал сквозь сон, как она подошла и поцеловала меня. Мне захотелось лечь, чтобы снова почувствовать, как она наклоняется ко мне, проводит по волосам, целует щеку, дотрагивается до плеча. В своей комнате я лёг на диван спиной к двери, через которую она вошла, закрыл глаза, убрал из головы все мысли, чтобы провалиться в сон, но не мог воскресить в памяти всех ощущений — отчётливо я помнил только тающий на щеке поцелуй и её удаление от меня. Я снова пытался «отмотать» на начало, вспомнить её шаги, её приближение ко мне, но опять на щеке быстро растворялось её дыхание, и она уходила. Потом и это ощущение исчезло, она сразу уходила. Быстро, потом ещё быстрее, потом она как будто и не приближалась ко мне, а только уходила. Я почувствовал, как что-то густое по воздуху связало меня с её исчезающими шагами, и во мне поселилось чувство постоянного ускользания того, что люблю.
-17-
— Привет, Борь! — встретив его возле двери и внимательно рассматривая, поздоровалась Оля.
— Привет, — смущаясь пристальностью её взгляда, ответил он.
— Большая пробка была?
— Большая! Чего это ты спросить решила?
— Тебя лучше не беспокоить?
— Лучше! — направился он в кухню.
— Ну-у, если так…
Боря уселся за стол, Оля села напротив и внимательно на него посмотрела.
— Что нового и интересного?
— Знаешь, что-то есть…
— Ты вроде на обед звала или мне послышалось?
— В пробках не кормят?
— Представляешь, не кормят!
— Если так, чего бы хотелось?
— Ты позвала, я пришёл, к чему это?
— В самом деле, к чему? — переспросила Оля, поднимаясь из-за стола. — Есть рагу и яблоки печёные с творогом, что будешь?
— Рагу с мясом?
— Без.
— Мы вегетарианцы с какого-то времени?
— Нет, просто забыла. Очень хотела из последних овощей что-то приготовить, мясо выпустила из виду.
— Что у тебя муж, который травой не питается, ты тоже выпустила из виду?
— Начинай кушать, — спокойно сказала Оля, ставя перед ним тарелку. — Не наешься, тушёнку в кладовке найду и разогрею тебе.
— Бруцеллёз, сальмонеллез, ты вообще знаешь, какие инфекции через просроченные консервы передаются?
— Знаю, смертельные.
— Я наемся, кажется, — буркнул он.
— На здоровье!
— О! вкусно!
— Слава богам! А то ты аж разнервничался весь.
— Каким богам? — пережёвывая горячие кусочки овощей и выпуская ртом пар, удивлённо спросил Боря.
— Не знаю, так Витка всегда говорила.
— Какая Витка?
— С моего курса, всё преподов задалбывала вопросами то о богах, то о героях. Фрейдом перевпечатлилась, горы книг тогда перечитывала, чтобы то опровергать, то подтверждать его теорию. Помнишь?
— Ну-у… смутно, — Боря остановил движение челюстей. — Высокая такая, худая, без сисек, с длинными чёрными волосами, — быстро перечислил он.
Оля подняла на него удивлённый взгляд.
— Да, не маленькая она, и волосы чёрные у неё были.
— Так что?
— Встретила её сегодня в подъезде, с ребёнком, с коляской.
— В нашем подъезде?
— Да, а ты её раньше не видел?
— Нет, не замечал.
— И как она?
— Не знаю, мы не разговаривали.
— Что же вам помешало?
— Она не узнала, наверное.
— А ты?
— Я узнала, но общаться не захотелось.
— А-а-а... Она такая умная была, прям неожиданно.
— Её ум кого-то заставал врасплох?
— Что-то вроде того.
— Почему?
— Выглядела она обычно, не строила из себя нечто невероятное. Не вращала челюстью в паузах между словами, не ходила с портфелем. Не цепляла на шею шарфики, кричащие: «Я одна такая! Смотрите на меня все!», не надевала по два кольца на указательный палец. Смотрела на всех, как на людей, в принципе.
— Живо ты, однако, умных женщин описываешь!
— Окружение, среда, так сказать…
— Борь, а я — умная?
— Ну, умная, а зачем тебе?
— Зачем что? Ум или твоё мнение?
— И то, и другое, — Боря умиротворённо подтолкнул хлебом на вилку последний кусочек морковки и отодвинул тарелку.
— Наелся, тушёнку не разогревать?
— Не надо.
— Я умная, но ты, наверно, умнее?
— Наверно. Это важно именно сейчас?
— Вот спросить решила, а ты всегда на ум женщины обращаешь внимание?
— Всегда! — отчеканил Боря и кивнул в сторону духовки. — А иначе как бы я тебя заметил?
Оля открыла духовку.
— Сколько тебе?
— Парочку давай. Если мы об одной и той же Витке говорим, то она после вашего, исторического, на психологию поступила, потом несчастливо влюбилась, то есть, влюбилась, может, и счастливо, но с парнем её что-то случилось, многие видели её в больницах, печаль какая-то, в общем…
— Надо ж такому в жизни. Не доучилась, скорее всего?
— Не доучилась. Только недавно документы забрала, может, год-полтора назад.
— Откуда такие точные сведения?
— Да так, ребята рассказывали.
— Какие внимательные ребята, лично заинтересованы, наверно?
— Вряд ли.
— Почему так? Им умные женщины не нравятся?
— Откуда я знаю, кто им нравится?
— Ладно... Как яблоки?
— Вку-с-но, — старательно пережёвывая комочек творога, выговорил Боря.
— Я по поводу твоего календаря спросить хотела, раньше всё расписано было — тема, факультет, группа, а теперь — графика периода зарождения цивилизации?..
— Привыкал, забыть что-то боялся, вот и писал так подробно.
— Привык уже?
— Что в этом плохого?
— Ничего.
— Так ты говоришь, с ребёнком её видела?
— Да, и в нашем подъезде, на четвёртом или на пятом этаже. Она по другую сторону, не по нашу, то есть, в тамбур вошла.
— Странно, у кого там дети? У Яши-бизнесмена, который развёлся?
— А она причём?
— Яша беспокоился, что жена сама с ребёнком не справится, няню искал.
— Витка? Нянькой работать?
— Мало ли какие в жизни обстоятельства…
— Ну, в принципе, да, — согласилась Оля. — Пойдём, дорогой, в твоё расписание внесём графическую ясность, — пригласила она вставшего из-за стола Борю.
— Я на память всего не помню, — замялся он, водя пальцем по ровным строкам недель.
— Правда? А говорил, что прекрасно освоился.
— Да помню я, просто карандаша с собой нет, — растерянно зашарил он по карманам.
— Жалость-то какая, — без огорчения в голосе сказала Оля и отступила назад.
— Завтра напишу, в какой день сколько пар, чего ты? — растерянно пообещал он спине удаляющейся жены.
-18-
— Бр-р-р! Какой неприятный холод! — топтался Николай Павлович возле дома, борясь с желанием немедленно в него вернуться.
— Я же говорила, Коль, оставайся, тем более, после такого стресса.
— Нормально всё, Кать, отдохнул дома денёчек и к труду. В какой супермаркет сегодня тебя подвозить?
— Не важно, что по пути, как тебе удобнее, так и едь.
— Обратно такси возьмёшь.
— Возьму, конечно.
— Наличные у тебя есть?
— Есть и наличные.
— Хорошо! А то будешь, как в тот раз, с полными пакетами бегать, банкомат искать.
— Сегодня в такси можно карточкой расплатиться, а это уже забыть пора.
— Не могу — так обидно за тебя, как вспомню.
— А ты не вспоминай! — весело зазвенел Катин голос.
— Погодка сегодня, конечно…
— Не сосредотачивайся.
— И то так, — неохотно согласился Николай Павлович. — Пока ты налегке — здесь тебя высажу, чтоб на парковку не заезжать.
— Спасибо, дорогой! Жду тебя после трёх, верно? — спросила Катя, пытаясь поймать его взгляд.
Николай Павлович посмотрел ей в глаза, молча кивнул и хлопнул ресницами.
— Будь осторожен! — открывая дверцу, попросила Катя, но не услышав ответа, обернулась.
Он снова молча кивнул, дважды хлопнув ресницами.
— Что за шифр у тебя? Не балуйся! — засмеялась она, проведя по кончику его носа.
— Ну-у! — возмутился Николай Павлович. — Зачем?
— А зачем в молчанку играть? Пока!
Николай Павлович вошёл в ординаторскую. Михаил внимательно смерил его взглядом, еле слышно сказал: «Здрасьте» и отвернулся. Игорь Васильевич поднялся и подал ему руку: «Приветствую!». Усатый доктор, не вставая с места, быстрым презрительным взглядом смерил Николая Павловича и, накладывая свои слова на приветствие Игоря Васильевича, вроде как поздоровался. Плечистый Вадим Георгиевич быстро стал на место Игоря Васильевича и подал руку Николаю Павловичу, глядя на него с язвительной усмешкой, тот с некоторым недоумением слабо пожал его ладонь.
— Что на выставке? — негромко спросил худой врач из угла.
— Особо интересного ничего.
— Совсем ничего? — чуть громче прозвучал вопрос из угла. — В программе написано, что Siemens новые разработки привозил.
— Какие? — учтиво переспросил Николай Павлович.
— УЗИ, МРТ, рентген-аппараты, протезы высокотехнологичные.
— То для травматологов выставлялось, нам оно, по сути, не нужно.
— Ну да, нам другое.
Худой врач перевёл взгляд на стену перед собой.
Вадим Георгиевич облизал губу в предвкушении «жареного» и, глядя на усатого доктора, вносившего правки в расписание, сказал: «У нас тут прецедентик был интересный…». Тот, не оборачиваясь, продолжал что-то наводить аккуратно отточенным карандашом.
— Михаил, у нас обход, — жестом побуждая его встать, строго сказал Игорь Васильевич.
— Я останусь, — несколько стесняясь собственной решительности, ответил тот.
Николай Павлович одним движением застегнул чехол своей куртки и повесил его в шкаф.
— Бывает, — закрывая дверцы шкафа, ответил он и зашагал к выходу, ощупывая под халатом нагрудный карман рубашки.
— Не видно, не видно! — глядя на закрывшуюся дверь, процедил Вадим Георгиевич. — Чего ты при нём язык в жопу затянул?
— А толку говорить? Что-то изменится? — усатый опустил карандаш в карман халата и обернулся к задавшему вопрос. — Мог бы и сам сказать — участвовал ведь в ситуации.
— Ты говоришь лучше, у тебя складней выходит…
— Вадик, хватит тут с деревенским азартом петушиные бои организовывать, — раздражённо оборвал его усатый и быстро вышел из кабинета.
— Михаил, нам всё-таки пора, я прав?
— Не всегда! — как дитё, сжавшее кулачки в порыве нахлынувшей смелости, ответил он.
— Ох, как мы хорохоримся! Идёмте, идёмте, труд облагораживает!
— Приветствую, Николай Павлович! — заулыбался заведующий, выходя из-за стола и протягивая ему руку.
— Приветствую, Алексеевич! — ответил он на рукопожатие и, развернув, выложил на стол узкие хрустящие купюры.
Заведующий быстро сгрёб их в выдвижной ящик стола и сел на своё место.
— За последнюю?
— Ну да.
— Было тут! Муж прибегал, кричал, что живодёры его жену резали, что трубу не сохранили… ой! — выдохнул заведующий, отвернув голову в сторону и почёсывая шею под воротником рубашки. — Да вы и так знаете, как нас «хвалят».
— Радовался бы, что живой получил, — махнул рукой в сторону Николай Павлович.
— Ну да, недоразумение, одним словом, недоразумение. Что там, на выставке?
— Посмотрел, принципиальных новинок не было — на нашем оборудовании ещё работать и работать. Матвеевича видел, под дурачка играет, зам у него новый, но по уму кабинет обставить не могут — каждый на себя тянет.
— Да бог с ним, с Матвеевичем, давайте наш кабинет обсудим. Что в отделении оставить, что туда купить?
— В отделении я бы ничего не менял — если всё новое закупить, сумма оглушительная получится.
— Николай Павлович, я так понимаю, мы вкладываемся на равных?
— Анатолий Алексеевич, я был согласен работать, а не открывать новое предприятие. Энтузиазма как-то уже нет, возраст не тот, что ли? Осесть, успокоиться хочется…
— Не ожидал, не ожидал от вас. Вы — прекрасный специалист, риски минимальны. Да, начальная сумма великовата, но…
— Найти деньги можно…
— Это я знаю, — начал раздражаться заведующий. — Деньги-то — можно, специалиста найти — проблема, тем более такого, чтобы ему во всём доверять.
— Не преувеличивайте! Молодой специалист есть, как научите, так и будет работать.
— Ай, Николай Павлович, с кем вы себя сравнили? — льстиво заулыбался заведующий. — Вчерашний студент сможет вас заменить? Никогда…
— Не сразу, я бы сказал…
— Николай Павлович, да разве можно так?
— Как?
— Да, так вот, невесть кого вместо себя предлагать. Что можете вы и что — он? Даже сравнить нельзя!
— Я не предлагаю взять именно этого. Что, ни у кого из наших детей нет?
— Не детский сад я открываю! Возиться ни с кем не буду. Хочу открыть и чтобы всё работало, как будто оно десятый год на мази, — с трудом сдерживая раздражение, ответил заведующий.
— Анатолий Алексеевич, возьмите кого-то из отделения, сотрудники с научной степенью, с практическим стажем…
— Да не нужны мне их рассусоливания, наблюдения, консультации. Мне результат нужен, понимаете, вот как от вашей работы: сделали и получили, сде…
— В палатах мест нет, где дополнительную кровать взять, чтоб в коридоре поставить? — заглянув в кабинет и оставшись стоять у порога, спросил молодой розовощёкий доктор.
— У нас что, операция прошла, откуда лежачая?
— Та нет, аборт…
— Аборт? — красочно до драматичности удивился заведующий. — Так пусть домой идёт.
— С наркозом я чуть не рассчитал, не может она сейчас…
— Что я вам говорил? — резко поднявшись из-за стола и всем телом развернувшись к Николаю Павловичу, громко спросил заведующий, тряся поднятой вверх рукой.
— Всё бывает.
— Вы что, философией какой-то увлеклись? Ничего внятного от вас не добьёшься.
Николай Павлович хмыкнул и повернулся к мнущемуся у двери врачу.
— Из оперблока можно одну взять. Ключи у Ксении Альбертовны.
— Её нет на месте, а у меня приём остановился, — прося сочувствия, сообщил тот.
— Я открою.
— Не об этом я вам говорил? — догоняя словами выходящего Николая Павловича, с досадой вопрошал заведующий. — Не об этом?..
-19-
«Сколько ж времени? — заинтересовалась Оля, пытаясь дотянуться до звенящего телефона. — Кто бы…».
— Алло, — хриплым спросонку голосом сказала она.
— Оля? Оля? — с удивлённым покашливанием спрашивал женский голос.
— Оля, — тихо, но однозначно ответила она.
— Десятый час! Ты ещё спишь?
— Ещё… — растерянно произнесла она и посмотрела на экран — прочесть, кто звонит.
Светился только номер. Она поднесла телефон к уху и снова сказала:
— Алло.
— Да, алло, алло! — начинали раздражаться в трубке. — Это Ирина Ивановна, алло.
— Здравствуйте, Ирина Ивановна.
— Доброе утро, Оля, не слишком ли поздно оно у тебя начинается? Боря уже на работе… так значит, он и собирается сам? Бережёт тебя, не беспокоит, а ты ему что?
— Доброе утро.
— Та доброе, доброе!
— Может, я вам чуть позже перезвоню?
— Не надо мне позже! Надо, чтоб ты Боре помогла, поухаживала за ним. На следующей неделе заседание кафедры — отметят защиту его диссертации, его повышение, и я не хочу, чтобы он был в застиранной рубашке без пуговицы, как в прошлый раз, — укоризненно выговаривала она, едва не срываясь в крик. — Я хочу, чтобы он кушал горячее с утра, а ты спишь, ты ещё спишь! Как он любит тебя, не тревожит, а ты? Что ты?
Оля смотрела на телефон перед собой.
— Алло! Алло! Ты меня слышишь? Я прошу, позаботься о нём! Приготовь новую рубашку, чистый костюм, ты слышишь?
— Слышу, — безучастно ответила Оля, не поднося телефон к уху.
— Алло?
— Я слышу, слышу…
— Она даже разговаривать со мной не хочет, видишь, видишь? — затихали слова Ирины Ивановны перед тем, как запищат гудки.
«С кем это? Что это вообще было? — Оля отключила вызов, чтобы увидеть время. — Девять тридцать, блин!»
Она укрылась одеялом, закрыла глаза, но поняла, что уже не уснёт. «Как бы начать это утро иначе?» — спросила она себя, потом медленно села на кровати и так же медленно поболтала ногами в воздухе. «Говорят, зарядку по утрам нужно делать, гормон счастья вырабатывается при этом», — вспомнила она и чуть интенсивнее покачала одной ногой, потом — другой, усмехнулась, но улыбка вышла узкой и кривоватой. «Наверно, выработаться ещё не успел», — констатировала она со вздохом и опустила ноги в тапочки. «Что это за тапки? Мышино-серые в какой-то дурацкий цветочек, неужели я купила их? А когда? Пятка затоптана, ткань истрепалась, может, теперь нормально их обувать? — она поправила задник, обулась и снова посмотрела на них. — Мрак!» Подошла к шторам, потянулась, чтобы раскрыть, но передумала и опустила руку. «Смысл? В комнате даже не посветлеет».
На уголке кухонного стола ютилась немытая Борина кружка, на блюдце раздулся чайный пакетик, вокруг острыми уголками торчали обёртки батончиков. Оля разровняла одну: папайя и ананас. «Энергии аж на час, — продолжила она, идя к мусорному ведру, чтобы удалить следы трапезы. — Сам поел, меня не побеспокоил, а я ему что? Я ему что? — открыв холодильник, она смотрела на полупустые полки, — опять… опять ничего. Ну, хотелось же что-то делать, я ведь пересиливала себя!» С шумом захлопнула она дверцу, подошла к плите и брякнула о неё чайником. «Пустой!» — с досадой подумала она и уставшим жестом потянула его к крану. Затрещал автоподжиг, стенки чайника покрылись испариной, у неё забурчало в животе. «Надо и себе хоть что-то съесть, — она снова подошла к холодильнику, — бульон, овощи на салат, квашеная капуста. Блин! Всё готовить надо! Надо… надо, надо!» Она опять хлопнула дверцей холодильника и побрела к столу, свист чайника вернул её к плите. «Чай… толку от него в пустом желудке? Ладно, найду что-нибудь», — надеялась Оля, перебирая на дне хлебницы сморщенные пакеты с завалившимися в углы крошками, из-под нижнего пакета на неё пахнуло прелью. «Фу-у-у!» — отвернулась она и сразу направилась к мусорке — выбросить скопившийся хлам. «Ну хоть кусок хлеба в доме должен быть?! — едва не со слезами выкрикнула она, вновь вспоминая вонь, дохнувшую на неё, укоризны, сыпавшиеся из телефона с самого утра, обёртки сладостей, топорщившиеся у чашки. — Но он же меня любит, не беспокоит, да?»
Прополоскав рот последним глотком чая, Оля встала из-за стола с твёрдым решением пойти за продуктами. «Надо хоть в окно посмотреть, узнать, что там!» — заглядывая за штору, бодрилась она.
Стараясь не думать о тяжёлых грозовых тучах, увиденных за окном, Оля быстро оделась.
В окно ударила ветка растущего перед подъездом дерева. «Ого, куда дотянулась! Но я успею проскочить до дождя, успею!» Рожок брякнулся на пол, шнурки, как заторможенные, путались между пальцев, ключ нервно дёргался в замке, лифт несколько раз плавно скользнул мимо неё.
«Чёрт!» — сквозь зубы ругнулась Оля и побежала по лестнице, на ходу застёгивая пальто.
Ветер, добросовестно собрав пыль с асфальта, пахнул ей в лицо, за спиной щёлкнул магнит домофона. «Ой-ой-ой!» — убирая с лица растрёпанные волосы, огорчённо произнесла она и тут же ощутила толчок справа. «Извините», — тихо произнесла высокая девушка, выпуская из одной руки велосипед, из другой — ребёнка.
Оля отошла в сторону и посмотрела на детскую площадку. Со скоростью спасающихся от пожара с неё бежали мамочки, держа наперевес детей и яркие ведёрки-пасочки-грабельки в стихийных охапках.
«Не-е-т!» — внутренне простонала она, поднимая взгляд на подъездный козырёк, зазвеневший под каплями дождя.
— Оля! — услышала она. Кто-то коснулся её локтя.
— А, Вит, привет, — вынужденно «узнала» она.
— Привет!
Едва улыбнувшись, Оля шагнула в сторону от входа.
— Ты хочешь идти? — останавливаясь напротив неё, спросила Вита.
— Да, нужно идти, скорее…
Оля растерянно опустила глаза. Рядом с Витой стоял малыш и внимательно смотрел на неё. Поймав её взгляд, он показал на площадку, испуганно произнёс: «У-у-у» и закрыл личико ручонками.
— У-у-у, — повторила за ним Вита, — а тётя идти хочет.
«Та не хочу я никуда идти», — пронеслось у неё в голове. Она ласково посмотрела на ребёнка и погладила его ладошки. Он быстро убрал их от лица.
— Может, ты к нам зайдёшь?
Малыш внимательно посмотрел на Олю и повторил: «…дёшь-дёшь-дёшь».
— Неужели он так понимает?
— Чувствует, в большей мере, — улыбнулась Вита и погладила малыша по спинке. Он обнял её ногу и снова поднял взгляд на Олю.
— Думаю, проблем не будет, ты же их соседка, — полувопросительно рассуждала Вита, открывая третий замок на тяжёлой входной двери.
— А какие могли быть проблемы?
— Квартира-то не моя, я только за ребёнком присматриваю.
— Ааа, — удивилась Оля.
— Так ты, выходит, с ними и не знакома.
— С кем?
— С теми, кто тут живёт, с Яшей, с Юлей.
— Та нет, не общалась особо.
— Проходи-проходи в комнату.
— Я уж лучше тут, с вами, — отказалась Оля, беря из её рук курточку малыша и вешая её на нижний крючочек вешалки.
— Обычно он сам! — подсказала Вита.
— Ам-ам, — залепетал малыш и закивал головой, глядя на курточку.
— Ну, сегодня всё уже, тётя тебе помогла.
— Асива-асива.
— Спасибо-спасибо, — перевела Вита.
— Вежливый какой! А зовут тебя как?
— Ася.
Оля подняла на Виту растерянный взгляд.
— Вася, — спокойно ответила та.
«Господи, в двадцать первом веке ребёнка Васей назвать, чем родители думают?»
— Зато он один такой! — ответила Вита на её мысли. — Царь Василий.
— Асиий-асиий, — подставляя тапочки, снова залепетал малыш.
— Очень скромный царь! — засмеялась Оля.
— Васенька, укладываться пойдём.
— …дём-дём.
Вита на цыпочках вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь, оставив лишь маленький просвет.
— Замечательный малыш — раздела, положила, глазки закрыл и спит, — восхитилась она, подойдя к столу.
— Может, ещё дождик поспособствовал?
— Ему, определённо, поспособствовал, а ты куда рвалась в такую непогоду? — спросила Вита, расставляя дымящиеся чашки с чаем.
— Надо было выйти продукты купить, муж с работы вернётся, кормить его надо.
Вита сочувственно посмотрела на Олю, та заметно смутилась.
— Мы Василия не разбудим разговорами?
— Нет, он хорошо спит, и мы не громко общаемся.
— Я в этом не понимаю — у меня детей нет.
— Знаю, если честно. Мамашки с детьми — те же старушки у подъездов, всех обсуждают.
— Так вот откуда они берутся, стареют и садятся на лавочки.
— Надо же, никогда именно так не думала, — улыбнулась Вита. — Хотя помню, побаивалась, что состарюсь и поглупею до столь жуткой очевидности. Какие страхи только не посещали в детстве.
— Ничего себе, детские страхи.
— Ну, не детские, конечно, то я слишком обобщила, просто возраст такой зелёный-презелёный, до осознанности, до понимания себя, как его ещё назвать?
— Однако, — слабо улыбнулась Оля, отмечая мыслительный диапазон собеседницы.
— У меня ни мужа, ни детей нет, — спокойно сообщила Вита, — хотя в детстве я была уверена, что обязательно будут.
— Может, будут ещё…
«Будут, не будут, зачем я?..» — досадуя на себя, Оля подняла взгляд.
— Может и так. Каждый сам решает, что у него будет, что нет. А вы давно в этом доме живёте?
— Года через два после свадьбы переехали, получается, лет семь или восемь. Сначала с Бориной мамой жили, она мужа год как потеряла, жалко её было. Потом квартиру нам здесь купила.
— Она замуж вышла?
— Кто?
— Борина мама.
— А-а! Нет, не вышла, но она работает ещё, в смысле, в универе работает, — спохватилась Оля, смущаясь собственной рассеянности.
— Если б над замужеством работала, тоже неплохо было, — засмеялась Вита. — К вам в гости точно реже бы наезжала.
— Она давно уже не ездит.
— Значит, советами не помогает.
— Она по телефону их передаёт, — усмехнулась Оля.
— С телефоном легче управиться, чем с гостьей на пороге.
— Это да!
— А где ты живёшь?
— На Чеботарской.
— Отсюда недалеко, в принципе.
— Да, трамвайчиком с Никитской подъезжаю, а там пешком недалеко.
— Купеческие особняки, — мечтательно произнесла Оля.
— Да… — улыбнулась Вита, — романтика снаружи, грусть внутри…
— С деревянными лестницами парадных, я всегда хотела в таком жить.
— Брось!
— Просто хотелось, понимаешь?
Что-то шевельнулось внутри, то ли надежда на понимание, то ли воспоминание об уюте приземистых домов с благородно старящейся штукатуркой?
Вита кивнула, подняла двумя руками чашку и отпила из неё.
— Мне выбирать не предлагали — с вещами перевезли.
— Что так грустно? Новый дом, свежий ремонт, большие комнаты и окна — хороший подарок.
— Да, — выдавила из себя Оля, — хороший. — Она подчёркнуто аккуратно поставила чашку на блюдце, выпрямилась на стуле, вытерла губы салфеткой, сложила её и красиво положила руку рядом — встреченное непонимание придавало ей уверенности, переводило в знакомую среду.
— Да, Вит, спасибо за встречу, за внимание.
— Что так?
— Дождь… дождь кончился, идти надо. Спасибо, — чуть мягче глядя на собеседницу, сказала Оля, заметив её искреннее огорчение завершением разговора.
— Может, созвонимся ещё, в гости приедешь, по купеческому особняку походишь?
— Может, — смущённо ответила Оля и полезла за телефоном в сумку.
«Та не, вроде, нормальная она, почему бы не пообщаться? Может, я вообще невозможного от людей хочу, может, они на понимание не способны в принципе, а я всё жду и жду. Буду брать, что жизнь предлагает, зовёт — пойду».
— Восемь, ноль, шестьдесят восемь…
— Пишу, пишу, — вынырнула из своих мыслей Оля, слабо улыбнулась собеседнице и записала номер.
«Вот и общаться сама захотела. Пусть хоть где-то отдохнёт, отвлечётся, обстановку сменит, только и видно её с магазинными клунками и печальным лицом».
— Сделай вызов — себе твой номер запишу. Есть! Отлично, на следующей неделе я в пятницу и субботу выходная.
— Лучше в пятницу, наверно.
— В пятницу, так в пятницу. Часов после двух нормально?
— Да, да, вполне.
— Договорились, жду, созвонимся, если что.
-20-
— Привет! Как ты точно сегодня, ровно в три! Я только убрала, — сделав несколько шагов по ковру гостиной, Катя быстро наклонилась подобрать едва заметную ниточку.
— Чисто, чисто уже!
— Совершенству нет предела!
— Правда, — согласился Николай Павлович
— Много работы было?
— Для первого дня нормально. Заведующий прицепился со своим кабинетом.
— Чего он так? Можно подумать, вы с ним закадычные друзья.
— Заработать охота.
— Почему именно с тобой?
Николай Павлович пропустил Катю в дверь кухни, а сам остановился на пороге.
— Проходи, садись, чего ты?
— Не знаю чего.
— Всё ты знаешь, просто сейчас говорить не хочешь, да?
— Нет, — парировал Николай Павлович, подходя к столу.
— Так рассказывай!
— Давно это было, я ещё молодым был…
Катя, смеясь, опустила на стол стопку тарелок, которую держала в руках.
— Старичок мой!
— Предположим, не такой уж и старичок, — мягко возразил Николай Павлович, усаживаясь. — Но это было давно, несколько лет как я начал работать в отделении. У заведующего с одним из врачей было что-то вроде совместного предприятия, наверное, по старой памяти воскресить хочет.
— Совместного предприятия? В советские времена?
— Нет, не отдельное предприятие, конечно. «Мутили» они в отделении.
Катя, удивлённая современной лексикой мужа, несколько секунд внимательно смотрела на него.
— Как это ещё назвать? — ответил он на её взгляд.
— Что они предпринимали? — разливая по тарелкам суп, спросила она.
— Точно не знаю, всё только со слов. Рассказывали, что заграничные препараты, обезболивающие, которых тут не достать было, в отделении продавали.
— Смело, однако, а где они их брали?
— Жена того врача была как-то связана с дипломатами, доставала.
— С полезными связями коллега. А чем закончилось предприятие? Посадили?
— Хуже.
— Что ж такого-то? — переспросила Катя, усаживаясь за стол и жестом приглашая начать кушать.
Николай Павлович наклонился над благоухающей тарелкой, плавно помешивая её содержимое и вдыхая аромат.
— Его сына-подростка машина сбила, спасли, ампутировали обе ноги, одну ниже колена, другую — выше.
— Ой-ой-ой!
— Это только начало, — предупредил Николай Павлович, взглядом спрашивая, стоит ли продолжать.
Катя слабо, но утвердительно кивнула.
— Мать ребёнка умом повредилась, он перестал работать, всё бросил на то, чтобы их лечить.
— Было что бросать?
— Очевидно, было, — глядя в Катины глаза, кивнул Николай Павлович. Она со вздохом кивнула в ответ.
— А с ребёнком, что дальше?
— С ним жестокая история вышла. У этого коллеги, даже приблизительно не помню, как его зовут, всё семейство было в медицине. Так получилось, что заказ протезов зависел от кого-то из его родственников, с которым они враждовали, и тот отодвинул очередь на несколько лет.
— Какая вражда может быть при таких обстоятельствах? — обернулась Катя, подходя к холодильнику.
— При таких обстоятельствах — самый смак, — с горечью констатировал Николай Павлович.
— А у тебя откуда такая осведомлённость во вкусах семейной вражды?
— У самого такие … случились.
— О них я, разумеется, ничего не знаю. Ладно, а потом что?
— Правдами-неправдами добыли протезы, мать более-менее вернулась в чувство.
— А он?
— А он не выдержал, после того как жену домой выписали, а сын начал ходить… хлебнул чего-то…
Катя быстро подошла к Николаю Павловичу, остановилась за спиной и резко потрясла его за плечо, как будто требуя, чтоб он забрал обратно последнюю фразу.
— Ну, если невыносимо стало, что было делать?
— Коль, я в последнее время так волнуюсь о тебе. Сама не знаю почему, но тревожно иногда становится.
— Катюш, о чём ты волнуешься, давай проанализируем, — предложил он, обнимая её за талию.
— Коль, эти твои «впадания» в задумчивость уже который год, паническая атака на дороге, теперь вот, ты работать отказываешься. В чём дело? Ты ещё достаточно молодой, вполне можешь начать что-то новое.
— Я, действительно, молод и не ко всему утратил интерес, — скользя ладонью по её бёдрам, выразительно проговорил Николай Павлович.
— Коль, я серьёзно!
— И я не шучу. Тебе не о чем волноваться. Не о чем! Где салат?
— Вот! — отойдя от него на шаг, Катя поставила перед ним тарелку.
— Красиво-о-о-о.
— Коль, я хочу поговорить.
— Про родственников?
— Хоть про родственников!
— Мы кушать не будем?
— Кушай, Коля, кушай и рассказывай, или ты так не можешь?
— Могу! Салат такой вкусный, из чего?
— Ко-ля!
— Всё. Всё хорошо! Было хорошо, пока родители не погибли, я вообще не знал, что у нас родственники есть.
— Потом сразу нашлись?
— А как же?
— Много?
— Нет, у мамы сестра была, как жена врага народа в сталинском лагере отсидела, потом сменила фамилию и жила в глуши, чтобы о ней забыли.
— Забыли?
— В принципе, да. Она сама не хотела никого вспоминать, отказалась, когда ей предложили меня усыновить.
— А у неё семья, дети были?
— Никого.
— Ты виделся с ней?
— Нет. Но на тётю Глашу, папину сестру, я насмотрелся — после похорон по квартире бегала и всё спрашивала: «За что ему такую дали? За что?» Худющая как палка, ноги в первой балетной позиции и когда стоит, и когда ходит, ручки драматично сложены в мольбе.
— Одинокая балерина?
— Семейная, и не балерина.
— А походка откуда?
— Училась балету, о сцене мечтала, в итоге, только в народном коллективе смогла танцевать. Потом тётя Лида мне так рассказывала.
— Тётя Лида, тоже сестра отца?
— Нет, она — жена младшего брата папиного отца.
— У неё ты жил, когда мы познакомились?
— Да, у неё — она со своим дедом оформили опеку.
— Дедом, в смысле мужем?
— Да.
— Такое, весьма приблизительное родство.
— Тётя Глаша подсуетилась, чтобы им разрешили документы оформить, а сама квартиру отжала. Своей дочке, которая ногу сломала, купили инвалидность, выписались из новой квартиры на Салтовке, фиктивно прописались в коммуналке и, по решению суда, трёшка в центре им требовалась больше, чем мне.
— Советский суд — самый гуманный в мире.
— И самый честный.
— Так ты с Пушкинской переехал на Броневую?
— Да, помню, шок у меня был не проходящий.
— От деда того ненормального?
— И от деда, и от состояния дома: дырка в полу, типа погреб, краска на стенах, скрученная в трубочки, как крылья мёртвых бабочек. Дедок казался мне злобно-жестоким, бесчувственным и тупым существом, совсем не понятно было, как тётя Лида жила с ним.
— Почему казался? Теперь считаешь, что он таким не был?
— Был, но как сказать? Я тогда не понимал всего.
— Чего всего?
— Папин отец был старшим в семье, лет в четырнадцать-пятнадцать из хутора в Полтавской губернии ушёл пешком в Харьков, устроился подмастерьем на тракторный завод, женился удачно — та семья уже городской считалась, родители дочке высшее образование дали, только замужество долго не удавалось. Когда на горизонте появился деревенский работящий парень без жилья, её родители быстренько их поженили, через год родился мой отец.
— А дед этот?
— Ну, а дед в деревне на тракторе работал, женился, но его ребёнок погиб из-за несчастного случая, вроде как по неосторожности жены, которую он сразу бросил. Потом пьянки и стихийные женитьбы в течение лет тридцати, пока тётя Лида его не подобрала из жалости.
— И какая связь?
— Помню, на подпитии он всё горевал, как его одного обидели родители, и что всем остальным просто повезло уехать, жениться, детей родить, а он такой вот несчастный, потому всё у него так…
— Но ведь надо было самому что-то делать. Взрослый мужчина способен сам решать, брать на себя ответственность…
— В теории да, но в жизни не всё так красиво и своевременно получается — необходимость выбора и решений застают человека не готовым к ним. Плюс копится то, что болит, и проще бухнуть, чтоб отлегло, чем пойти на курсы повышения квалификации.
— Не понимаю, ты оправдываешь сознательную деградацию взрослого человека?
— Не оправдываю, просто какой смысл осуждать или оправдывать, нужно понять, что привело к этому?
— Кому нужно, тебе или ему?
— Ему нужно было, но, после долгого отсутствия адекватных решений нет хода назад, человек в эмоциях качается между болью и «обезболивающим», вне разума, вне рациональности. Это как сознательное затачивание своих эмоций на ощущение боли, он чувствует, что весь мир жесток к нему, не узнавая собственную к себе жестокость.
— Даже не знаю, что спросить… Ты сейчас так всё понял или тогда?
— Сейчас, конечно, ты смеёшься?
— Не смеюсь, просто не ожидала от тебя таких размышлений о давно не актуальном. Зачем тебе было об этом думать?
— Чтобы болеть перестало.
— А что у тебя болело по его поводу?
— Мне нелегко было жить в их доме — вечные придирки: пришёл из института, лёг отдохнуть — уже бестолковый слабак, зачем вообще учишься — мамки с папкой нет — никто по блату на хорошую работу не устроит. Он с таким смаком всё это проговаривал, что я, действительно, чувствовал себя ничтожеством — мне было больно годами. В его глазах я был никем и сам начинал себя так ощущать, деформироваться от боли, как на картинах Пикассо человеческие фигуры дробятся на треугольники, квадраты, полосы, края которых препарируют так, что человек начинает состоять из них, становится ими.
— Жуткий анатомический кубизм, никогда не понимала, что тебе в нём нравится…
— Неважно. А потом случалось ощутить себя слабым, смотреть, как рассаживались по креслам дети главврачей и заведующих. Работать на скорой, ходить с осени до весны в курточке с пятном от блевотины «высокопоставленного» пациента. Казалось, что его слова сбылись, и если бы он их не говорил, всё было бы иначе — во мне росла ненависть к нему, хотя я не видел его уже много лет.
— А потом ты понял, что он был завистливым, ничтожным человеком и твоя боль утихла?
— Не всё так примитивно, конечно, но когда живёшь, преодолеваешь обстоятельства, становишься тем, кем он не стал, жалеешь его — ты смог, а он нет…
— Ты очень добрый и не смог бы ненавидеть человека годами.
— Не так однозначно, Кать.
— Коль, я хорошо тебя знаю, не спорь.
-21-
— Так вкусно пахнет! — искренне восхитилась Оля.
— Можно подумать, ты так не умеешь, — засмеялась Вита. — Привет!
— Привет-привет.
— Здорово, что выбралась, рада тебя видеть.
«Какие простые слова и эмоции, я бы так никогда не смогла», — мысленно вздохнула Оля и шагнула в приготовленные для неё тапочки.
— А что это?
— Что?
— Пахнет.
— А-а, рыбный пирог. Простенький такой, но полюбился мне. Стоп! А ты рыбные пироги ешь? — заволновалась Вита.
— Ем, конечно.
— Хорошо, а то я не спросила, досадно вышло бы, если б тебе не понравился. Проходи в комнату, располагайся на диване, на кресле, как тебе нравится. Я пирог из духовки достану и поставлю остывать.
— Спасибо, я книги пока посмотрю.
— Смотри, конечно.
«Сколько книг! Там серия, здесь серия! Поэзия, история, психология, конечно, — улыбнулась Оля, идя вдоль полок. — И стоят так плотно, прям, ни зазорчика». «Бегство от свободы», — с удивлением прочитала она одно из названий, — кто ж от неё бежать-то будет, зачем?»
— Ещё мама их покупать начала, — услышала она за спиной голос.
— Классно!
— В таком количестве — обыденно и даже хлопотно.
— Зато увлечение книгами, любовь к чтению тебе от мамы достались.
— Да, это здорово. Бери, если какая интересует.
— Я просто посмотрела, время скоротала.
— Перед твоим приходом знакомая позвонила, заскочить ненадолго хочет. Извини, что так получилось, но с ней надо пообщаться.
— Никаких проблем, пообщаетесь.
— Вместе посидим, наверное, так даже лучше будет. Можем идти на кухню, поставим, приготовим всё, она и появится, — улыбнулась Вита.
— Пойдём, конечно.
— Вау! Классный пирог, от формы, прям, отскочил, чей рецепт?
— Ничей, просто с сайта.
— Было время, я свои рецепты на сайты выкладывала, — вздохнула Оля, заботливо перекладывая пирог на тарелку.
— Вот это да!
— Брось — ничего особенного. Возилась на кухне много, пробовала новые продукты, искала оригинальные сочетания, самыми удачными делилась.
— Это талант, как музыку писать или стихи.
— Красивое преувеличение, — засмеялась Оля. — Всего-навсего мужа кормить нужно было, удивлять.
— Удавалось?
— Как сказать? Он всегда с аппетитом кушал, удивлялся, наверное, что теперь не мама готовит.
— Значит, тебе самой это нужно было.
— Сама бы я и попроще питалась.
— Суть не в еде, а — в освоении новой роли жены, хозяйки, всё такое.
— Ну, это взгляд «с высоты птичьего полёта», я проще на жизнь смотрю.
— А мне проще неинтересно, скучно сразу становится, хочется выдумать что-нибудь.
— Это тоже, наверное, талант — занимать воображение, наблюдать.
— Наверно, — незаинтересованно ответила Вита.
Зазвенел мобильный.
— Да-да, сейчас открою, спущусь и открою, пару минут, Карин! — ответила Вита. — Оль, подождёшь?
— Подожду, конечно, без вас кушать не начну.
— Знала, что на тебя можно положиться!
Щёлкнул замок, деревянные ступени глухо заворчали вслед бегущим ногам, скрипнули железные ворота.
«И всё-таки как-то неприятно, лезть, хоть и мысленно, в чужую душу, рассматривать, кто чего хотел, что подразумевал. Да просто живёт человек, проявляет себя, что в его поступках выискивать? Не понимаю».
— Оля — моя однокурсница. Карина — моя соседка.
Заметно преодолевая смущение, Оля подошла, улыбнулась и протянула руку новой знакомой, та не поднимая взгляда, молча стиснула и отпустила ладонь.
— Присаживайтесь, угощение на столе.
Карина села у окна и пустым взглядом уставилась в белоснежное дно фарфоровой чашки. «Взгляд такой странный — ни заинтересованности, ни чувств каких-нибудь», — отметила про себя Оля.
— Что ты будешь? — спросила Вита.
Оля подняла взгляд, Карина продолжала смотреть в чашку.
— Ладно. Оль, а ты?
— Мне что и всем.
— Чёрный чай пойдёт?
— Да, вполне. Может, я мешаю? — тихо спросила Оля, взглядом указывая на Карину.
Вита отрицательно покачала головой.
— Всё нормально. Разрезай пирог, раз уж ты сильна в кулинарии.
— Чтоб нарезать, прям, очень сильным надо быть в этой теме.
— И всё же лучше доверять специалисту, — улыбнулась Вита, подавая нож.
Оля ловко разрезала пирог на восемь одинаковых частей.
— Я ж сказала, профи! Передай блюдечко, Карине положим.
— Не буду, — суетливо забегав по столу взглядом, ответила та.
— Ну, не надо, пусть просто рядом постоит.
Карина снова опустила потерянный взгляд на дно чашки, и через пару минут, ни на кого не глядя, спросила:
— Я шоколадку принесла, хотите?
— Хотим, — мгновенно отреагировала Вита, — но ты с нами.
Карина смущённо заулыбалась и потопала в коридор к сумке.
Вита отпила чаю, потому не успела ответить на Олин вопрос: «Что с ней?»
Блестящая обёртка шоколадки обозначилась на фоне матовой посуды и естественного цвета выпечки, Карина села на своё место и продолжила блуждать взглядом по столу.
— Давай чашку, чайку налью, — предложила Вита.
— На, — машинально протянула она.
— Понюхай, как пахнет.
Карина поднесла лицо к краю чашки:
— Славно, — явно не желая общаться, выдавила она.
— Рада, что тебе понравилось.
— Вкусный шоколад, ты такой уже ела?
Карина покачала головой и обиженно отвернулась.
«Странно, чем мог обидеть такой вопрос?» — удивилась Оля.
Карина отпила из чашки, водя по столу как будто намагниченным к нему взглядом, взяла со стола ложечку и, держа её между большим и указательным пальцем, сделала ещё глоток; сжатые пальцы начали краснеть.
— Поимели, — раздосадованно произнесла она и подняла на Виту грустно-блуждающий взгляд.
Вита сочувственно вздохнула. Из Карининых глаз полились слёзы, беззвучно, медленно. Оля с жалостью посмотрела на неё. «Какая она маленькая, щёчки пухленькие, глазки пуговичками, круглый носик, совсем как дитя».
— А я верила, понимаешь, верила во всё это, — почти выкрикнула она.
Вита снова вздохнула.
— И в их отношение ко мне верила. Уверена была, что просто чудо случилось, вот оно — то, чего у меня никогда не было! Бог подарил, как же!
Вита сочувственно кивнула.
— Нет, ну неужели это можно было предвидеть? Заранее понять? — упавшим тоном шептала она. — Скажи, скажи.
— И нельзя, и можно, — смягчая сознание упущенной возможности, ответила Вита.
— Но мне нельзя было! — вдруг выкрикнула Карина. — Мне нельзя было! Потому что я, как зомби была, подайте, подайте мне! Кто? За что? Ради чего? Почему я не подумала?
— Потому что не могла, — спокойно сказала Вита.
— А ты знала, ты понимала? Понимала, да?
— Частично, — смущённо-извиняющимся тоном произнесла Вита.
Карина впилась в неё негодующим взглядом.
— Почему ты не…? Хотя, толку? Ты права, толку тогда было говорить? — сама спросила, сама ответила Карина и снова опустила перед собой полный отчаяния взгляд.
— Я тебе сейчас могу сказать, что это самый счастливый момент в твоей истории.
— Счастливый, как же? — вытирая слёзы, чтоб не капали в чашку, ответила Карина. — Хотя, внутри, мне как будто легче стало, что-то развязалось там.
— Иллюзия разрушилась, ты ощутила свободу, её никто не мог тебе принести, только ты сама…
— …выстрадать! Такой ценой!
— Свобода — дорогое приобретение.
Карина попыталась улыбнуться сквозь текущие слёзы.
— Правильно-правильно! Сейчас не плакать, сейчас радоваться надо! Вытирай слёзы и кушай хорошо. Аппетит у тебя больше не пропадает?
— Нет, — комкая мокрую от слёз салфетку, ответила Карина.
— Вот и славно, кушай побольше. Хочешь, я тебе суп разогрею?
— Тот наш?
— Да, наш!
— Давай, — вытирая со щёк медленно сочащиеся слёзы, согласилась Карина.
— Оль, а тебе супика?
— Мне не надо, спасибо!
— Суп и вправду наш, мы его изобрели из продуктов в холодильнике. Мы уже ели, не бойтесь! — вглядываясь в Олино лицо, предложила Карина.
— Да я не боюсь…
Оля ощутила лёгкий толчок в плечо и подняла взгляд на стоявшую рядом Виту, которая почти незаметно кивнула головой.
— Ну, если все, то и я, — смущённо согласилась она.
— Да мы случайно, совсем ничего не предполагали, а оно так здорово получилось, — голосом, полным искреннего задора и удивления, комментировала Карина.
— Значит, вы талантливые, раз экспромтом получили блестящий результат.
— Послушай Олю — она кулинар со стажем, — посоветовала Вита.
— Ой, Вит, какие красивые преувеличения у тебя выходят, — смущённо засмеялась Оля.
— Она тоже не умеет комплименты принимать, да? — со смесью прямолинейности и рассеянности в голосе спросила Карина.
— И она научится, — ставя перед ней тарелку, ответила Вита.
Карина наклонилась и выразительно вдохнула: «Вот кайф! Даже не верится, что это мы с тобой такое невзначай исполнили!»
— Кушай, кайф, — засмеялась Вита и одну за другой поставила остальные тарелки.
— Сразу и не поймёшь, что вы там смешали, — присоединяясь к восторженной атмосфере, сказала Оля.
— Да мы…, — оборвала фразу Карина, обернувшись на звонящий мобильный. — Извините, — соскользнула она со стула и побежала в коридор.
— Вкусно? — спросила Вита.
— Даже на ингредиенты «раскладывать» не хочется! Обалденно! — от души похвалила Оля.
— Мама звонила, — бережно держа в руке трубку и расплываясь в улыбке, сообщила Карина.
— Замечательно, — улыбнулась Вита в ответ.
— Она с адвокатом встретиться договорилась, мы вместе пойдём. Я официально развестись хочу, она меня поддержала.
— Видишь, как получилось? — с тихой радостью в голосе спросила Вита.
— Вижу, хоть и поздно…
— Привет маме передавай.
— Обязательно! — согласилась Карина, собираясь выйти из-за стола.
— Уже побежишь?
— Да!
Закрыв дверь за выпорхнувшей Кариной, Вита вернулась в кухню.
— Такая искренняя девочка с живыми эмоциями, — восхитилась Оля.
— Кого-то напоминает?
— Наоборот, никого — нечасто можно подобное видеть.
— Да, — согласилась Вита, — редко кому удаётся не обменять чувствительность на прагматизм и простоту — на циничность.
— Наверно, — согласилась Оля, опять смущаясь взглядом собеседницы «с высоты птичьего полёта». — А что у неё случилось?
— Ой, много чего. Такие происшествия, как у неё, не каждый выдержит.
— Ты давно с ней знакома?
— Даже коляску с ней новорожденной помню, — улыбнулась Вита. — С её родителями мама дружила недолго, они к нам домой приходили.
— Почему недолго?
— Так вышло, — задумалась Вита, подбирая слова. — Её мама в молодости — сплошная тонкая линия лирического восприятия. Могла позволить чувствам внутри себя не просто быть, а вырастать больше себя, позволять им владеть собой без остатка. Помню, старушки местные всё кудахтали: «Ох, и вляпается сердешная, ох, попадёть».
«С чего такие выводы о людях можно делать?» — недоумевала Оля, с нарастающим недоверием к звучащим словам.
— Влюбилась она красиво, парень-романтик, сколько цветов, песен, нас малых, помню, конфетами с фабрики задаривали, бабкам во дворе цветы на день Победы дарили — им хотелось, чтобы вокруг всё было красиво, все были счастливы, все улыбались. Радостью для других они свою любовь праздновали. Ни разу больше не видела, чтобы от чувства двух людей преображалось пространство. На них смотрели по-другому, им искренне улыбались при встрече, их хотелось взять за руку, обнять, говорить о чём-то своём «своейном».
Поженились они, Карина родилась, а потом вдруг он пропал — виток невероятно смелых догадок кружился по двору: от того, что он был вором в законе, до того, что был женат в другом городе и к жене вернулся.
— Но если твоя мама с ними общалась, могла же потом у неё спросить?
— Не получилось — она пить начала.
— А с ребёнком что сделала?
— Кто-то из родни забирал, Карина сюда вернулась уже первоклассницей. Мама лечилась, срывалась, снова лечилась. Был период, даже на работу устроиться успела, потом опять...
Выросла девочка искренней, наивной, но притом не понятой, не обласканной, как это быть любимой, не узнавшей. А устремления, как у мамы по молодости — только к светлому чувству. Подобрали её сектанты какие-то: «Аллилуйя! Аллилуйя! Бог есть любовь! Не расстраивайся — всё по воле божьей, даже — такая мама. Теперь у тебя новая жизнь — всё аллилуйя». Выдали замуж за бывшего наркомана, мол, его господь изменил и он теперь хороший. Ну, а дальше уже без чудес… бил, изменял, кололся… но те всё мозги пудрили — господь над ним работает, терпи — всё воля божья…
— А мама как на всё это?
Мама в себя пришла как раз в период её «залипания» в секту, говорила, предупреждала, но кто ж её, плохую, слушать будет, выступающую против таких хороших людей?
— Она без её согласия замуж вышла?
— Зачем ей было её согласие, если она всю жизнь одна прожила и вдруг такая фантастическая перспектива открылась? Ринулась без оглядки.
— А сейчас её мама что?
— Восстановилась. Не то чтобы прошлое совсем не оставило на ней следа, но, по сути, она такая же, как была — стройная, тихая, с глубоким взглядом.
— Карина к ней вернулась?
— Да, налаживают отношения, обе преобразились.
— От чего?
— Гармония с человеком, от которого родилась, унаследовала взгляды на мир, отношение к себе и людям, характер в какой-то мере, освобождает от боли, внешне это заметно.
— И что для этого надо?
— Да ничего особого, — слабо улыбнулась Вита, — просто вырасти внутри себя, избавиться от иллюзий о возможности «чудес», о том, что люди постарше не используют нас в своих целях, выдавая это за деятельность в нашу пользу и решение наших проблем.
— Не у всех же матери — алкоголички, а кругом — только ушлые взрослые.
— Безусловно. Но если внимательно посмотреть, легко заметить, что по молодости подобное со многими происходит. Жить, в людях разбираться всех учат — кого секта, кого новая родня, кого работы-бизнесы и «суперуспешные» проекты, на каждого находится инструмент.
Есть, правда, и другие, которые нутром жизни не коснулись, глубоких потрясений не испытали — выросли в благополучно «упакованных» семьях, где у них всегда всё было, не прочувствовали возникновения желаний, стремлений каких-нибудь, не приложили усилий для их реализации, не ощутили радости или огорчения от достигнутых результатов. Они только получали — от родителей жизнь и обеспечение, потом «из упаковки в упаковку» передавались в замужества-женитьбы с такими же устойчивыми персонажами из аналогичных семей. Потом детей родили, потому что «так надо» и «так у всех». И продолжили жить, не надрываясь: мамы заботятся, а папы обеспечивают теперь не только их, но и их детей.
— Что в этом плохого?
— Ничего. Вот только жизнь тех, кто их обеспечивает, им не принадлежит, и если что-то фатально меняется, с болевой изнанкой жизни они впервые соприкоснутся в сорок, пятьдесят, шестьдесят лет.
— Ой, как-то мрачно это всё. Неужели, прям, невозможно из плохой в хорошую жизненную ситуацию попасть?
— Само слово «попасть» весьма красноречиво, — улыбнулась Вита. — Хорошую жизненную ситуацию можно только самому построить.
— Как самому? Это же связано с другими людьми?
— Конечно, в том и радость, в том и подвох.
— Какой подвох?
— Люди не интересны друг другу как личности, повсеместно — как функции. Кого до такой степени может волновать, что мы чувствуем, чем озадачены, чего хотим, чтобы вдруг ни с того ни с сего кинуться решать наши проблемы, оберегать наши чувства, вот просто так, ни в обмен ни на что?
— Так не бывает?
— Вот, ты слышала, как рассказывали, что именно так и есть, а девочку использовали совсем для другого.
— Жаль девочку, — упавшим тоном прошептала Оля.
— Теперь о ней только радоваться можно — перестанет сетовать на то, что не получила от «плохой» мамы, научится сочувствию, пониманию, осознает, что её чувства и поступки зависят от неё самой, и как ответственная, трезвомыслящая девочка выстроит для себя счастливую жизненную ситуацию.
— Ты так говоришь, как будто иначе и быть не может.
— Меня можно вообще не слушать, — махнула Вита рукой, — давай лучше чай, пирог, суп повторим!
— Ой, нет, я уже наелась, спасибо. Или ты о готовить?
— Нет-нет, я исключительно о есть.
— Я сыта, правда, — «приглаженным» тоном, скрывая поднявшееся в ней недоумение, ответила Оля. — Может, выйдем-пройдёмся, ты мне о местных достопримечательностях расскажешь?
— Достопримечательности наши глаз не радуют, только сознание заполняют.
— Вот и прекрасно! О семьях купцов расскажешь, об укладах, традициях. Тогда, наверное, меньше думали, жили, как принято, да и только.
Вита сочувственно окинула взглядом Олину фигуру, отлаженными жестами собирающую посуду со стола.
-22-
— С днём рождения! С днём рождения! — громко начал поздравлять Боря уже на пороге тамбура.
— Спасибо-спасибо! Не кричи так, тем более что день рождения не у меня, — чмокнув его в щеку, ответила Света.
— Ну вот, прям, не кричи. Почему не кричи? У меня праздник, да и у тебя, вроде как.
— Проходи уже, — закрывая за ним дверь, поторопила Света, — собираться пора.
— Сразу собираться? — шутливым тоном переспросил Боря, пытаясь её поцеловать.
— Именинница не я.
— Но тебя тоже с праздником, — отпустив к потолку надувные шары и поставив на пол красиво упакованный торт, Боря обнял ладонями Светины щеки, большими пальцами очертил контур губ и наклонился поцеловать их.
— Зачем ты торт купил? Ещё и такой дорогой.
— Праздник, Свет, — обиженно бросил Боря, переходя из коридора в комнату.
— Кто-кто-кто-кто здесь? — подбежал он к сидящему в кроватке малышу, который обернулся и радостно захлопал ладошками по матрасику.
— Моя прелесть, моя радость, с днём рождения! Вот тебе шарик, — продолжал ворковать счастливый отец, заботливо вкладывая ленточку в крошечную ладошку.
Ребёнок перевёл взгляд на шарик, неуверенно качнулся и, с недоумением на личике, повалился на спину.
— Бух-бух, ой-ой-ой! — Боря пощекотал животик именинника и поднял его на руки.
— Давай папа подержит, а ты будешь отсюда смотреть.
Крошечными ладошками дитё, хлопая по ленточке, подбиралось к яркому шару.
— Далеко шарик, далеко, — замедляясь на последнем слове, проговорил Борис и, отстраняя от себя малыша, посмотрел на след ручейка, бегущего по брючине.
— Све-е-ет, почему он без памперса? Можно было хотя бы предупредить.
Света спокойно вышла из-за его спины.
— Какая разница? Всё равно переодеваться.
— Во что?
— В костюм! Это мой тебе подарок, праздник ведь, — весёлым тоном сообщила Света, распахнула дверцу шкафа и достала чехол солидно-бордового цвета.
— Вау! — ахнул Борис и, не глядя на малыша, снова прижал его к себе. — Красивый, наверное.
— Самый лучший!
Света аккуратно расправила чехол на стоящем вдоль стены диване и расстегнула змейку. Боря усадил ребёнка обратно в кроватку, обернулся — Светлана с торжественным вызовом демонстрировала костюм глубокого шоколадного цвета и ярко-жёлтую рубашку. Он выразительно сглотнул и подошёл к дарительнице благодарно приложиться к щеке.
— Ты не рад! — укоризненно констатировала она.
— Рад, почему бы я был не рад, — как можно более живым тоном спешил заверить её в обратном Борис.
— Смотри, это такой модный цвет, и к глазам твоим подходит.
«Причём тут мои глаза? Куда в нём ходить, кроме детских утренников?» — мелькали у него в голове неприемлемые для озвучивания вопросы.
— Смотри, вот смотри, — набрасывая пиджак на его плечи и убеждаясь в достаточной длине рукава, повторяла Света.
— Не волнуйся, мне нравится, — довольным тоном сообщил Борис, почувствовав намёк на заботу с её стороны.
— И ты всё наденешь без сопротивления? — оживлённо спрашивала она, то поднося рубашку к его лицу, то опуская её на борты пиджака.
— Надену, конечно. Спасибо! И с размером, я так понимаю, ты угадала.
— Мне известен твой размер, — зашептала Света ему на ухо, откладывая рубашку и пиджак в сторону.
— Умница моя! — так же шёпотом ответил Борис, впиваясь в её узкие неподатливые губы.
— Вид отсюда замечательный! Глянь, угол крыши как будто рождается из туч!
— Ага, — не поворачивая головы в сторону «Палас отеля», ответила Ирина Ивановна.
— После дождя мост деревом пахнет, давай постоим немного.
— Ну, давай постоим. А потом куда?
— На Данилевского такие дворики уютные, можно в них побродить.
— Настроение у тебя, я смотрю, мечтательное, несмотря на проблемы.
— Что их коллекционировать?
— У тебя там улучшения наметились, я как-то не пойму?
— Какие, Ира, улучшения, с чего? Как привёл её в дом — всё! Сына я узнавать перестала, он только вокруг неё кружит, любые капризы, любые пожелания рвётся исполнить. Раз услышала, как он объяснял ей за сколько месяцев на процедуры соберёт, голосок дрожит, тон заискивающий, да разве можно унижаться перед нею так?
— В смысле процедуры, медицинские?
— Какое там? Физиономию всё приукрасить пытается.
Резкий ветер сорвал несколько листьев и повлёк их по брусчатке без шанса вырваться из ледяного вихря.
— Что ж за процедуры такие, что у вас денег не хватает?
— Деньги у него теперь только свои. Нужно мне, чтобы он мои на неё тратил?
— А-а-а, ты суровая мать. Я своим поначалу всё отдавала, жили вместе, как иначе?
— Ну, так твоя и относилась к тебе по-другому, насколько я помню.
— Да-а, мамой меня называла, в Борьке души не чаяла, искренняя такая, преданная.
— У неё своей матери нет?
— Почему нет? Была и есть, только она не довольна, обижена на неё. Разве могут они что-то понять, пока своих растить не начнут?
— Что ж за мать такая?
— Ничего катастрофического, в общем. Тянула её одна на мизерную зарплату, ни купить чего-то лишнего, ни подарить не могла. Для ребёнка это, конечно, трагедия. Помню в доказательство «нелюбви» она часто рассказывала, как лет в семь на новый год получила зубную щётку и плакала, когда увидела подарки других детей. Потом взрослела без особого внимания, как девочке ей ничего не подсказывалось. Всё вспоминала, как в одном свитере год в школу ходила и весь выходной дома сидела — когда он высохнет после стирки, ждала.
— Жуть какая, господи! И как она могла к вам хорошо относиться? С чего?
Обе собеседницы отвернулись от потока ветра и острых капель замерзающего на лету дождя.
— Не растраченное ни на кого чувство.
— На чувство ещё способным быть надо, после такого тем более.
— Была способна. Помню, скажешь ей: Оленька, Олечка — она расцветала вся, как будто слов таких к себе никогда не слышала. Всё бежала мне шубу подать, сапоги из шкафа достать, когда я уезжала.
— Сколько ж ей лет было?
— Двадцать, когда я их познакомила.
— Не маленькая уже…
— Такие навсегда маленькие — закрытые в своей обиде не вырастают.
— Потому столь незамысловатое на них и срабатывает.
Ирина Ивановна вместо ответа опустила взгляд на своё пальто и небрежно смахнула с воротника пару хрупких снежинок.
— Пойдём, Лара, где ты пройтись хотела?
— Какой ребёнок у нас замечательный, полчаса молча смотрел на шарик, — усаживаясь на край дивана и шаря рукой по полу в поисках штанов, восхитился Боря.
— Ты сомневаешься в незаурядности своего ребёнка? В нём же ты, Боренька.
— Подрастёт, посмотрим.
— Надеюсь, ты освободишь время, чтобы больше на него смотреть.
— Освобожу, конечно.
— Я вообще не понимаю, что тебя держит рядом с этой разрушенной личностью? Она, мне кажется, целостной никогда не была.
— Была. Она нормально ко мне относилась, всё по дому выполняла, кормила. Просто потом всё это навалилось…
— Ты ей сочувствуешь, прямо.
— В какой-то мере.
— Как ты не понимаешь, что её общество губительно для тебя, она разрушена и пуста — ничего не может дать ни себе, ни тебе. Она только поглощает твою энергию. Ведь ты ей не нужен, не нужен! Смотри, как легко это доказывается — она даже не спрашивает, где ты был, когда ты поздно возвращаешься.
— Кстати, с недавних пор начала спрашивать, хотела даже, чтобы я перенёс на календарь своё расписание.
— И ты перенёс, ты уступил ей?
— Я не перенёс по определённым причинам, — Боря слабо улыбнулся в сторону кипятящейся Светы.
— Вот видишь! Это её требование, для чего оно? Для контроля над тобой! Контроль это колоссальный, колоссально мощный поток энергии.
— Светуль, я понимаю, многие знания… Давай не сейчас, праздник ведь.
— Только потому, что праздник. Я всё-таки хочу достучаться до тебя, хочу, чтобы ты уже открыл глаза на эту ситуацию. Я подарила тебе ребёнка — нас связывает то, что вас никогда не свяжет!
— Свет, ну я попросил…
— Извини, извини дорогой, — соскальзывая в тапочки и надевая халат, бросила она.
— Куда ты эти штаны натягиваешь? Прими душ и надевай костюм.
— Точно, — откладывая брюки в сторону, согласился Боря и зашлёпал босыми пятками в ванную.
— Ты мне тапки когда-нибудь купишь?
— Дорогой, мы уже обсуждали этот вопрос, лучше будет тебе самому их купить.
Боря включил душ, первые капли холодной воды коснулись головы и плеч: «Дурдом. Смоем с себя дурдом!», потом открыл кран сильнее и замер под теплеющими струями.
— Борь! Скоро ты там?
— Скоро, — спокойно ответил он и начал вытираться.
— Тра-та-та-та, та-та, — с сияющей улыбкой Света протянула костюм в открывшуюся дверь ванной.
— Так сразу? — усмехнулся Боря. — Спасибо, я в комнате оденусь.
— Ну, давай скорей, чтобы я тоже собираться начала.
— Начала?
— Да, Борь, я не на марафонской дистанции. Украшение себя должно приносить женщине удовольствие, так что не торопи меня и не делай кислое лицо. Лучше именинника одевай, его вещи я на диван положила.
— За мостом повернём налево и пройдёмся вдоль «Садовой горки», там будет тихо, безветренно.
— Идём, мне без разницы.
— Ира, почему молодёжь от тебя всё-таки съехала?
— Съехала! Скажешь ещё! Я им квартиру купила в неплохом райончике, ремонт сделала. Переехали туда за месяц.
— А спешка такая к чему была?
— Я ж со своим сошлась тогда, он начал настаивать на совместном проживании. Не хотела, чтобы Боря узнал.
— Как это не хотела, чтоб узнал?
— Не хотела и сейчас не хочу.
— Но почему?
— Боря очень любил отца, а я как будто предаю его память, понимаешь?
— Не совсем, если честно. Что в этом предательского? Все взрослые люди, почему бы не познакомиться, начать общаться.
— Да кто он? Механик на СТО, о чём Боря станет с ним общаться?
— Ира, во-первых, какой механик, и на каком СТО! Во-вторых, причём одно к другому? Ты же с ним разговариваешь о чём-то.
— Разговариваю, но чтобы они общались, не хочу. А ты со своим не так?
— Да, встречаемся мы у него, но мои о нём, по крайней мере, знают.
— А толку?
— Какой толк ты подразумеваешь? Он на праздники в гости приходит, сидим, разговариваем все вместе — чувство дома, чувство семьи.
— Но он же не отец, неужели Андрюшу это не ранит?
— Андрюше самому впору отцом быть, а не раниться непонятно обо что.
— Я так не могу, я хочу, чтобы у Бори память об отце осталась, не запятнанная, не замутнённая ничем.
— Дело твоё.
— А куда мы идём, собственно?
— За Слободской усадьбой сквер есть, может, солнышко ещё выглянет, там пройдёмся.
— Ну, идём.
— Рубашечка у тебя белая, повезло! Бабочка в полоску, но классических цветов, тоже плюс, — шептал Боря, рассматривая приготовленную ребёнку одежду. — Брючки, вау! Крошечные, со стрелочками, как настоящие! Красавчик, ты настоящий красавчик!
Отец повернул к себе сидящего в кроватке малыша, но тот, упустив из виду шарик, захныкал.
— Шарик-шарик-шарик. Да развернём мы его к тебе, не плачь только! — он взялся за ленточку, опустил яркий шарик, чтобы ребёнок его рассмотрел, и отпустил, чтобы смог увидеть взлёт.
Кроха с восторгом запрокинул голову и плюхнулся на спину, основательно приложившись к быльцам головой.
— Ой-ой-ой, — застонал Боря, пугаясь нарастающей силы крика и хватая на руки пострадавшего.
— Тише-тише-тише, — перепуганно лепетал он под усиливающийся плач и с опаской косился на дверь комнаты.
— Ох, и попадёт же нам от мамы, — со всем усердием качая на руках дитя, нервничал Боря, — точнее, мне.
Крик начал стихать.
— Молодец, золотой мой мальчик, золотой, — целовал он его в пышные щёчки, продолжая заметно нервничать.
«Что с ним делать? Господи, хоть бы шишка не вылезла, праздник ведь!»
Дитё, продолжая всхлипывать, обернулось на шарик.
— Вот славно, вот здорово, садись на кроватку, хотя на кроватку не надо, лучше — на стульчик со спинкой, шарик поближе привяжем, и будешь смотреть. Вот хорошо, вот хорошо! — с опаской ощупывая затылок-пострадалец, шептал успокаивающийся папаша. — Шишки нет, слава богу! Может, холодное что-то принести, приложить? Так от холода кричать начнёт.
Ребёнок, всхлипывая, усаживался на стуле, Боря наклонился к нему, ощущая, как колотится собственное сердце.
— Фуф! — провёл он по груди. — Главное, что ты цел!
Чмокнув дитя в щёчку, он потянулся к одёжке.
— Борь, вы уже собрались?
— В процессе, так сказать, в процессе, — скрывая волнение за весёлостью тона, ответил он.
— Подойди ко мне.
— Сейчас, рубашку на нём застегну.
— А брюки хоть надели?
— Брюки в последний момент — помнутся ведь, он же сидит.
— Ну, как хочешь. Ты ко мне идёшь?
— Иду-иду, — он спешно застёгивал на крошечном животике рубашонку.
— Подойди, пожалуйста, скорей!
Боря выбежал в коридор, перед большим зеркалом с поднятыми вверх руками, на которых перепутались узкие полоски ткани, стояла Света.
— Помоги мне!
— Чем? — растерянно оглядывая замершую фигуру, спросил вызванный помощник.
— Что не видишь, чем?
Он растерянно подошёл и поднял руки над её плечами.
— Куда тянуть?
— Та не тянуть, — сквозь зубы процедила Света, — расправь бретельки и аккуратно опусти вниз.
Боря осторожно расправил каждую полосочку, и платье, без дополнительных усилий, повисло на худых плечах. Света опустила руки и повернулась к нему — от ленты вокруг шеи к линии груди спускались тонкие бретельки, обсыпанные крупноватыми стразами. Боря моргнул.
— Ох, как блестит, как блестит! — спешил он остановить предполагаемый поток недовольства неумелым обращением с ребёнком и платьем.
— Как я тебе? — с натужным вызовом и улыбкой того же свойства спросила Света.
— Блестяще! Просто блестяще!
Она быстро повернулась к зеркалу, потом опять к Боре, который заметил, что плечи почти открыты.
— А платьице, вообще как, по сезону? — спросил он обеспокоенно.
— Как ты заботлив, милый! Иди только его одень и сам прекрати в трусах бегать!
В комнате Боря нарядил именинника, который к завершению процесса приобрёл действительно торжественный вид.
— Симпотный ты-ы, — ворковал он, расправляя надо лбом, беленькие разлетающиеся волосинки. — Свет, может ему спереди волосики уложить, ну, намазать чем-то, чтоб в кучке держались?
Света хихикнула.
— Подойди воск и расчёску возле зеркала возьми.
— Воск, это как для свечек? — шутя переспросил Боря.
— Нет, как для волос! Как гель, понимаешь?
Он взял круглую баночку, на которую взглядом указала Света, и направился в комнату.
— А расчёску?
— Я своей расчешу.
— Только помыть ее потом не забудь и надень уже что-то поверх трусов!
Боря потрогал пальцем студень в принесённой баночке, размазал его по краешку деточкиных волос и единым жестом провёл по ним расчёской.
— Смотри, как красиво! Папа у тебя просто волшебник, — широко заулыбался он, глядя на улёгшийся волной чубчик.
— Волшебник! Одевайся уже сам!
Боря, любуясь наряженным крохой, натянул брюки и застегнул рубашку.
— Свет, галстук не нужен?
— Обстановка расслабленная, зачем?
Он быстро набросил пиджак и вышел в коридор, избегая взгляда в зеркало.
— Наконец-то вы собрались! — с усилием просовывая ступню в новую туфельку, заметила Света.
— Старались, — тихо ответил Боря и обулся, не выпуская дитя из рук.
— М-м-мда, а чёрная обувь к коричневому костюму не очень, — тихо промямлила Света, покусывая губу.
— Прокатит — все на мою рубашку будут смотреть!
— Как-то я потерялась… Где мы, Лара?
— На Культуры сейчас выйдем, возле «Сократа» перейдём дорогу и мы в сквере.
— Ну, веди, — усмехнулась Ирина Ивановна. — Твои детей не планируют?
— Не похоже — всё рвутся куда-то, то в Праге месяц пожить хотели, то в Риме. У твоих так и не получилось?
— Да… Борька в отчаянии полном…
— Усыновить не хотят?
— Господь с тобой, Лара! Больше всего боялась, что эта идея в чьей-то голове приживётся! Чужой, зачем он нужен? Неизвестные гены, неблагополучная наследственность, нет-нет-нет!
— Что так однозначно? Усыновляют люди, заботятся, любят, родными становятся…
— Это не наш вариант!
— Извини, откуда такая уверенность, что с тобой эту тему согласуют?
— Разговаривала с Борей, прощупывала намерения, всё в порядке!
Лариса кашлянула, чуть замедлила шаг и осмотрелась вокруг.
— Вроде просветлело, ветер затих.
— Типа того, — поддакнула Ирина Ивановна, — но ты глянь, какая туча из-за оранжевой многоэтажки ползёт!
— Тучара…
— Смешно тебе — живёшь рядом, а мне ещё добираться.
— Рядом, не рядом, а в туалет мне хочется уже.
— Можно в Макдональдс заскочить.
— Идея! Подождёшь меня?
— Внутри подожду.
Вдохнув на входе прогорклые пары синтетических котлет, обе дамы поморщились.
— Как люди такое едят? Ещё и детей сюда водят.
— Не говори, сама не понимаю.
Едва протискиваясь между столиками, они с недоумением смотрели на сидящих посетителей.
— Вон и праздник у кого-то.
— Придумали, как завлекать, — не глядя, а только кивнув в сторону дальнего угла, огороженного яркими флажками, скептично заметила Ирина Ивановна.
— В центре зала места есть, присядешь, подержишь сумку?
— Давай, — громоздясь на высокий стул и сгребая сумку в охапку, с недовольной миной ответила Ирина Ивановна.
— Чем ты так залюбовалась? — возвращаясь, спросила Лариса, удивлённая её преображением.
— Ты только посмотри, какая семья! Муж ухожен: всё со вкусом подобрано, глянь, ну, славно ведь! С ребёнка глаз не сводит, развлекает, тетёшкает, дитя при нём весёлое — радость и понимание во всём.
— Тебя восхитило, что рубашка мужа и туфли жены одного цвета?
— Одного? Мне не видно отсюда, не это важно.
— Уж больно цвета ядрёные — я заметила.
— Заметно единение, гармония между ними, разве не прекрасно?!
— Прекрасно! Но столько внимания вещам?
— Не вещам — друг другу! — с придыханием зашептала Ирина Ивановна. — Хорошо, когда женщина умеет мужа выгодно подать — какая бы сама ни была, он за неё держаться будет. Я всегда так говорила и свою учила, да кто ж меня слушает? Вон девица, сама худющая, стрижка мальчуковая, на каблуках двигаться не умеет, а он при ней, глянь, какой статный, ухоженный, яркий.
— Ну, это пока лицом не повернулся. Ты тоже сходишь? Туда, — указала Лариса в противоположную сторону.
Музыка заиграла громче, взорвался смех веселящейся ребятни. «А сейчас!» — громко анонсировал в микрофон аниматор.
— Сердце радуется, когда смотришь на такое, — снова вскарабкиваясь на высокий стул, Ирина Ивановна окинула взглядом смотрящую на праздник Ларису.
— Что там интересного? — дёрнула она её за рукав.
Та обернулась с застывшим лицом, несколько раз моргнула, шевельнула губами вместо слов и кивнула на праздничную картинку.
Ирина Ивановна посмотрела в сторону кивка — перепуганный Боря, оставив гостей праздника за спиной, жестом просил не подходить.
-23-
Плюгавенький мужичок небрежно бросил перед кассиршей пачку сигарет и коробку дорогих конфет.
— Вам придётся подождать, покупательница отошла обменять товар.
— О-ой, ну как обычно. Как обычно в этой стране.
— Вы можете подойти к другой кассе.
— Девушка, вы не видите, что там очереди везде?
— Вижу, и там, и здесь очередь, везде придётся подождать.
— Хамство, здесь везде только хамство.
Уверенным шагом к кассе спешила девушка. Не задевая стоящих в очереди людей, но извиняясь, она пробиралась к кассиру. Мыршенький преградил ей путь и, свесив голову ниже плеч, наглющим тоном указал: «В таких случаях вообще-то бегут!»
Девушка запахнула на груди воротник куртки, полуобернулась к залу и, широким жестом указав путь, громко предложила: «Бегите!»
В очереди хохотнули, она, оставив за спиной оторопевшего нахала, поставила на ленту банку консервов.
— Вот, нашла, заменила, спасибо, что подождали!
Кассирша безучастно просканировала товар.
«Витка! Это же Витка! Вот молодец, сразу нашлась, ловко его заткнула! Я бы так никогда не смогла, опустила бы голову и мямлила что-то в своё оправдание. Ну, надо же, как люди могут!» — восхищалась Оля, не отрывая взгляда от фигуры, упаковывающей покупки в сумку.
— Вит, Вит, подожди меня! — крикнула она ей, когда та поравнялась с соседней кассой.
— Привет, Оль! Неожиданная встреча.
— Какая уж там неожиданная, если обитаем в одном подъезде?
— Да, пожалуй, — с улыбкой согласилась Вита. — Ты домой сейчас?
— Домой, — вздохнула Оля, пытаясь проскочить в ещё не закрывшуюся за выходящими дверь.
— Давай помогу — много у тебя покупок.
— Спасибо, — передавая Вите один пакет, вздохнула Оля.
— Что так тяжко?
— Надоело по этим магазинам ходить, решила основательно скупиться. Столько сил на эти хождения уходит, а потом ещё приготовь, подай, убери.
— Семья, обязанности — естественно.
— Естественно, — горько-механически повторила Оля.
«Зачем мне эта естественность?» — мелькнуло в её голове.
— Ой, Вит, куда ты? Не поворачивай к дому, ты ведь на остановку.
— Помогу тебе, не устану от пары шагов!
— Спасибо.
— Не за что.
— Хватит, спасибо!
— Хватит так хватит, — улыбнулась она и поставила пакет на верхней ступеньке подъездной лестницы.
— Спасибо тебе! — поблагодарила Оля и быстро скрылась за входной дверью.
Судорожно потыкав пальцем в кнопку, она замерла в ожидании звуков лифта. «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» — ругалась она, мысленно возвращаясь к мелькнувшему в её голове вопросу. «Зачем? Зачем? Зачем?» — пульсировали в висках мысли, глаза скользили по тяжёлым пакетам, покрасневшим замёрзшим рукам, лужицам от растаявшего на полу первого снега.
Дверь лифта открылась. Высыпавшие из кабины подростки, удивляясь напряжённому выражению её лица, оглядывались, обмениваясь жестами и междометиями.
Оля встрепенулась, подхватила пакеты и перед тем, как шагнуть в лифт, тоже оглянулась на них — девчушка одной рукой обняла парня за талию, другой — несмело потянула края его шапки к ушам.
«Зачем вы, девушки…? — вздохнула она про себя. — Девушки, положим, понятно, я-то зачем?»
Оля ввалилась в прихожую: «Фуф, как тяжело, тяжело и бесполезно… бесконечно бесполезно… куда я влезла? Хватит!» — прикрикнула она на себя, останавливая ход тупиковых мыслей. «Нет, и всё-таки почему, всё-таки зачем?» — переступая через порог кухни, силилась она найти ответ. «Ну, во-первых, все выходят замуж или, уж точно, этого хотят. И потом приятно это, быть-быть одной, а потом… ой! — споткнулась она, запутавшись в ручке лежащего на полу пакета. — Все так и я так, наверное. Хотя нет, что я, рыбка с памятью четыре секунды, птичка, примкнувшая к стае для перелёта в тёплые края? Должно же быть в этом что-то моё личное, или любовь, например? «Любовь как бескорыстная забота о благе и счастье другого человека», — вспомнила она фразу из книги о воспитании детей. — Какого другого человека? Нет, я его, понятно, любила, и тогда больше, чем сейчас. Но мне хочется участия в моей жизни, внимания, семьи, которой у меня никогда не было, а совсем не заботы о чьём-то благе и счастье. Ох, — выдохнула она, складывая опустевший пакет, — есть всё равно нечего, всё только готовить надо. Сколько раз говорила себе, идёшь в магазин, купи пирожков, булок, на хлеб что-нибудь намазать и съесть, так нет же, только под готовку, только на потом, кто умной назовёт?» Ещё раз мысленно перебрав покупки, Оля «обнаружила» пачку пельменей. «Слава богу, какая-никакая подвижка, — обрадовалась она, опуская на конфорку кастрюлю с водой. — А где Боря? — вспомнила она о ярлыке блюда одиноких мужчин, прочно приклеенном к пельменям. — Восьмой час, на вечернем отделении сынок заведующей кафедрой лекции не читает, понятно».
Оля нажала вызов, гудки сменились непонятной вознёй, обрывками фраз: «Звонят мне… кто… я…», нервным Бориным: «Да, Оля… отойди… это я не тебе…», злобным шёпотом: «Покажи».
— Боря, что там у тебя происходит?
— Всё в порядке, — нервно выдохнул Борис.
— Где ты, что там у тебя?
— У мамы, мы общаемся.
— Что-то новое в вашем общении.
— Да, пока не по всем вопросам пришли к согласию.
«И этой он голову морочит…»
— Кто там что кому морочит?
— У мамы, как обычно, своё мнение по каждому поводу, не обращай внимания. Что ты хотела?
— Чтобы ты дома был уже или я хотя бы знала, где ты.
— Знаешь?
— Ну-у...
— Тебе хватит, я так понял?
— Боря, что происходит?
В трубке запиликали гудки.
«Бред какой-то, может, он не у мамы? Так вроде, она шипела. Перезвонить ей…?» — брела Оля от стола к плите. «Сначала поем, потом наберу», — ответила она сама себе, вдохнув жирненько-уютный запах пельменей, которые плюхались в тарелку один за другим. «А что он у неё делает? До защиты сидел днями и ночами, материал исключительно в книгах домашней библиотеки обнаруживал, теперь что? Надо набрать», — разламывая последний пельменчик, решила она.
— Добрый вечер, — удивляясь фоновой тишине, поздоровалась Оля.
— Добрый, — колеблющимся тоном ответила Ирина Ивановна.
— Вы как будто не решили, добрый он или не добрый.
— Решила, Оленька, вот только не знаю, что тебе о нём рассказать?
— О вечере?
— О нём родимом, — хмыкнула Ирина Ивановна, меряя взглядом вошедшего в комнату Борю.
— Ты ей ничего не расскажешь! Я сам буду с ней разговаривать!
— Сам, конечно, ого-го сколько сам натворил, чай, не шнурочки на ботиночках завязывать научился.
— Оля — моя жена, мне решать!
— Вспомнил!
— Я вам не мешаю?
— Мне, Оленька, нет, а вот…
— Прекрати, — закричал Боря, краснея.
— Правильно, стыдно должно быть на мать кричать! Матери перечить! Приезжай, Олечка, одним днём пусть уж всё решится.
— Не-е-е-т! — закричал Боря.
— Что? — спросила Оля.
— Ну и как я с вами двоими общаться буду?
— Никак! Ты — никак!
— Как с матерью разговариваешь? Приезжай, Оленька, будет, что послушать, — сознавая своё возвращение в центр ситуации, Ирина Ивановна расплылась в улыбке.
Такси, — набрала Оля, но поиск среди контактов ничего не выдал. — Я не ездила на такси, я вообще никуда не ездила, год? Два? Когда эту карточку поставили? Три?»
Она окинула беспокойным взглядом укутанный первым снегом двор — никого, на тротуарах ещё нет следов, тихо. Оля ссутулила плечи и сжала руки в карманах: «Может, не ехать, что там такого произойти могло?»
Вдруг, покоробив тишину, во двор въехало такси, шумная компания высадилась у соседнего подъезда.
— На Трак-то-ро-строи-телей, — медленно попросила она.
— Как скажете, хоть на трактора, хоть на строителей. Садитесь! Вас больше печалят наши трактора или наши строители? — пошутил водитель, всматриваясь в её лицо.
Оля неловко улыбнулась.
— Ничего.
— Что ж вы грустная такая?
— Давно никуда не ездила, забыла, по какому номеру такси вызывать.
— Это хорошо! Дома насиделись, теперь что-то новенькое в жизни началось, верно?
— Началось…
Водитель ещё раз посмотрел на неё.
– Бывает так, ничего не происходит, долго не происходит, а потом оказывается, события кружатся вовсю, один ты не в хороводе…
Оля отвернулась. «Наверное, я боюсь… Пусть бы уже было, как было, — предположила она, ощущая усиление сердцебиения. — К чему «Олечка, Оленька» через слово, эта натужная вежливость? Опять перед щелчком в нос?»
— Приехали, — тихо сказал водитель.
— Да-да, — встрепенулась Оля, не расслышав самого слова, но ощутив, что машина не движется. «Спокойно, тихо, зачем идти? — спрашивала она себя, рассматривая освещённую фонарём полосочку снега на бортике детской горки. — Хоть назад возвращайся».
— Мы выходим?
— Да-да, сколько?
Не расслышав ответа, Оля отдала купюру, которую всю дорогу сжимала в руке, и вышла.
— Проходи, Оленька, — складывая руки у груди, маслянисто повела Ирина Ивановна.
— Мама, отойди от неё! — выскочил из комнаты Боря.
— Ты отошёл, кто-то и подойти должен!
Оля ошарашенным взглядом соотносила перепуганное выражение Бориного лица с озорными цветами костюма.
— Не говори так, — забирая из Олиных рук куртку, нервно возразил Боря.
— Извини, но ждать, пока ты слово из себя выдавишь, не стану.
— Мама, это наша жизнь, мы…
— Да что же это такое, мы? Я вас до купы свела, жильём обеспечила. А теперь — мы! Мы!
Боря наклонился достать тапочки.
— Смотрите, в ноги он ей падает…
— Прекрати уже! Оль, пойдём на кухню, я чайник поставил.
— Как трогательно… — прошептала Ирина Ивановна, пристально рассматривая фигуру невестки.
— Я из дому, ничего не хочу.
— Всё равно лучше там посидим.
Боря быстро убрал полотенце со стула в дальнем углу кухни, где обычно сидела Оля.
— Не надо, я здесь, с краю, — не сводя глаз с Бориного костюма, ответила она, вспоминая, как Ирина Ивановна с видом вселенского гуру уводила её вглубь рядов одёжных тканей и дрожащим от презрения шёпотом сообщала: «Клетка, полоска, мелкий рубчик делают мужской костюм по-настоящему солидным, а не те кричащие колоры у входа. То мода, пошлая мода… для масс...».
Как застряли у неё в горле: «Он молодой, пусть носит яркое, слишком уж солидно в шотландскую клеточку», остановленные её огорчённым: «Ты не сможешь со вкусом его одевать».
Боря поставил на стол две чашки, Оля подняла на него вопросительный взгляд.
— Нормально, — успокоил он.
— Можно было и дома вдвоём посидеть.
— Вот именно, ненормально, — не выдержала томления у входа в кухню Ирина Ивановна. — Что ж ты сидишь, как клуша, до сих пор не понимаешь, что с мужем делается?
— А что с ним делается?
— Посмотри, как одет, твоя, что ли, заслуга? Сыт, с утра дома не бывши, ты, что ли, обед приносила? Во-от, вот и результат. А сколько раз я говорила, сколько раз…
Оля брезгливо отвернулась.
— Я, Оленька, тебе всегда добра желала, только добра, а ты всё от меня отворачивалась, всё не прислушивалась.
— Боря, что произошло?
— А то и произошло, милая, что в таких случаях обычно происходит — нашлась которая прикормила, обогрела, приодела да к ручкам и прибрала. И ребёнок у него есть, годик сегодня отпраздновали.
Оля уставилась перед собой, погружаясь в привычное одиночество и ощущение невозможности быть услышанной.
— Зачем ты сказала? Ей же больно…
— Ты, а не мама, сделал ей больно! Она могла о тебе всю жизнь заботиться, а та вертихвостка что? За тёпленькое схватила, чай, вращать не прекратит! Неужели ты лучше мамы мог сообразить?
— Я сам бы ей сказал, спокойно и нормально!
— Ага! Который год рассказываешь! Сказал бы ты, если б не я, — упоённым жестом сложила руки на высокой груди Ирина Ивановна.
-24-
— Как я рада, Коля!
— Чему? — шутливо спросил он.
— Как чему, как чему? — в тон ответила Катя. — Рада, что ты — снова ты! Взялся за новое дело, что есть у тебя силы. Ты сам доволен, ты рад?
— Рад, Катюша. А тебя не смущает, что меня до самого вечера не будет?
— Сколько? Три дня в неделю? На выходных мы вместе, уверена, смогу пережить.
— Чем займёшься?
— Ты так говоришь, как будто масса времени освободилась, а всего-то — три вечера, перечитаю что-нибудь. Знаешь, появляется такая потребность — со стороны на себя посмотреть, молодую, наивную, глупую…
Николай Павлович отвернулся от зеркала, перед которым завязывал галстук, и посмотрел на неё.
— Когда это ты глупой была?
— Когда и все, — улыбнулась она, — верила каждому написанному слову. Недавно у родителей заметила томик Сенеки на полке, старая книжица, потрепанная, вся в моих пометках. Открыла наугад, а там красным подчёркнуто: «Будешь считать друга верным — верным и сделаешь». Какая наивность, разве можно получить от человека то, чего в нём нет? По-моему, своим добрым отношением только провоцируешь использовать себя по его недалёкому усмотрению.
— Какая мысль! Говорят, философией надо увлекаться с пятидесяти, а на практике…
— …поздновато, когда уже не всему веришь, не за каждой строчкой открываешь новые горизонты. Теперь хочется не нового, а знакомого, но на другом уровне, качественнее, глубже. У тебя не так?
— Приблизительно так… — улыбнулся Николай Павлович. — Я в порядке?
— В полном! — разглаживая новую рубашку на его плечах, ответила Катя. — Цвет удачный, с халатом хорошо смотреться будет.
— Да-да, думаю, да. Кать, а тебя обманывали в жизни, так, знаешь, с размахом, как будто поднимали и разбивали вдребезги?
— Коля, что за ужас, как такое быть может?
— Ну, когда веришь каждому слову, многих можно спровоцировать.
— Со мной подобного не случилось. Счастье, наверное?
— Счастье, — тихо ответил он. — Думаю, ты ещё можешь философией увлечься — без подобного опыта диапазон того, во что верится, остаётся достаточно широким.
— Тебя философия больше не увлечёт?
— Вряд ли, я реально смотрю на мир, соотношу происходящее со своим опытом. Выводы у меня пусть не оптимистичные, но соответствуют действительности и тому, что я чувствую, что я прожил. Ладно, где ты сегодня планируешь быть часов в четыре-пять вечера?
— В салон я, кажется, записана.
— В тот, который на Данилевского?
— Нет, который на Клочковской.
— Чудно! Кабинет тоже на Клочковской, правда, я ещё не очень понял, где именно. Сегодня надо поехать посмотреть, как спланировали помещение, измерить ещё раз, чтобы всё оборудование стало.
— Хочешь, я с тобой съезжу?
— Стадия не та: грязь, мусор строительный. Позже приедешь, интерьер продумаешь.
— Хорошо, как скажешь.
— Давай заберу тебя из салона?
— Как приятно, — прошептала Катя, обнимая его за плечи и прислоняясь ушком к его груди.
— А мурлыкнуть?
— Не успела, ты перебил!
Николай Павлович засмеялся было, но ощутив, что при смехе лицо сложилось в непривычную гримасу, остановился.
— Ну вот, и меня сбил, и самому не весело.
Катя разжала объятья:
— До вечера!
— Игорь Васильевич! Надо же, с утра на работе, а до конца смены и не увиделись!
— Приветствую, Николай Павлович, бывает и такое. Как вы, покинете нас или совмещать будете?
— Совмещать пока.
— И я подумал, кто оперировать здесь будет? Заменить вас некем, это очевидно.
— Ой, ну что вы… и подрастают, и учатся…
— Так-то оно так, но начальству опыт и навык подавай.
— Тоже верно.
— Я спросить хотел, у вас там места не будет, хоть пару дней в неделю приём вести?
— Не я это решаю. В любом случае, не сразу там кто-то ещё понадобится.
Игорь Васильевич замолчал и сник, но через несколько секунд добавил:
— Если будет возможность, вспомните о моей просьбе.
— Хорошо, но я не обещаю, не обещаю.
Николай Павлович вошёл в ординаторскую, снял халат, открыл щёточку и наклонился отполировать ботинок.
— У меня болит после операции, — с порога ординаторской пожаловалась полусогнутая девушка.
— Кто ваш врач?
— Не помню, имени не помню.
— Посмотрите — все, вроде, здесь.
— Игоря Васильевича нет.
— Седой, который подолгу разговаривает?
— Наверное, — хмыкнули из угла.
— Нет, не он.
Николай Павлович оторвался от ботинка и сел ровно.
— А, вот вы! Посмотрите меня, пожалуйста.
— Медсестра уколет обезболивающее.
— Кололи, не помогает.
— Когда кололи?
— Вчера.
— Ещё сегодня уколют, а завтра я посмотрю.
— Но уже третий день болит.
— Идите в свою палату.
Над краем бордюра привстали неровные холмики счищенного с тротуара и густо облитого грязной жижей снега. Сквозь водянистые прямоугольники, за ночь застывшие под брюшками стальных коней, просматривался асфальт. Николай Павлович припарковался над одним из них и, оглядывая линию фасадов, заглушил мотор.
Красный козырёк над заляпанной побелкой дверью, мраморные ступеньки в густом месиве из грязи и ярко-ржавого песка.
«Может, есть другой вход?» — успела мелькнуть слабая надежда. «Впрочем, не принципиально», — выходя из лужи, оказавшейся придверной, раздражённо процедил он.
Замок, скрытый под слоями грязно-рваной плёнки, поддался ключу на удивление легко.
«Поглядим, поглядим», — разворачивая листы с параметрами оборудования, Николай Павлович осторожно прошёл вдоль белой высокой стены с завешенными проёмами. «Вспомнить бы, где что планировалось разместить! Тут и рулетка есть», — подцепив пальцами чёрный пыльный корпус, он подбросил его над ладонью.
«Под аппарат УЗИ — самое большое, — отодвинув противно зашелестевшие клочья плёнки, он шагнул в помещение и стряхнул с ладоней пыль, осыпавшуюся с линейки. — 58 на 158 на 92, на 190 — всё становится красиво».
«Маленький — смотровой, — просунув голову за оборванные края заходящегося шорохом тонкого целлофана, заключил он. — Фу! Да что оно шелестит так мерзко! Кресло в углу, рядом кольпоскоп, там автоклав малогабаритный, камеры для стерильного, для нестерильного… — промеряв периметр, он остановился: — Не станет всё. Значит, наоборот».
Николай Павлович развернулся, чтобы выйти, и резким жестом сдвинул издавшую неприятный шорох завесу: «Вот мерзость!» — схватив несколько неровных краёв, раздражался он. Касавшийся пола край продолжал трепыхаться — он разжал ладонь, и снова всё огласилось муторным шуршанием: «Тьфу, ты!»
Замахнувшись от плеча, Николай Павлович отодвинул занавесь перед большим помещением. Издав несколько скользко-мнущихся звуков, она затихла, но отвратное шелестение продолжало звучать в ушах. Он вытянул шею вперёд и несколько раз повернул голову из стороны в сторону. «Так значит, здесь смотровой, да? Кресло, ширма, шкафы, коагулятор. Да, тут явно больше шансов!»
Намереваясь выйти, он остановился перед мутной пеленой, аккуратно отодвинул её край и выскользнул наружу — она издала высокий дрожащий звук. Он подбежал к замусоленным обрывкам над соседним входом и одёрнул их: «Нет! Эти так шуршат!», но они затрепетали широкими волнами, без мелко-мерзкой ряби.
Николай Павлович обернулся к соседнему проёму и закрыл глаза. «Пройдёт, сейчас пройдёт», — отмахнулся он и начал заглядывать в помещения по другую сторону, чтобы найти окно. «Все без ручек!» — колола его досада взмывающими в воздух клеёночными трелями.
Он направился к двери, между помещениями справа мелькнула тень и послышались быстрые шаги в направлении, обратном его собственному.
«Надо выйти на воздух! — выскочив за дверь, он прошёл по ядовито-оранжевой кашице, растёкшейся по ступенькам. Обойдя лужу и стоя справа от дверцы, вытянутой рукой открыл машину. — Пригрезится же такое!»
-25-
Оля остановилась в середине ограждённого с трёх сторон домами двора. «Э-дэ-ма-лэ-ма-на», — неожиданно закружились у неё в голове слоги названия одной из улиц. «Господи! Да зачем они мне сейчас? Такси! Надо куда-то вызвать такси. Выйду из этого двора, не останусь здесь ожидать, к рынку пусть подъезжает». Окинув взглядом путь, Оля пошла своим привычным суетливым шагом: «Другая? С другой? И что? Что я видела от него последние годы? Бдения во имя науки, сидение в библиотеках, зарубки на календарях? Вдруг вымытые в квартире полы, к которым непонятно, как относиться — помощь, упрёк, намёк? Самостоятельно выглаженные брюки и рубашки — чтобы меня не беспокоить или самому не нервничать от того, что выполнено не так? Секс, которого то нельзя, то не хочется, то ему нечего продолжить в нашем общении?»
«Красный Daewoo, номер 2619. Тел. вод.: +3800», — брякнуло в телефоне. «По такому номеру легко дозвониться в случае чего», — она остановилась в полосе серого света между ярко освещённой вывеской и тёмным провалом входа в базарный ряд.
Удивляясь спокойствию собственных эмоций, Оля переключилась: «Зато мандолина наяривала, аки балалайка — я ж тебе говорила, ты ж на него посмотри, и одет, и сыт, и не простужен, а ты не следила за ним ни там, ни сям — трям! Женщина несчастная, успокойтесь — ну да, без вас выбрал, да, родила ему. Не этого ли вам хотелось? Не предупредил, не сообщил, не отчитался — плющит на все лады трёхструнную — вот у кого беда, вот у кого трагедия».
Скрывшись за обляпано-красной дверцей такси и едва опустившись на сидение, она представила, как через двадцать минут перед ней откроется та же дверь, те же стены окружат её, та же неохота включать свет проведёт из сумрачного коридора в комнату, утро поднимет с той же кровати и поставит перед привычной вереницей забот. «Но ведь это всё не моё! Не моё — чужое!» — острое чувство отдельности от знакомых комнат, шагов по ним, одёжных шкафов и полок наполнило её. «Там нет меня!» — мысленно оглядывая сверху вмиг опротивевшее пространство и цепенея от ужаса, полнее сознавала она. Преодолев скованность, Оля повернулась к водителю — пухлый спокойный мужчина, глядя перед собой, придерживал руль, вдоль стекла мотылялся ароматизатор, ненавязчивое тепло струилось из печки.
«Фу-у-х, — устало выдохнула она, — может, всё и не так…?» — но сознание не обходило разлившуюся внутри мысль. Чувство собственной отдельности, усиливая неприязнь к привычной среде, теснилось у висков и дрожью бросалось в кончики пальцев: «Неужели я так жила? Как такое со мной происходило?»
— Пробежался? Чего вообще было за ней выскакивать? Ноги простудить?
Усевшись в прихожей, Боря начал медленно расшнуровывать не нуждавшуюся в этом обувь.
— Сына, что это значит? — беспокойно поглядывая на часы, спросила Ирина Ивановна.
— Что значит что?
— Почему ты разуваешься?
— В нашей стране принято разуваться у входа, разве нет?
— Да, но не сейчас…
— Когда?
— Боря, что ты заладил, разве нет, разве да? Ты не пойдёшь к ребёнку? Ситуацию для чего решали?
— Тебя просили её решать?
— Послушай, от Оли уже нечего скрывать, ты можешь оставаться с новой семьёй…
— Я и так мог.
— Ты дома не ночевал?
— Всегда ночевал.
— Чего-то я не понимаю? Ты будешь жить с ними, разве нет?
— Послушай, ну как я могу, если ребёнок ночью кричит, а мне с утра на работу? Если вокруг него всё должно быть мытое, стерильное, кипячёное, а с универа сколько бацилл притаскивается? Потом, брать его, пеленать, кормить, купать по книжечкам, я этого попросту не выдержу. Иногда прийти ей помочь, чем я уже могу. Мы заранее оговариваем, когда, что я буду делать, как…
Ирина Ивановна с усилием продралась сквозь недоумение.
— Так домой иди…
— Смотреть на Олю, которой я жизнь испортил?
— Ты? Её без ничего взяли, одели, кормили, поселили в квартире с ремонтом, а она тебе что?
— Она любила… искренне… так не все могут…
— Башку она тебе забила! Не углубляйся в эти сантименты — никому они не нужны. Едь — там твоя квартира, нечего её к неверным мыслям приучать, подумает ещё…
— Она знает, что квартира на тебя.
— Обязательно ей надо было сообщить?
— Хоть о чём-то она должна знать правду.
— Совестливый ты, мой сыночек!
Боря хмыкнул, быстро поднялся и направился в комнату.
— Куда ты?
— Ма, ну куда? На время посмотри, у меня завтра первая пара.
Ирина Ивановна схватила смартфон и начала нервно тыкать пальцами в экран. «Понапридумывали, блин, как номер набрать? Куда нажать?»
В дверь позвонили.
«Не заезжайте во двор, пожалуйста, здесь остановите!» — рядом с освещённой витриной круглосуточного маркета попросила Оля. Яркий свет, рассыпаясь от входа, прогонял с гладкой поверхности снега тени соседних зданий, дробя их ровные стороны на причудливые фигуры.
Скользнув за двери, она несколько раз прошла по тесным отделам, поражённая невообразимыми цветами и формами пирожных, остановилась у кондитерского.
— Ух ты! Их на 3-D принтере распечатывают?
— Нет, — улыбнулся продавец, — но кое-что умеют.
— Хочется приобщиться такому умению. Вон то, красненькое, пожалуйста.
Любуясь претенциозностью формы, она не заметила, как пересекла припорошенную снегом поляну за домом и вошла во двор, внутри которого уже почистили дорожки. «И на чёрном оно изумительно смотрится!»
Оля пронеслась над ступеньками подъезда, спокойно дождалась лифта, открыла входную дверь, включила свет. Разулась и, опасаясь неизвестных ощущений, стала на пол, смелее прошлась по комнатам, опустилась в кресло перед телевизором, в которое, наверное, не садилась ни разу — почти как гостиница или новый дом, где впечатление не скрашивается узнаванием.
От неуютности она начала оглядываться по сторонам, вспоминая свежее приятное чувство, которое ни с чем в этой обстановке не соотносилось. «Да, единственное маленькое, миленькое и моё среди непроницаемых для чувств стен, — Оля улыбнулась, ощущая сокровенность нового осознания, развернула пирожное другой стороной, чтобы продолжить любоваться. — Кому об этом рассказать, с кем разделить? С Виткой? Но быть, как то наивное дитё, когда мне уже… Может, и обо мне она давно знала — так не очень и удивится. С кем-то общаться всё равно надо, — она потянулась за телефоном: 22:41 — надо, но не сейчас, завтра позвоню». Отыскав в шкафу миниатюрную ложечку с изображением вееров-полусолнц и цапель, погружающихся в закат, Оля воодушевлённо занесла её над десертом.
— Ирочка, с годовщиной! — поплыл по прихожей густой низкий голос вместе со звуками поцелуев и шорохом преподносимых цветов.
— Ой! Что ты опять придумал?
— Придумать-то придумал, воплотить не совсем удалось — только вырвался. А ты, а ты помнила, что сегодня день нашей встречи?
— Помнила, скажешь такое, — ласково скрадывая неприглядность ответа, ответила Ирина Ивановна.
Нисходящее жужжание расстёгиваемой молнии, тонкий скрип сидения в прихожей.
— Так досадно, что не весь вечер у нас, зато всё утро, — интонация мужского голоса выдавала предвкушение.
— Может, оно и к лучшему, — продолжил фразу стеснительно-извинительный тон.
— Не поднимай — я сам понесу! — вперемежку со звуками покидаемого сидения распорядился глубоко-нежный тембр.
— Неужели такой тяжёлый? — блеснуло женское любопытство.
Пытаясь дотянуться до празднично упакованной коробки, мужская рука обняла женскую талию. Благодушный взгляд круглого лица скользнул по её изгибу, последовал за отведённой в сторону рукой дамы и в смятении остановился на застывшем в дверях Борином силуэте.
— Ирочка, почему ты не сказала, что у нас гости?
-26-
— Коля, развернуться можно было, почему мы вперёд едем?
— Потому что нам не надо разворачиваться.
— Не надо? А мы куда?
— Хочу показать тебе что-то.
— Дорогу подмораживает, вечер мрачноват, что мы увидим?
— На это и нужно в такую погоду смотреть.
Машина въехала в узкую улицу между обветшалой почтой и покосившимися заборами частных домов, объезжая ямы, медленно потянулась мимо типичного сельмага и едва припорошенных снегом клумб, ограждённых провисшими на деревянных колышках верёвками. В бледно-жёлтом свете фонаря заскулила тощая дворняга, пытаясь ступить на бессильно свисающую лапу.
— Куда мы едем? Я не понимаю.
— Покажу тебе, где я жил.
— Здесь? — переспросила Катя.
— Да, на этой улице.
Справа мелькнули двухэтажки.
— Бараками в послевоенные годы были, ещё сарай во дворе каждому полагался, клетки для кроликов стояли, помню.
— Ты там жил?
— Нет, — усмехнулся Николай Павлович, — сейчас покажу.
Неожиданно дома стали солиднее, заборы — выше, фонари уже не пятаками, а полосами освещали улицу. Катя, как ей казалось, неслышно выдохнула.
— Рано ещё, погоди.
Улица изогнулась под неожиданно острым углом, машина заскакала днищем по кочкам, обломки сухих веток повалившегося дерева укатывались в грунт вместе с белеющей вокруг пня трухой. Ещё несколько символических заборов из сетки, надсадный лай собак из-за них.
— Прибыли.
Они остановились возле накрытых грязными досками белых кирпичей, за которыми скособоченный забор острыми верхами досок почти касался стены дома.
Николай Павлович заглушил мотор.
— Ты хочешь выйти? — спросила Катя.
— Даже хочу, чтобы ты вышла.
— Обязательно?
— Ну, думаю, для философа важно знать, по какой земле ходил человек, что из неё впитал, — он молча вышел и направил взгляд на дом без единого светящегося окна.
— Смотри, это большое — в дедовой комнате, свет он включал редко — только дальний её край чуть освещался из тёти Лидиной спальни.
— Коля, если тебе и так тяжело, зачем ещё в эти подробности погружаться?
— Что значит тяжело? Это жизнь, в ней надо всё ощутить, всё вынести…
— Лучше дозировать подобные переживания, правда?
— Или вспоминать приятные события дней, прожитых здесь.
— Такие были?
— Конечно. Вновь и вновь закрываю глаза, вижу перед собой тебя и бесконечное количество раз повторяю твоё имя: «Катя, Катенька!», шепчу я и вспоминаю твои глаза, твои волосы, твои руки. Снова и снова звучат мне твои слова: тихие, загадочные, рождающиеся в твоём сердце, согретые твоим теплом.
Как хочу я склониться к твоим рукам, нет, к твоим тоненьким, хрупким ручкам, взять их в свои и замереть, ощущая твоё тёплое дыхание на своих щеках. Застыть и лишь пытаться каждой частицей своего естества понять тебя — сложное сочетание волнующих качеств и черт. Так хочется, чтобы волшебство этих минут длилось и длилось в моём сердце, ни на минуту не ослабевая, не освобождая ни одну его клеточку от своих чар.
Как хочу я склонить голову к твоему маленькому худенькому плечику — и чтобы время остановилось и не несло больше смятения и тревоги, которые оставляют меня, только когда ты рядом.
Как хочу я обнять тебя и никогда не разжимать рук, чтобы ты всегда была со мной. Хочу непрестанно находиться в мире наших чувств, который создан нами и реален только для нас, в котором мы счастливы!
— Ты столько лет помнишь это письмо! — она уткнулась в холодное пальто на его плече. — Не могла подумать, что подобное рождалось здесь — ты был таким возвышенным, тонким, мечтательным.
— Возвышенными и становятся, когда реальность невыносима.
— По тебе невозможно было понять, сколько ты пережил. Трагедия с родителями, проживание с людьми, которые ранили тебя, ещё и в такой обстановке. Мне не по себе — ты столько лет проживал всё один, я не понимала глубины твоих чувств, твоей глубины.
— Не сосредотачивайся на этом — не всё так мрачно. Пойдём!
Между редкими деревцами по тропке, протоптанной от сложенных кирпичей к забору, они вышли на дорожку, ведущую вдоль домов.
Просевший асфальт, колдобины, доски, переброшенные поверх луж — их медленные осторожные шаги, тягостная тишина у одних домов, заливистое тявканье возле других. Под ногами зашуршал гравий, отполированная ручка колонки на перекрёстке блеснула светом луны, хаос подсвеченных вишнёвых веток устремился к ним из-за аккуратного штакетника по другую сторону улицы.
— Идти ещё долго? — шёпотом спросила Катя, боясь нарушить первый светлый миг на пути.
— Нет.
— Почему ты шепчешь?
— Хочу быть с тобой на одной звуковой волне.
Катя сдержанно засмеялась.
— Тебе уже нравится здесь, я смотрю.
— Мне с тобой везде нравится.
— Это хорошо, мы почти у цели.
Стопочки плит еврозабора, столбы вповалку по палисаднику и дорожке, ямы вдоль отпечатка следа старого ограждения.
— Осторожнее, Кать, переступай! Тебе видно или телефоном подсветить?
— Не надо телефоном — нарушится атмосфера.
— Чем?
— Современностью — когда ты жил здесь, такого ещё не было.
— Какая тяга к исторической достоверности момента.
— Время, однако, выбрали для установки забора…
— Так всегда, для уверенных в себе — самый сезон.
Асфальт под ногами перешёл в грунтовку с обледенелыми краями следов обуви.
— Осторожнее, осталось совсем немного, — приободрил Николай Павлович.
Линия домов неожиданно расширилась до округлого пространства, дорожка влилась в разъезженную машинами колею.
— Коль! Тут идти совсем тяжело.
— Можно не идти, просто смотри вперёд.
Белизна нетронутого снега, словно над краями пропасти, блестела на границах глубокой чёрной ямы с узорами покрышек, застывшими на дне. Из-за верхушек двух высоченных тополей прокрадывался лунный свет и, как остановленное мгновение, замирал над углублением.
— Нравится?
— Особого восторга нет.
— Это потому что зима, весной здесь громадная лужа, перелезть через грязь вокруг неё было особым подвигом.
— И ты его совершал?
— Ежедневно! То, что во всём городе уже сухо, а я хожу грязный как чёрт, не замечал до того, как влюбился.
— В лужу?
— В тебя! Помню, иду вдоль института по проспекту и ты навстречу, я засмущался, глаза опустил и увидел свои ботинки — боже! Какой кошмар, мне провалиться хотелось! Понимаю, что тебе некуда свернуть, а значит, ты непременно их увидишь и не сможешь хорошо обо мне подумать.
Катя удивилась.
— Ничего подобного не наблюдала!
— Так надо было раньше сказать — я переживал, изводился весь. Набирал воду в колонке, тряпку с собой брал, на другом берегу начинал их мыть, но грязищи налипало столько, что она только размазывалась, а я всё думал, вдруг опять тебя возле входа встречу и ты ни на что, кроме них, не глянешь.
— Такие трогательные наивные рассуждения, совсем на тебя не похоже. А ты только возле входа встретить меня боялся?
— Да, — вздохнул Николай Павлович, — и нет. Когда мыл их в туалете, снова видел стоптанную подошву, затёртую об асфальт пятку, счёсанный носок, они как будто говорили мне: «Она будет смотреть только на нас, не на тебя!» и паршиво кривились, местами не сходясь с подошвой.
— Бедненький, ты всё время так боялся?
— Да, даже если видел, что ты не сводила с меня глаз, когда мы разговаривали. При одной мысли о них у меня начинало жечь ступни, я боялся и ненавидел их, себя, будущую неудачу с тобой…
— Коль, ну какую неудачу, о чём ты? Неужели ты не чувствовал взаимности с моей стороны?
— Чувствовал и боялся.
— Чего?
— Что однажды ты их всё-таки рассмотришь.
Он поёжился, Катя обняла его за плечи.
— Я ни разу не видела тебя в грязных туфлях, значит, выход был найден?
— Был. Скакал я возле этой лужи, потом очередные омовения начал, тут тётя Лида идёт: «Вот куда они исчезают!» и кивает на заросли, в которых уже груда сморщенных тряпок скопилась. Смотрит на меня, улыбается, солнце, помню, светило, и её слова, её улыбка так и плывут, растворяются в свете: «Что ж ты их страшные таскаешь? Пальцы грязные потом, под ногтями черно, переходи в калошах, обувай туфли, а калоши мне назад авоськой перекидывай». Так мы ходили день, два, а дни уже весенние тёплые, она идёт, молчит, только улыбается. Чувствую, что она ходит возле моей тайны, не зная о ней, я, кажется, и дышать боялся, чтобы себя не выдать. И вдруг она спрашивает: «Как звать?» Я обомлел, но мне почему-то стало приятно, легко и даже радостно, помню, сказал: «Катя» и как будто сам про себя всё понял.
— Надо же...
— Сам не ожидал, что встреченное участие, такая незамысловатая помощь придадут столько сил, столько уверенности — я снова был кому-то нужен, кому-то не безразличен, в тот момент это было бесценно.
— Удивительная лужа.
— Только представь, а если бы её не было…
— От чего иногда судьбы и жизни зависят, уму непостижимо.
— А ещё как поворачиваются, с чего начинаются, как обрываются…
— Хватит на сегодня, Коль! Не могу простить себя за свою чёрствость.
— Ты о чём?
— О том, что не рассмотрела, не поняла, не почувствовала в тебе так многого.
— Не вини себя — я сознательно скрывал, понимал, что ты девочка из хорошей семьи, столько не поймёшь, жил, не затрагивая в тебе необходимости понимания недоступного.
Проспект, мокрый от мгновенно тающего на асфальте снега, выталкивал из себя белые полосы разметки и взлетал над выползающими из оврага дачными домиками. Люди, выходя с остановки, напряжённо всматривались в номера приближающихся маршруток.
— Смотри, Игорь Васильевич!
— Я бы его не узнала.
Николай Павлович притормозил за остановкой и окликнул коллегу. Тот удивлённо кивнул и, пропуская жену вперёд, засеменил к машине.
— Садитесь, подвезём вас, вы там же?
— Там же, только ходим всё медленнее, — словно прося о снисхождении, он неловко усаживался на заднем сидении. — Здравствуйте, Екатерина, так давно мы с вами не виделись.
— Дверь чуть плотнее закройте, — трогаясь с места, попросил Николай Павлович.
— Здравствуйте, Игорь Васильевич!
— Улыбка у вас по-прежнему очаровательная!
— Спасибо, — обернувшись через плечо, поблагодарила Катя и перевела взгляд на его спутницу.
— Моя жена, Зоя. С ней вы раньше не встречались.
— Теперь познакомимся. Очень приятно, — внимательно глядя в её глаза, ответила Катя. За её спиной мелькнул ярко освещённый автосалон.
— Игорь, мы документы там забыли! — вскрикнула Зоя.
— Ой! Извините, нужно вернуться, не ждите нас, такими рассеянными становимся.
— Мы не спешим, — Николай Павлович дал задний ход и повернул к салону.
— Спасибо! Так вы любезно с нами.
Игорь Васильевич поспешил ко входу, Николай Павлович с недоумением рассматривал в зеркале смущённое лицо пассажирки. Катя, не понимая причины его удивления, бросала на него вопросительные взгляды.
С заднего сидения раздался тяжёлый вздох, Николай Павлович и Катя одновременно обернулись, Зоя быстро перевела взгляд на приближающегося мужа.
— Забрал? Нормально всё?
— Нормально, — спокойно ответил Игорь Васильевич и закрыл дверцу, — думаю, ещё один кредит на нас оформить не успели.
— Куда нам ещё?
— Успокойся, — еле слышно попросил Игорь Васильевич, поглаживая её по плечу.
— Можем ехать? — спросил Николай Павлович.
— Спасибо, спасибо, можем.
В салоне повисло неловкое молчание.
— Потому я и просил тебя, Коля, подработать, что эту удавку пришлось на себя накинуть.
— Помню, помню, чем смогу…
— Дом моих родителей продали, нам уже не управиться. Детям он даром не нужен — ухаживать не будут, в негодность придёт и только. Купили им квартирку возле себя, так и нам спокойнее, и за Виталькой присматривать можем. Они ещё машину захотели, но у нас только на половину стоимости осталось, на вторую вот кредит взяли, будем тянуть потихонечку.
Николай Павлович перевёл на него ошеломлённый взгляд.
— По Космической к вашему дому удобнее подъехать?
— Да-а-а, — стесняясь неуместной искренности своих слов, ответил Игорь Васильевич.
Николай Павлович ощутил неловкость и Катин взгляд:
— Хорошо, именно там и поедем.
— Сколько новых уютных зданий на вашей улице — магазины, ресторан, спортклуб.
— Да, Екатерина, и здесь строят.
— Не для нас они — дорогущие! — обижаясь на спокойствие мужа, отрубила Зоя.
— Здесь уже можно останавливать. Спасибо, Николай Павлович, что помогли, что мимо не проехали, — Игорь Васильевич пожал ему руку, вышел и открыл дверь жене, смущённо глядя как она, неловко ёрзая, выходит из машины.
— Не за что! До свидания!
— Коля, я не понимаю тебя! Нельзя было с человеком поддержать доверительный разговор, посочувствовать, хотя бы пообещать помочь?
— Я пообещал, и, когда появится возможность, помогу. Но сочувствовать тому, кто сам занял проигрышную позицию и позволяет так к себе относиться, зачем?
— Какая проигрышная позиция? Он живёт в семье, хочет, чтобы с ним было комфортно, как может, решает возникающие в ней вопросы, да, некоторые из них требуют усилий. В чём ты его обвиняешь?
— Может, для комфорта следовало научить себя уважать, приучить к мысли, что к старости возможности будут ограничены?
— Это не кота к лотку приучить, а много лет ежесекундно взаимодействовать, с учётом характера, степени капризности, желания делать одно и полного протеста против другого.
— Согласен, но если не сеять никакой мысли кроме той, что родители только для «Дай!», наверное, только такой результат и возможен.
— Теоретически ты прав…
— Почему теоретически? Ты от своих родителей что-то требуешь?
— Что я могу от них требовать, смеёшься?
— Не смеюсь. Они могут свой дом продать, он ведь большой для них двоих, правда?
— Не понимаю, зачем мне это?
— Верно! А если бы ты была приучена к одной-единственной мысли, что родители тебе постоянно должны, требовала бы, несмотря на абсурдность ситуации. И они исключительно за свой счёт создавали бы комфорт в ваших отношениях.
— Не знаю, Коля, ты насколько прав, настолько и жесток в своих суждениях. В теории всё логично, понятно, последовательно, но ведь ты, так горячо любимый, не узнал собственного отношения к пожилым родителям и не воспитывал детей!
-27-
— Ма, я не понимаю! Ты живёшь в нашей квартире неизвестно с кем. Прихожу переночевать, тут такое.
— Ну, я тоже в Макдональдс в туалет зашла, а не в поисках новой о тебе информации.
— Причём тут это?
Ирина Ивановна засмеялась.
— Что за смех? Почему ты смеёшься?
— Борь, не я тебе отчитываться должна. Где это ты сейчас выступаешь?
— В перерыве между парами.
— Отлично! Ори на всю кафедру, пусть все знают о твоих проблемах.
— Мне всё равно, кто что знает, мне нужно куда-то после работы возвращаться.
— Возвращайся домой, договаривайся видеться с ребёнком или как там у вас заведено?
— Тебя так откровенно не интересуют мои проблемы?
— Интересуют, конечно!
— Так что мне делать?
— Боря, ты взрослый, прими сам какое-нибудь решение, чтобы ты себя за него уважал, нёс ответственность.
— А ты?
— Что я?
— Ты будешь молча смотреть, как я мучаюсь?
— Прекрати этот детский сад! На пару ещё не пора?
— Пора...
I was working
We were reading
I was suffering
We were seeing
I was crying
We were not doing
Боря нервно стирал столбцы предложений с доски: «Блин! Когда плохо, так и поговорить не с кем, и пойти некуда, а ещё вчера всем нужен был!»
Он выскочил за колонны фасада, почувствовал на щеках колкие мёрзлые капли, ударил ладонью по карману брюк, но вспомнил, что машина на СТО: «Да что ж такое? Теперь ещё с лохами какими-то на маршрутке ехать! И куда ехать?» Он быстро засеменил вдоль площади: «Подъеду на метро! С Пушкинской идти далеко, ладно, добегу — не сахарный!»
Возле порога Борю встретил коврик с уютной надписью “Welcome”.
Не отрывая взгляда от зеркала, Оля спросила:
— Сильно промок?
— Нет, чуть-чуть! — брякнул Боря, стаскивая пузырящиеся носки.
— В ванную отнеси сразу, пожалуйста!
— Хорошо. А ты куда собираешься? — глядя, как Оля красит ресницы, спросил он.
— С Витой в городе встретиться договорились.
— Начали общаться?
— Немного.
— Есть что поесть?
— Нет ещё, я не знала, что ты так рано можешь вернуться. Мультиварка стартует через три часа, как раз к моему и твоему приходу было бы готово.
— А что ты так спокойно разговариваешь? От тебя, вроде как, муж ушёл.
Оля посмотрела на босого Борю с мокрыми носками в руках.
— Ну-у, недалеко…
— Хорошо, хоть ты не унываешь, — вздохнул Борис, но сделав несколько шагов по холодному полу, взревел. — В этом доме у меня тапочки есть?!
Оля вздрогнула от крика, посмотрела ему вслед, он обернулся, их растерянные взгляды встретились.
— Есть, — удивляясь несоразмерности вопроса его эмоциональной окраске, спокойно ответила она. — Смотри.
Боря выхватил яркий шелестящий пакетик из её рук и быстро заглянул в него.
— Сколько они тут лежат?
— Года два.
— Почему я их не обувал?
— Сказал, что сначала старые доносишь.
Оля вернулась к зеркалу, Боря потёр рукой лоб, высыпал из пакета пару тапок, быстро обулся и зашагал в ванную.
— Когда ты домой придёшь?
— Что?
— Ну, хоть мультиварку в режим реального времени переведи.
— А ты дома, то есть, здесь будешь?
— Здесь! Я буду здесь!
— Понятно, понятно.
— Да что ж за пуленепробиваемое спокойствие? А когда оно приготовится?
— Через сорок пять минут.
— Мне тут что, половину пары провести?
— На твоё усмотрение. Соль добавишь, когда приготовится.
Неоднородная смесь желания успокоиться, поругаться, наесться и привлечь кого-то на свою сторону забурлила в Бориной голове, когда он уставился на дверь, закрываемую с той стороны. В кармане жужукнул мобильный.
— Светочка, здравствуй!
— Один, я один, могу говорить. Хорошо, а как вы там?
— Замечательно, замечательно.
— С мамой разговаривали. Ну, где? У неё дома. Потом выяснилось, что с ней бойфренд живёт уже год как минимум, я не знал, она никогда не говорила и даже не намекала…
— Не должна, считаешь? Разве мы ничем не связаны?
— Причём тут возраст? Эти отношения, это доверие, они навсегда.
— Нет, мне не очень понятно…
— Сейчас не у неё, сейчас дома, Оля ушла.
— Нет, — испуганно уронил он и резко обернулся на дверь, — придёт, часа через три, встретиться с однокурсницей поехала.
— Нет, ничего не говорила, не просила.
— Почему она должна плакать?
— Не может найти? Видимо, смогла.
— Да что ты рассказываешь? Нет у неё никого — она годами дальше магазина не выдвигалась!
— Что ты заладила: «нет в ней, нет в ней», значит, есть, раз такая спокойная. Какой закон? Успокойся!
— Психологический, а-а-а, ну, не сработал в этом случае, значит.
— Вот нашла и опёрлась! Откуда я знаю? Понятно только, что не на меня.
— Хватит! Когда встретимся?
— Я теперь всегда смогу, записывайся куда угодно.
— Хорошо, посижу, покормлю, приготовлю, как обычно.
«Блин, как всегда, ни о себе, ни о нас, ни о ребёнке — чёрте о чём! Законы духовные, законы психологические, тьфу! Не противно ото в людях копаться? Ещё и так коряво!» — Боря ослабил галстук и с тяжёлым выдохом уселся в кресло перед телевизором.
— Привет, Оль!
— Привет!
— Раз уж мы в центре, походим по магазинам, ты не против?
— Нет, — слабо-обиженно ответила Оля.
— Ну, совсем чуть-чуть, ладно? Два, три — максимум.
— Ладно-ладно, не проблема.
— Себе что-то новенькое присмотришь?
— Дома одежды полно, только перебрать, подготовить к сезону.
— Обувь нужнее?
Оля уверенно согласилась, вспомнив, как пару дней тому, продумав наряд, вполне довольная собой вышла на улицу. Глядя на неё, идущая навстречу дама громко спросила у мужчины рядом: «Ты хочешь, чтобы и я так выглядела в сапогах, которые ты три года назад подарил?»
— Тогда в обувной зайдём!
— Только тоже ненадолго, ладно?
— Если тебе сегодня результат не обязателен, задерживаться не будем.
— Хотелось бы задержаться, но среди женщин, где каждая бесцеремонно рассматривает тебя с целью убедиться, что она намного лучше, как-то неприятно.
— Ты так восприимчива.
— Только недавно начала замечать реакцию людей на себя, раньше безразлично было — жила в своих заботах и только!
— Люди реагируют так, как могут себе позволить, смысл на их реакции переключаться? Кстати, ниже магазинчик женской обуви, но продавцы — только мужчины, атмосфера совсем другая, можем в него зайти.
— Интересно, давай зайдём!
— Ви-та-а-а! — закричала прохожая с другой стороны улицы и кинулась через дорогу между резко останавливающимися и сигналящими машинами. — Сам такой! — уже стоя на тротуаре, не поленилась отвесить она последнему пропустившему её джипу. — Привет, Вит!
— Привет.
Подошедшая начала тщательно рассматривать её с головы до ног.
— Ну как, ты после того замуж не вышла?
— Да я и не собиралась.
— Ботиночки у тебя хорошие, как дорогие смотрятся.
— Хоть что-то.
— А я верю, верю, что ещё выйду замуж! — заметив на Олином пальце кольцо, девушка поджала губу и уставилась на её лицо.
— Ты у меня книгу в прошлом году брала? — серьёзным тоном спросила Вита.
— Ой! Та брала! Заумно там всё так, я вот на лекцию случайно попала, там психолог всё понятно рассказывала, что с ними делать. Их три всего, но я только на одну попала, вот если бы на все…
— И тогда неизвестно, кому повезло. А книгу пора вернуть.
— Отдам, отдам, не переживай! Лекции такие… по практическим шагам…
— Извини, мы пойдём.
— Ага, — выдохнула несостоявшаяся собеседница и грустным взглядом провела быстро скрывшиеся за дверью магазина фигуры.
— Хорошо, что мы её не в магазине встретили, даже не знаю, как бы мы от неё спасались.
— О каких лекциях она говорила?
— Ты не сталкивалась?
— Успела без лекций замуж выйти. А что там?
— Собирают дамочек, группируют по запросам, от них исходящим. Одним рассказывают, как познакомиться с «серьёзным» мужчиной для «серьёзных» отношений. Другим — как завести любовника. Третьим — как от имеющегося дорогие подарки получать за расточаемую на него красоту и лучшие годы жизни.
— Ты серьёзно?
— Полностью.
— И кто такое рассказывает?
— Психологи, а точнее, люди, которые себя ими считают. Одна мне сообщила недавно, что между лекциями, рисованием картин, изучением третьего иностранного и музыкальной школой для взрослых пишет книгу о взаимоотношениях мужчины и женщины. Я попыталась уточнить, с какими авторами она знакома, что сама читала. В ответ она посмотрела на меня, как на обездоленную, и сказала, что по данному вопросу знает всё!
— Так легко каждый может нести, всё что знает?
— Что не знает, тоже может.
— А музыка с рисованием причём?
— Это иллюстрации к развитости её личности, на которые должны собраться менее удачливые матрёшки, ожидающие, что и они такими станут, когда подходящего мужчину найдут.
— То есть, мужчина сам по себе уже не привлекателен?
— На словах, возможно, привлекателен. Картинки успешной жизни сначала — реклама, потом — средство объяснить причину неудач, если у клиентки что-то пошло не так. Советчице легче дать задний ход, мол, нет развития твоей личности — не того выбрала, подумай, может, с ним лучше расстаться. Если расстанется, будет нуждаться в поддержке, советах, новых лекциях, если не расстанется — тоже. Образуется замкнутый круг — дамочка и так не жила своей головой, теперь точно начать не сможет. Выгодно, чтобы она не чувствовала себя, не осознавала, что её счастье, возможно, не в том, что предлагает консультант.
— Этому никак нельзя противостоять?
— Обладая независимым мышлением и собственными взглядами на себя и свою жизнь — можно, но это в разы сложнее, а большинству недоступно вообще. Каждый с неудовлетворёнными потребностями очень уязвим, при этом он не обязательно глуп или слаб, но ослеплён желанием, отключён от самоощущения, от критического анализа своей ситуации и качеств личности, которая обещает ему решение. Под сладкие обещания исполнения желаний ему легко «впаривается» всё, что угодно. Схема давно известна: человеку навязывается некий стандарт воплощения собственных чаяний, он на него соглашается, а если не достигает, ему становится нужен кто-то, кто к этому «идеалу» подтянет. Для особо впечатлительных — сможет привлечь сверхъестественные силы, раскинуть карты, читать по звёздам. Религия с этой ролью который век справляется. Но акценты в последствиях расставляются по-разному, там — терпи, здесь — меняй, пока не достигнешь желаемого, но и там, и там, пока клиент не удовлетворён, консультанты зарабатывают.
— Управлять человеком настолько легко?
— Да, увы. На работе, в семьях манипуляций ещё больше — есть люди, по своим врождённым качествам тяготеющие наживаться на других, выжимать из взаимодействия только то, что им нужно, игнорируя потребности окружающих.
— Слушай, такие складные объяснения у тебя, ты сама лекции не читаешь?
— О независимом мышлении? Нет, к этому можно только самому прийти, с чужой подачи подобное не воспринимается. Мы в обувном магазине оказались, стоим здесь, беседуем, ни на что не смотрим.
— Да-а? — изобразила удивление Оля. — Надо пройтись посмотреть, раз зашли.
— Посмотрели, теперь бы иметь, за что покупать. Хочу на работу устроиться — надоело дома сидеть, одно и то же изо дня в день, и как дальше с Борей... — Оля осеклась и подняла взгляд на Виту.
— Устройся, конечно, если желание возникло.
— Желание? Скорее, необходимость…
— Если бы все, у кого есть необходимость, обзаводились желанием... Ещё в один магазинчик и по домам?
— Ну, если есть желание...
Услышав, что открывается входная дверь, Боря вышел в коридор и с напускным безразличием спросил:
— Быстро ты, встреча не удалась?
— Почему? Удалась!
— Где были?
— По магазинам прошлись.
— Купила себе что-нибудь?
— Нет, просто с Виткой бродила.
— А она?
— Не помню, кажется, тоже нет.
— Подгружала тебя идеями, что аж покупки не запомнились?
Оля удивлённо подняла на него глаза.
— Она всегда такой была — смущала парней своим интеллектом, вроде, без зла, без желания поставить себя выше кого-то, а осадочек оставался…
— И вправду, что мелкому мозгу доступно, кроме сбора осадков?
— Ух ты, Оленька, как заговорила! Идейки понравились?
— Понравились.
— И что, осадочек не мешает?
— Я же не мальчики из твоей студенческой юности.
— Не ожидал от тебя, признаться, не ожидал. Она так и не вышла замуж?
— Борь, ну ты, прям, как совсем безыдейная девочка, на уровень выше не поднимаешься?
— Думаешь, оно того стоит?
— Подумаю, тебе сообщу.
— Угрожающе звучит, — Боря, деланно вздрогнув, пропустил Олю в кухню.
— Не бойся! Ты покушал?
— Да, из миски с подогревом.
— Очень остроумно! Наелся?
— Как сказать, могу с тобой повторить, — он быстро уселся за стол.
Оля открыла мультиварку и остановилась.
— Я, кажется, есть не хочу.
— Возьми немножко, положи на тарелочку, посмотри и захочется. Так о чём вы разговаривали?
Оля развернулась к нему.
— О лекциях, как замуж выйти.
— Теперь понятно, а то я заволновался, что ты в мир высоких идей подалась.
— А что я, будучи замужем, подобным интересуюсь, тебя не беспокоит?
— Наверное, не успел всего осознать… Так что Витка рассказывала, что они для лохушек, небось?
— Для тех, кто не обладает самостоятельным мышлением.
— Я о том же, просто языком безыдейных девочек сказал. Что ещё?
— Борь, я не понимаю твоего к ней интереса.
— У меня — не к ней, у меня — к идеям. У неё, знаешь, такая способность, видеть в ситуации больше, чем другие, не то, что другие.
— Глубже, чем другие, я бы сказала. А почему это ты, так восхищаясь её способностями, в своё время не перешёл к личному с ней общению?
— Дом это дом, а не кафедра философии…
— При чём тут сразу дом? Можно было и в каких-то других форматах общаться.
Боря с заметным усилием вынырнул из задумчивости.
— Нет. Тогда я думал только о девушке, с которой буду жить вместе, с которой будет семья.
— Серьёзно?
— Серьёзно, у меня другой мысли и не было.
— А эта мысль у тебя откуда?
— Не знаю, она всегда со мной, я всегда был на это нацелен.
— Заметно! Она и до сих пор с тобой. Но если ты нацелен, кто-то тебя нацелил?
— О! Вот это уже Виткин «срез» ситуации, узнаю.
— Она как-то так и сказала, что ориентируют человека на исполнение его желаний в лучшем виде, а под шумок проталкивают ему выгодное для себя. И это могут все, кто в меньшей или большей степени склонен к манипуляции.
— Она в своём репертуаре. С такой умной рядом напрягаться бы пришлось постоянно.
— Откуда ты знаешь? Может, такой мыслительный потенциал, обращённый на тебя, облегчил бы твою жизнь?
— Не уверен. А ты что думаешь?
— Что я всегда хотела семью, в которой обо мне будут заботиться, будут любить, я получу то, чего у меня никогда не было, а мне подсунули тебя… обстирывать, обслуживать, род ваш великий продолжать…
— И ты ничего из желаемого не получила?
— Поначалу, казалось, что получила, потом выяснилось моё неполное соответствие условиям. Цвета радуги полиняли, у мамы твоей риторика изменилась, ну и ты на семью в «своём» представлении продолжаешь целиться. Это ж она скоро примчится рассказывать о своих мне благодеяниях, что я в её квартире живу.
— Какая разница, что она говорит, живи.
— В качестве кого? Твоей обслуги? Что я слышу от тебя: «Где носки, где тапки, что поесть?» Я даже не человек, у которого спрашивают: «Как настроение? Как себя чувствуешь? Чего хочется?»
— И что ты планируешь?
— На работу устроиться, комнату снять.
— Оль, ты никогда в жизни не работала.
— Конечно! Вам так удобней было.
— Да-а, сила просвещения огромна, скажешь Витке спасибо.
— Скажу! Только я и сама об этом догадывалась, просто не могла поверить в то, что могу оказаться права, могу что-то знать, понимать, чувствовать…
— Поздравляю! Классно, наверное, поверить в свои силы?
-28-
Лопатки снова опустились на ажурную мягкость простыни, руки выпрямились вдоль тела и, не успев замереть, потянулись к отяжелевшему затылку. Пальцы замирают на вспотевшей шее: «Да что ж такое? Не падает». Ещё несколько подушек — шея выгибается едва не под прямым углом: «Сейчас, сейчас станет легче». Пара шумных вдохов, учащённое пульсирование за грудиной, взгляд обречённо фокусируется на самом дальнем краю неосвещённой комнаты. Справа хлопает дверь, слева доносятся звуки её вращения на петлях. Перед взглядом открывается маленькая дверца, через ярко освещённый порожек переползает младенец, а вместо скрипа петель раздаётся звонкий смех. Шейные позвонки, удлиняясь, болью вонзаются в темя и ещё сильнее выталкивают взгляд вперёд. Из оседающих смешинок выплывает васильково-голубая дверца, до пояса скрывающая седую женщину с красивыми морщинами на смуглом лице и длинными рельефными пальцами, уложенными на ручку снаружи: «Ты боишься войти?» Капли пота обжигают хребет, выталкивая вперёд плечи — в проёме высокой белой двери с полустёртой надписью на табличке украдкой целуется парочка за школьной партой. Резко выдвинутые назад локти подхватывают тяжесть плеч — вдруг он сам переступает порог новой двери, потом — ещё одной, потом — ещё одной. Качая смешными оттопыренными косичками, перед ним бежит девочка, он протягивает руку остановить её, но она ускользает ввысь. Боль расползается от затёкшей у основания черепа головы до ключиц, он открывает поднятые к потолку глаза, судорожно сжимая в ладонях складки тонкой простыни, звук непроизнесённого имени прямо из грудной ямки свинцом падает вниз. Он поворачивается, касаясь щекой пропитанной потом наволочки, заглядывает под кровать, судорожно шаря ладонью по ласковым ворсинкам ковра: «Упало, упало».
— Коля!
Он поворачивается — испуганный взгляд на покрасневшем лице, голова беспокойно тычется в нагромождение подушек.
— Что с тобой?
— Давление поднялось, уснуть не мог, перед глазами такое носилось…
— А сейчас как себя чувствуешь?
— Упало по ощущениям, но спать уже некогда, похоже. Который час?
— Будильник не звонил, семи ещё нет.
— Всё равно пора вставать на работу.
— Подожди!
— Чего ждать? Это в первый раз?
— Нет, но приступов у тебя давно не было.
— И этот пройдёт, надо встать, чайку слабенького хлебнуть, съесть чего-нибудь ненавязчивого…
— …кардиограмму сделать.
— То уже лишнее, — он махнул рукой и быстро сел на кровати.
— Не лишнее. И куда ты так разогнался? Я приготовлю, — Катя, поднимаясь, замялась на последнем слове, — ты из-за меня разволновался, обиделся?
— Брось! Из-за себя, — он мягко потянулся к халату на краю кровати.
— Прости, Коль, мне не надо было так говорить. Ты иногда таким резко самоуверенным бываешь, что хочется тебя осадить.
— Получилось, — поднимаясь и набрасывая халат на плечи, подтвердил он.
— Прости, пожалуйста, прости!
— Это уже лишнее, правда! У тебя своё мнение, у меня своё, невозможно постоянно сюсюкаться, как малыши. Пойдём лучше попробуем съесть чего-нибудь.
Зазвонил будильник.
— Семь. Уже пора.
— Может, тебе сегодня не стоит выходить?
— А как же кардиограмма?
— И всё-то ты знаешь, как обосновать.
Николай Павлович не спеша вышел из спальни, Катя быстро поднялась — кухня зашумела привычными утренними звуками, в ванной несколько раз щёлкнул замочек, она побежала на звук:
— Коля, не закрывайся, пожалуйста!
— Не переживай, всё в порядке.
— Коля, я волнуюсь, — расставляя чашки и тарелки, напряжённо выдохнула Катя, когда он сел за стол. — Останься дома, пожалуйста.
— Катюш, мне не настолько плохо, работы сейчас много, кабинет новый, надо идти.
— Ты почти не спал.
— Полночи, думаю, проспал. Если бы ещё не марилось всякое.
— Что тебе снилось?
— Начал под голову подушки подкладывать — стали какие-то лестницы, двери мерещиться, потом — женщина, подростки, ребёнок.
— Тебе Полечка снится?
— Ну не надо, успокойся, — он придвинулся к ней, обнял её за плечи, — не надо.
— И мне иногда снится беленькая наша девочка и всё вокруг неё светлое, чистое, — Катя выскользнула из его объятий и молча отёрла слёзы. — Не надо, в самом деле, не надо тебя волновать.
— И самой расстраиваться ни к чему.
— Начинай кушать, раз ты на работу собрался, пойду рубашку тебе приготовлю.
— Ка-тя! — громко позвал он через несколько минут.
Она выбежала из комнаты.
— Что?
— Я не хочу тут один сидеть.
— Что меняется, когда я рядом?
— О чём ты говоришь?
— Не могу в себя прийти после твоих слов возле той ямы, той лужи.
— Почему? Думал, наоборот, тебе понравится рассказ.
— Мне понравился, но зачем я в твоей жизни? Всегда думала, что понимаю тебя, что тебе легче со мной, чем было бы без меня.
— Мне немыслимо без тебя, и ты меня любишь, и ты меня понимаешь.
— Ладно, Коль, рубашку догладить нужно.
Молча рассматривая завиток узора на скатерти, Николай Павлович опустил ложку в пустую тарелку, вытер салфеткой рот и вышел из-за стола.
Уже в прихожей глядя на её смущённое лицо, он попросил:
— Кать, не расстраивайся, пожалуйста, ни по какому поводу — всё шло как шло, жилось как жилось, тебе не за что корить себя, не делай этого. Обещаешь?
— Угу, — односложно уронила она, едва скользнув взглядом по удаляющейся спине.
Возле только что открывшейся и закрывшейся двери собралась приятная прохлада, Катя сделала шаг по коридору — душно, в столовую — вязкое тепло с запахами еды, перешла в кухню — жар от остывающей духовки, вошла в гостиную — спёртый воздух. «Надо проветрить, пустить кислород по комнатам», — она открыла окна, быстро стало ощутимо прохладнее. «Да, в коридоре теплее», — покидая остывающую гостиную, она подошла к зазвонившему телефону.
— Мамочка, привет, как ты?
— Умничка моя, не унываешь.
— Чем ты по нашему поводу взволнована?
— Мам, ну это всего лишь твой сон, нельзя придавать ему такое значение.
— Не волнуйся! И у меня, и у Коли всё хорошо.
— Мам, я вздохнула, потому что вышла из свежей комнаты в узкий коридор, где воздуха меньше. Совершенно не пытаюсь тебя обмануть. Так что тебе снилось?
Катя беззвучно выдохнула сквозь сложенные возле губ пальцы.
— Мне тоже Полиночка иногда снится… и Коле, — водя ладонью по раскрасневшейся шее, она неслышно заплакала.
— Слышу-слышу, мам. От церкви что-то изменится или сможет обратно вернуться?
— Хорошо, не будем спорить. Если хочешь, вместе пойдём.
— О нём я сама беспокоюсь, он меняется, скептичный становится. Высказывается с одной стороны справедливо, с другой — уж очень категорично. Потом вдруг — слабый, беззащитный, как будто помощи, понимания ищет. О родителях вдруг начал рассказывать, улицу, на которой жил, показал. Он совсем другой в своих переживаниях. Раньше я страдала от того, что многого о нём не знаю, а теперь, когда он открывается, мне не по себе становится — зачем я ему нужна, если он один выносил в себе столько нетронутой боли?
— Мне казалось, он тоже изживает со мной горести, ему становится легче, как мне становилось с ним...
— Нет, обрывает разговоры, говорит, что я его понимаю.
— Хорошенькое так и есть. Разве только со стороны…
— Ладно, мам, всё будет нормально, жаль, что ещё и тебя разволновала.
— Да, попробую, и ты не волнуйся.
Грязь всё хлюпала и расквашивалась под ногами.
— Вот ещё и машину так далеко от входа оставить пришлось, — обходя по бордюру залитую дождём стоянку, жаловался Николаю Павловичу врач из соседнего отделения.
— Зато солнце вот-вот выглянет.
— Мы будем уже на работе, обратно снова под плотными облаками плыть.
Фойе неожиданно показалось Николаю Павловичу более светлым и просторным. Обычно сомнительной чистоты плитка на стенах и полу вдруг стала белее, завитки перил, покрытые бесчисленными слоями облупившейся краски, смотрелись аккуратными, складываясь в стройный рисунок. Ожидавшие подошли к лифту.
— Всего одну лампочку добавили, а какой эффект! — восхитился кто-то из стоящих рядом.
— Спешите присоединиться чувствами к приятному, светлому — так легче жить.
— Легче жить, находясь в приятном и светлом, но где же его на постоянной основе раздобыть?
«Деревянному по пояс соображать нечем, ему совсем легко! А мне от чего полегчает?» — подумал Николай Павлович, молча глядя на рассуждающих. Он шагнул в лифт, в открывшуюся на следующем этаже дверь заглянуло перепуганное лицо: «Вниз?» — «Вниз!» — резко ответил доктор с плотно обхватившим покрасневшую шею воротником и резко подался вперёд. «Вы чувствуете, что лифт движется вверх?» — не смог унять раздражения он. «Да, мне вверх и надо было, я слово попутал». «Надо же, вниз согласился, а тут взяло и подняло!» — Николай Павлович вышел, дверцы лифта громко стукнули у него за спиной, он переступил порог отделения, через пару шагов повернул в коридор и понял, что раньше этот звук настигал его только здесь, за поворотом. Он оглянулся, промеряя пространство, и пошёл, больше не попадая в прежний ритм, как по щиколотку в воде, которая скрывает след сделанных шагов навсегда.
Из курилки нёсся слабый рокот направленных друг на друга мужских голосов, пациентки, придерживая животы и воротники халатов, стояли у входа в туалет, сутулая фигура быстро удалялась от ординаторской.
— Николай Павлович, почему вы не закрыли дверь? — вдруг громко окликнул его заведующий.
Он обернулся и, ожидая пока тот приблизится, перебирал в памяти все, виденные им с утра, открытые двери.
— В кабинете, где вы были вчера, забыли?
— А-а-а, — в полуулыбке растянул он, — забыл, извините.
— Хоть плотно захлопнули, ночью никто не зашёл, утром рабочие ключ искать начали, позвонили мне. Куда же вы так спешили? — мягко полюбопытствовал заведующий.
— Жену встретить в городе нужно было.
— А-а-а, жену! Только больше не забывайте двери закрывать — не с руки мчать туда спозаранку. Помещения по плану отстроили?
— Да, оборудование становится, как наметили.
— Скоро приступим, скоро приступим. Хорошего дня вам!
— Хорошего дня!
Николай Павлович вошёл в ординаторскую. Под разрозненные голоса коллег и хлопанье дверей он быстро переоделся и вышел на обход. Аккуратная стопочка историй болезни на столе, ручка, привычным жестом зацепленная за нагрудный карман, скрип стола, о который он опирается, поднимаясь, шаги к двери — всё как будто спешило успокоить его своим знакомым видом, звуком, количеством.
Своды коридорного потолка, проёмы дверей палат стали казаться ему ниже, а интонации голосов — выше. Из неясного гула за дверями обязательно вырывался самый верхний, самый высокий тон, чтобы растворяясь в ушной раковине не исчезнуть, а расползтись за линией волос, погружая мозг в оглушительно-звенящую тишину.
Чередуясь с расспросами и осмотрами, истории обернулись в его руках от первой к последней. Он спешил выйти из палаты, боясь нового погружения в необъяснимо-приятное внутреннее безмолвие.
— Доктор! — кто-то окликнул его, словно издали.
Он обернулся — пациентка из дальнего угла палаты смотрела на него василькового цвета глазами с хрупкой прямотой его стебелька.
— Доктор, вы не могли бы подойти?
Николай Павлович кивнул на стопку историй в своих руках, мол, вас среди них нет, однако направился к ней. Пухлой ручкой она быстро собрала с плеч длинные волосы, опустила её на живот, повернула голову к плечу и, смущённо глядя вниз, пролепетала.
— У меня мастит был, разрезали... Может, вы посмотрите? Мне долго нельзя здесь, — и улыбнулась с тихой радостью, словно виновник этого «нельзя» на мгновение оказался у её груди.
Николай Павлович присел возле койки, почти уверенный, что от её круглого лица, тихой улыбки, ямочек и румянца на щеках повеет младенческим запахом молочка и творожка. Но пахнуло медикаментами, и он поспешил согласиться.
— Нельзя, вам, конечно, нельзя! Здесь я посмотреть не могу, в перевязочной ваш доктор посмотрит.
— Он во вторую смену, а мне-то нельзя… — она с выразительной теплотой продолжала смотреть на грудь.
— Я узнаю, свободна ли перевязочная, — снисходительно вздохнул Николай Павлович и быстро вышел.
— Игорь Васильевич, приветствую! Извините, что в нерабочее время. Пациентке с маститом домой нужно…
— Понял, — усмехнулся Николай Павлович, — да, посмотрел, порядок.
— Выписать после консультации специалиста по грудному вскармливанию? — он опешил так, словно услышал о его существовании впервые.
Несколько коллег обернулись на него, один удивлённо зашептал.
— В родильном отделении аж две бегают.
Он кивнул в сторону шёпота и быстро завершил разговор.
Выходить и вправду пришлось под плотно нависшими облаками, вспоминался утренний прогноз бежавшего рядом коллеги: «Пророк! Тучи висят, никак не разродятся, никак не хлынет! Хотя пусть лучше так, чем под дождём».
Николай Павлович сел в машину и осторожно выехал на проспект: «Спешить явно не стоит при такой видимости». Оказавшись в размеренно тянущемся потоке машин, он быстро понял, что не он один так решил. Прибавил мощности обогреву, расстегнул пальто и, окидывая взглядом десятки огоньков фар перед собой, спокойно вёл машину вперёд. Занудившись благоразумной скоростью, он свернул в боковую улицу и сразу очутился в темноте — исчез свет фар едущих впереди машин. На переплетение троллейбусных проводов и угрюмые стены промышленных зданий скупо разбрызгивал жёлтый свет фонарь. «Раньше повернуть нужно было!» — досадовал он, но продолжал ехать. Притормозив перед лужей, он съехал с её края и остановился — замерший мотор не издавал ни звука. Николай Павлович неохотно вышел, половина правого колеса виднелась над мутной гладью, левое — скрылось под ней полностью. Он чертыхнулся и, оглядываясь вокруг себя, начал искать кого-нибудь взглядом. Промозглая мгла чуть рассеивалась светом фонаря, но совсем не отступала от направленных в неё глаз. Рука сжалась и разжалась, словно стесняясь своей глупости после включения аварийки. «Всё равно здесь никого нет!» — издеваясь, сигнализировал слух, улавливая шум, несущийся с основной дороги. «Туда!» — Николай Павлович вернулся на проспект, поднял руку — машины как будто нарочно увеличили скорость, чтобы лихо проскакивать мимо него. «Не может быть, неужели никто не остановится? — пересчитывая взглядом четыре ровные полосы движения в белых и красных огоньках, не мог поверить он. — Вон забегаловка какая-то с автомобильными запчастями, может там кто-то есть?» Но витрина темнела, и пластиковая баклажка из-под автохимии усилиями ветра пыталась сорваться с перил. Он снова посмотрел на движущийся огнями проспект, на несущиеся под автоэмалями куски стали, мчащиеся мимо него, опустил руку, ссутулился и вернулся к машине — в тишине и мраке вокруг неё ничего не изменилось.
«Придётся к соседней улице идти — там, наверное, транспорт останавливается, таксисты стоят», — тёмный переулок вывел его на испещрённую ямами и колдобинами площадку, окружённую обшарпанными железными будками. В самом дальнем углу трепетала под ветром отогнутая стенка заброшенного киоска для продажи троллейбусных билетов. Ветка мощного дуба врастала в крышу загаженного павильона остановки. Скрученные листья боязливо летели вниз, не желая искать приюта на остывшей земле, укладывались вдоль тротуара на слетевшие ранее.
Вдруг по спине и плечам забарабанили капли дождя, тоненькие мягкие струи сочились с волос на щёки, особо настойчивые, миновав надбровные дуги, лихо скатывались по переносице. Он вытер рукавом намокшее лицо, посмотрел на приближающийся край освещённой улицы. Из перекошенных на сторону дверей маршруток выскакивали люди, тряся над головами сумками и нераскрывающимися зонтиками. Поскользнувшийся на бордюре парень крикнул: «Подожди!», вскочил и, размахивая руками, побежал за автобусом.
Таксисты запрыгивали в машины, прогретые кабины загорались жёлтым светом. Красные ёлочки перед стёклами, как уютные детали незнакомого интерьера, убеждали, что люди в нём непременно счастливы. Мгновенно уверовав в силу картинки, он никого не потревожил, ни с кем не заговорил, перешёл дорогу и устремился вперёд по широкой ровной улице. Через несколько шагов он промок до состояния «уже всё равно» и продолжил размеренно шагать, оставляя позади себя чёрные стволы деревьев, усохшие чернобривцы на клумбочках, тонкие каменные полосы на фасадах зданий, окна, вспыхнувшие тёплым светом. Он понимал и не хотел понимать, куда идёт, влекомый воспоминаниями о людском равнодушии и фатальности произошедшего.
-29-
— Ой, что это я сегодня нерасторопная такая, — поставив сумки у самой стены, посетовала Ирина Ивановна.
— Замочишь стены, испачкаешь, а потом на нас говорить будешь!
— Сына, сыночка, не серчай, не у квартирантов же я пришла жильё принимать.
— И то хорошо, — еле слышно процедил Боря и послушно подставил щёчку для маминого цёмика.
— Ты дома сегодня?
— Как видишь.
— И я к вам, так сказать, неожиданно. Люблю на вашем рынке скупиться, мне он больше, чем свой нравится. Оживление, продукты сельские, народ простой.
— Как на первомайской демонстрации.
— Типа того, но с большей пользой. Не люблю только, когда всякие дамочки разряженные в узких пальто и фасонных ботиночках щеголяют. Всё думаю, ну чего ты такая расфуфыренная сюда пришла, ходишь, глаза опускаешь, на обычных людей посмотреть стесняешься и они на тебя как на куклу витринную глядят, только что рты не разевают. Приятно им, что ли?
— Видимо, научены женщины за собой ухаживать, себя подавать…
— А одеваться к месту, стало быть, не научены, — никому не адресуя реплику, успокоила себя Ирина Ивановна. — А где эта твоя?
— На работе.
— Вона как? И куда взяли-то такую?
— А что ты её всё время оскорбить норовишь? Взяли и взяли, подошла им значит.
— Так я ж и спрашиваю, кому подошла.
— Кому подошла, те и взяли. В подробности она не вдаётся, как я понял, в офис какой-то устроилась.
— В офисе карьеру строить собралась! А мы её годами обеспечивали, не для того, чтобы она здесь самовыражалась?
— Что тут было, прошло уже.
— Та не вздумай ты из-за неё расстраиваться — не пропадёт такая нахалка. Нашей добротой попользовалась, опыт имеет, других найдёт. Ты лучше расскажи, когда ребёночка видел?
— Вчера.
— И как он?
— Спал. Света его перед моим приходом укладывает, чтобы мне легче было и я его только покормил, как проснётся.
— Что там у вас за порядок такой? Никак понять не могу, — озадачивалась себе под нос Ирина Ивановна.
— А фотографии его у тебя есть? Сейчас все только и клацают, только и клацают.
— Нету, не сохранял себе на телефон, чтобы…
— Скольких радостей ты из-за неё лишился! Пусть съезжает, наверно, карьеристка новоявленная.
— Чем она мешает?
— Тебе, сынок, она мешает, только тебе! Квартира освободится, ремонтик освежить, и смело свою женщину с ребёнком приводи, хозяином себя чувствовать — совсем другое дело!
— Света с ребёнком будут жить там!
— А ты к ним почему не переедешь?
— В однокомнатную?
— Так сюда забирай! Не пойму, в чём дело!
— Такая семья, такие правила.
— А что, кстати, у неё за семья?
— Отца нет, давно ушёл, её одна мать воспитала.
— А ты с ней разговаривал?
— Ну, видел пару раз, о чём с ней разговаривать?
Оля обвела взглядом столы и высокие спинки офисных кресел, втиснутый в угол подоконника цветок с мелкими листиками на упругих стеблях, «пробежалась» по полосочкам ламината, легко провела рукой по выключателю и провернула ключ в тяжёлом замке.
Недвижимый влажный воздух нагнал её сразу за крыльцом, она расстегнула пальто и, развязав пояс, несколько секунд держала его края на манер детской скакалки, потом засмеялась и подняла голову, чтобы глубже вдохнуть.
По обе стороны — пятиэтажки, скрываемые густыми кронами деревьев до второго этажа. Вот бы перенести внутрь себя ощущение нежного неранящего света их окон, тепло отшлифованных временем кирпичиков без углов и шероховатостей, постоянное спокойствие затянутых илом водостоков.
Шаги гулко зазвенели под сводами массивной арки, тропка, среди прижимающихся к земле трав, выводила к силуэту раскидистого дерева, за чёрными ветвями которого лежали белые полосы перехода. «Неужели когда-то всё это перестанет наслаждать, станет обыденным, превратится в банальный асфальт, стройматериалы и зелёные насаждения?» Она качнула головой, чтобы изменить направление мыслей.
Стены входа метро, поблескивая конденсатом вдоль алюминиевых краёв, окружали бурые от пятен влаги мраморные ступеньки. «Там душно!» — объяснила она себе повод для ускорения шага и выхода на широкий проспект.
Над сизо-чёрными полосами асфальта не останавливались огоньки машин. Оля как будто влилась в непрерывность их появления, не чувствовала себя одиноко идущей, а только ускоряла ход, отдаваясь ощущению силы и радости движения. Ей вспомнился последний школьный день рождения, когда усыпанные снегом тротуары блестели на солнце, а вокруг неё было тепло и неповторимо ярко, и ещё — то внутреннее чувство беспрепятственности движения к желанной цели при полной исключённости неудач.
Проспект, который всё её детство криво огибал растущее посреди него дерево, преобразился в гладкую размеченную полосу, по которой она не шла, а, казалось, летела, возвращаясь к себе той маленькой, юной.
— Какой код подъезда? — дрогнув от неожиданного соприкосновения своих ощущений с позабытой реальностью голоса матери, козырька, низко нависающего над входом, и узеньких перил вдоль крохотной лестницы, спросила она.
— Ты ждала меня? — услышав знакомый вдох перед ответом, встревоженно спросила Оля.
— Очень ждала…
-30-
Над рабочей поверхностью кухни вспыхнули галогеновые светильники.
— Ух! Какой торжественный момент!
— И важный! — подняв указательный палец вверх, заметила Света.
Боря послушно кивнул.
— Чтобы ты так не волновался, для первого кормления разведёшь кашу грудным молоком, вот оно. А пока на воде сам попробуй приготовить.
— На молоке оно точно так будет?
— Та не волнуйся, — на одном дыхании произнесла она и чмокнула в щёчку склонившегося к столу Борю. — Давай! Берёшь воду не горячее пятидесяти градусов, добавляешь в неё пять ложек каши из этой коробки…
— А другие коробки есть?
— Нет. Не волнуйся, ты ничего не перепутаешь. Размешиваешь ложечкой, комочками она не берётся. Проверяешь, чтобы не слишком горячая, и кормишь.
— Ага, ага, — закивал Боря, — а добавить в неё что-нибудь вкусненькое нужно?
— Ему и так вкусненько. Конечно, со временем будем добавлять. Ты, прям, на перспективу мыслишь, молодец! Он растёт, возможности его восприятия увеличиваются. И вообще, не нуди, Борь! Все кормят, потом перестают кормить, переживают это и дети, и родители!
— А тебе обязательно именно сегодня с кафедрой завязываться, может, она подождёт, ребёнок важнее?
— Не подождёт! Это прекрасная возможность сейчас прозвучать! Моя преподавательница мне такую шикарную возможность устроила, а я возьму и откажусь, потому что не могу годовалого ребёнка от груди отлучить? Не смеши меня, и сам думай адекватно. У нашего ребёнка есть родители, которые успешно о нём заботятся и всё успевают! Ты вот работаешь, например, а не в декретном отпуске, верно?
— И куда бы, интересно, я мог с кафедры деться, и кто бы диссертацию защищал?
— Ну вот, и я о том! Тебе нужно твоё индивидуальное развитие, мне — моё. Всё честно, всё поровну. Ты мне помогаешь, я — тебе, вместе растим, у нас чудесный ребёнок!
Крохотная кухня, в которую вливаешься по узенькому коридорчику, застеленный уютной скатертью стол, мягкие солнечные лучи, пронёсшие сквозь оконную раму тепло, покидающее воздух на ближайшие полгода. Оля с удовольствием смотрела в книгу, то ложкой, то рукой поднося ко рту компоненты завтрака. Другая рука то расслабленно повисала на колене, то переворачивала страницы. Клубочек салфетки сминался и попеременно скакал перед ней, едва-едва минуя попадание в тарелки или чашку. Оля увлечённо переворачивала страницы с давно забытым чувством удовольствия, вспоминать, сколько она не испытывала его, ей было страшно до дрожи, и она гнала эту мысль, всё быстрее листая страницы.
Вдруг зазвонил телефон — не впадая в тягучие размышления о том, кто это и о чём сейчас придётся общаться, она спокойно ответила:
— Алло, — и сама удивилась своей умиротворённости.
— Доброе утро, Оль!
— Привет, Витуля, как ты?
— На работу бегу — утро такое приятное.
— Да, утро классное, тёплое. А у меня выходной.
— Везёт тебе, у меня другой график.
Оля только сейчас сообразила, где идёт собеседница, и, мысленно присоединившись к ней, ничего не почувствовала — ну, улицы и улицы, ну, дома и дома. Ей нравится ощущать себя собой здесь, радующейся простым и знакомым вещам.
— Я знаешь, зачем звоню? В универе лекция по искусству итальянского Возрождения, подумала, тебе интересно будет.
— Конечно, будет! Спасибо! Я до сих пор нарадоваться не могу моим книгам, учебникам, воспоминаниям, как я росла на них, как внутри меня складывалось восприятие, вкус, желание знать, видеть, разбираться в нюансах. Что-то новенькое послушать очень кстати. Ты пойдёшь?
— Не уверена, что освобожусь к семи в этот день.
— Тогда сама схожу.
— Верно! Там и выставку гравюр можно посмотреть как иллюстрации к лекции.
— Жаль, если у тебя не получится.
— У меня книга хорошая есть, а ты пообщаться сможешь, если встретишь кого-то знакомого — тоже плюс.
— Как ты обо всём думаешь и всё успеваешь учесть?!
— Не преувеличивай! Созвонимся, поделишься впечатлениями.
Оля наспех огляделась в просторном фойе: знакомых лиц нет, холод от входа быстро обволакивает плечи, в ушах гулом отдают голоса. Вопреки ожиданиям, не ощущается чего-то родного, близкого, не вспоминаются с приятным чувством проведённые здесь годы — скорей бы к чему-то новому, другому, пусть даже в этих стенах.
Гравюры — разумеется, копии энных оттисков эстампов, предусмотрительно оснащённые увеличительным стеклом. Воздвигаемые на них распятия, строящиеся дома и мосты благоухают свежим тёсом узких деревянных пюпитров.
«В большей мере уму, чем сердцу», — подумала Оля, проходя в светлый зал с рядами расставленных стульев и сидящих на них слушателей. Недалеко от неё о чём-то бытовом и прозаичном говорили две женщины. Раньше она, молча, но возмутилась бы несоответствием их настроя и обстановки, теперь лишь спокойно посмотрела в их сторону, отмечая в себе эту перемену.
От группы организаторов отделилась высокая дама и с извинениями сообщила, что лекция переносится на следующую неделю, а пока можно продолжить осмотр гравюр или послушать лекцию о психологии отношений.
Среди слушателей прокатился смешок: «Обменяли возрождение на вырождение». Несколько человек, торопясь покинуть аудиторию, столкнулись в дверях с неловко топтавшейся на каблуках девушкой, та от растерянности выронила из рук толстый блокнот и несколько ярких фломастеров.
«Инфографику уважаете?» — задорным тоном всезнайки спросил парень, подавая ей поднятые маркеры. Она лишь посмотрела ему вслед, всем своим видом говоря: «Да как ты посмел обо мне какие-то предположения строить, нахал». Её скуластое лицо вытянулось от возмущения, волосинки чёрного бобрика волос, казалось, стали ещё ровнее, а жесты рук — скупыми и укороченными.
Расположив перед собой блокнот и книгу, утыканную закладками, она чуть успокоилась и неровным голосом начала:
— Итальянское возрождение — тема давняя и обширная, а я хочу говорить об отношениях современных, хотя и в них возможно пересечение идей. Если посмотреть на отношения так, как на них смотрю я, можно обнаружить даже прямое сходство, — сказала она с таким видом, как будто собиралась сама себе поаплодировать. — Если в философии того времени человек — существо мыслящее, способное решать и думать за себя, почему бы не развивать такой взгляд на партнёра сегодня, что этому мешает? Давно миновали века, когда женщина была бесправной и беззащитной, лишившись мужа, брата, сына, когда любой поступок против неё, одинокой, оставался вне правового поля, когда всем правили мужчины и мир был мужчин и только мужчин. Не понимаю, для чего сегодня хвататься за них целиком, когда можно выстроить отношения, — она посмотрела в блокнот, — созидательного взаимодействия, выгодного обоим, и не терять при этом время для личного развития, для своих интересов.
— Сходство с философией Возрождения уже закончилось? — спросили из зала. — Или вы нам расскажете, где можно посмотреть на, как вы изящно выразились, существ мужского рода, способных думать, решать за себя и посвящать досуг чему-то созидательному?
— Может, и закончилось, но это, полагаю, не так важно, ведь сейчас именно женщина может решать, какой мужчина для чего ей нужен, и, отталкиваясь от своих потребностей и желаний, сделать выбор для осуществления взаимодействия.
Давайте посмотрим, что может дать мужчина женщине сегодня? Во-первых, то же, что и всегда — семя, продолжение рода. Хотите возразить, мол, род всегда стремились продолжить мужчины? Я повторюсь, это в том, старом мире, мире мужчин. А сегодня? Что мешает женщине сегодня иметь и реализовать подобное желание? Ничего! — тоном победителя выстрелила она. — Просто выбор, удачный выбор партнёра! Ничего не мешает найти мужчину с достойными свойствами характера, передающимися из поколения в поколение. А если он сам хочет иметь ребёнка, он будет дополнительно счастлив о нём заботиться и помогать его растить, сохраняя свою независимость и свободу, при этом не отбирая их у женщины. И это работает, поверьте мне, это работает!
Во-вторых, к чему теперь желание быть, проживать, существовать рядом с кем-то, если «быть» предполагает постоянное наличие кого-то рядом, и когда тебе надо, и когда тебе не надо, а зачем? Вот подумайте, зачем от мужчин требовать не свойственного им постоянства, и самой быть постоянной для того, кто этого не оценит?
— Простите, вы никогда не интересовались значением слов «преданность», «верность»? Вам лично знакома хотя бы привязанность к человеческому существу?
— Видимо, нет! — тоном резким от напряжения выпалил кто-то.
— Становится жарко, откроем двери, не возражаете? — поднимаясь и оглядываясь, спросила женщина в круглой шляпке над смешливым лицом.
— Если у вас нет желания вкладывать свои силы в результат близкого человека, это душевный дефект, а не достижение цивилизации, — рассудительно смаковал итог единственный слушатель-мужчина.
— Нет, подождите, переход на личности, да ещё таким тоном, недопустим, я предлагаю идею, взгляд, вы можете согласиться или не согласиться, но обо мне никаких заключений делать не надо.
— Почему не надо? Вы не настолько самоценную идею предлагаете, чтобы от вас отвлечься. Вы хотите сделать себе рекламу, имя, собрать сторонников, им всегда будет интересно делать заключения о вас.
— Не надо за меня решать, чего я хочу, ладно?
«Бойкая девица, но кто рядом с такой захочет оказаться?» — подумала Оля.
— Успокойтесь, — примирительно сказал певучий красивый голос из первого ряда, — не ваша аудитория сегодня — пришли люди послушать о подлинно ценном. Соберёте своего слушателя — окажетесь в другой ситуации.
— Позвольте, — краснея, неловко заулыбалась лектор, — чем же «мой» будет так сильно отличаться от вас, если вы не умеете разграничить между автором и самой идеей?
— А чего вы на личности переходите, сами своим идеям не следуете? — продолжил смаковать свою правоту и единственность представитель сильного пола.
— Подождите, я спросить хочу! А какая идея существует вне автора, вне интерпретатора, неужели возможен род некоего объективного знания?
— У кого вы спрашиваете? Все умрут — вот единственное объективное знание.
— Мужчина, вы как-то неоптимистично настроены! — вздрогнул певучий голос.
Неожиданно громко на этаже хлопнули двери лифта, под затихающее воркование плачущего младенца по площадке быстро пронеслись и остановились шаги. Из аудитории к открытой двери поспешили шепчущиеся дамы, засочился недовольный шёпот: «… лекция… договорит... не самый подходящий момент... сейчас не плачет... ждите».
— Вы помешали девушке ответить о привязанности, о том, что она испытывает к человеческим существам, — участливым тоном прервали спорщиков с последнего ряда.
Оля оглянулась на голос: женственный наклон головы, крупноватый нос поверх мягких черт лица, произвольно закручивающиеся русые волосы, серый свитер с катышками на покатых плечах. «Как просто может выглядеть человек, понимающий суть разговора, и молчать, ничего не доказывая с пеной у рта, — она подняла на неё глаза ещё раз, — кто-то может оказаться совсем не тем, кем выглядит со стороны, совсем не тем…»
Лектор, приосаниваясь, поправила украшение над ни разу не интригующим вырезом носимого с претензией свитерка.
— Сама я испытываю гордость, радость за достижения своего мужчины, за развитие своего ребёнка. В чём ещё плюс данной модели отношений — не надо постоянно тратить свои эмоции, потому что взаимодействие выверено и рационально.
Мужчина, выпавший из центра внимания, встал и, набрасывая куртку, отвесил с перекошенной улыбочкой:
— Соболезнования вашим родным и близким, долго им ещё с вами мучиться!
То там, то здесь с явным намерением выйти начали подниматься слушатели. «Да уж, лекция, наверное, и Виту удивила бы — вряд ли можно, будучи в своём уме, представить такое замужество», — подумала, выходя, Оля.
Лектор, обведя взглядом пустеющие ряды, с натужно выдавливаемой из себя улыбкой пообещала продолжить свою мысль для тех, кто останется. Несколько девушек, сжимая в руках раскрытые на чистых страницах блокноты, пересели вперёд.
Заметно возвышающаяся над всеми стройная дама, стоящая в дверях, не то извиняясь, не то оправдываясь, приговаривала выходящим: «Ещё не всё может объяснить, не всё понимает, как донести до слушателя. Спасибо, что пришли, спасибо, что уделили время…»
— Лучше б оно, конечно, сначала самой понять, потом другим доносить, — тихо, но с нажимом протравил кто-то в ручейке выходящих.
За порогом аудитории ноги погружались в ледяной водоворот смешивающихся на кафельном полу сквозняков. Громадные холодные окна застыли в безразличии к завываниям трясущегося скелета старого лифта. Голоса спускающихся по ступенькам, не касаясь сознания слышащих, разлетались неясным гулом. Металлом взвизгнула претензия женского голоса, всхлипывая, засопел младенец, бряцнули удаляющиеся от него каблуки, Оля обернулась — ребёнок плакал, Боря жался к двери…
-31-
Свернувшись калачиком и обняв руками подушку, он безучастно смотрел на стену перед собой.
— Коля, почему ты раскрылся, до сих пор жарко, температура не падает? — Катя быстро подошла к нему, укрыла одеялом ноги и присела рядом.
— Хоть посмотри на меня, — она наклонилась к его лицу, — вот тёплое питьё, начинай пить. Коль, что всё это значит, как ты умудрился вымокнуть до нитки, если был на машине, куда ты шёл, зачем?
— Был точно такой день, — медленно слабым голосом начал он.
— Какой? — живо с участием переспросила она.
— Такой, как тогда.
— Когда тогда, о чём эти загадки?
— Лило как из ведра, я бежал с ней на руках, помнишь, когда намекнули, где и за сколько могут помочь? Она задыхалась после моего бега, бежал я, а задыхалась она, загляну в её бледное личико и то бегу, то боюсь бежать…
— Ты об этом? — вздохнула она и начала теребить пальцами край халата.
Он обхватил её кисть своей ладонью и перенёс на колено.
— Положи ноги ровно.
Катя выпрямила на кровати ногу, он медленно провёл взглядом до щиколотки.
— Какая ты красивая, какая ровная ножка и ровная кровать. А тогда: раза три выцветшая набивная ткань, висящая в колдобинах просиженного дивана, рядом стул с облупившимся от солнца лаком и полукруглой дужкой, вывернувшейся из-под спинки наружу. Буфет с мутными стёклышками и липкими от грязи треугольными ручками на скрипучих дверцах. Ты — самое красивое, что было в том жилище, на всё остальное было страшно и неприятно смотреть, даже мне.
— Как ты это всё запомнил? Я не помню.
— Но ведь так было.
— Когда ты рассказываешь, и я вспоминаю.
— Странно, что ты не помнишь, после такой радикальной перемены обстановки, кажется, тебе всё должно было запомниться.
— Почему радикальной?
Он слабо, но довольно улыбнулся.
— Из вполне благоустроенного жилища своих родителей ты переехала со мной в съёмную дыру с бабкой-соседкой во второй половине дома.
— Ну, прям, дыру… Ты до сих пор обижен на них? — Катя заглянула в его лицо.
— Нет, ни тогда, ни сейчас. К тому времени привык уже, что никто не бросится помочь и всё, что мне нужно — в пределах только моих возможностей, только моей ответственности. Когда на тебя долго дышат холодом, душа покрывается ледяной корочкой, под которой она перестаёт пульсировать ожиданием, навсегда перестаёт ждать, привыкает только сама действовать, сама быстро искать и находить решения.
— Ты, как всегда, такой серьёзный, такой осознанный, — она провела пальцами по его волосам, коснулась лба и остановилась, — температура падает!
Скользнув лбом по подушке, он отвернул голову и спросил:
— А ты обижалась на них, когда неловко топталась в конце улицы у автомата, набирала домашний номер и дрожащим голосом просила помочь?
— Для меня они всегда правы — раз так поступили, значит, так правильно и оправданно. Да, они были против нашей женитьбы, не удалось их тогда склонить, расположить к тебе…
— Не удалось! Твой важный папа мне в лицо удивлялся — неужели я навсегда таким наивным дураком останусь, профессией зарабатывать не научусь.
— Он был мерзок тебе тогда?
Николай Павлович снова обернулся к ней.
— Почему, прям, мерзок?
— Ты всегда радикально высказываешься о тех, кто тебе не нравится.
— О тех, кто нравится, — тоже. Я цепенел перед ним, как перед чем-то неизвестным, совершенно мне чуждым, иным. Смущался от того, что ему противно самое красивое, самое ценное во мне. Всё как-то так сложилось внутри на тот момент или я убедил себя в этом? Мне казалось, что ты любишь меня именно за мою прямоту, искренность, доверие людям, веру, что они, так же как и я, не отвернутся от чужой боли, от чужих страданий. Меня в дрожь бросало при мысли стать ему подобным. А что они решили воспитать свою взрослую девочку, возможно, первым в её жизни отказом — их дело.
— Ну, не первым, — вздохнула Катя, — только толку от этой воспитательной меры? Мама вон теперь всё ходит, всё мается-кается, во что-то верует, отчего-то ей легче становится.
— А тебе?
— Как мне станет легче, когда у других и пошли, и побежали, и заговорили? А я помню только маленькое морщащееся личико, бессильно отпадающее от груди, тяжело выдыхая.
Он придвинулся ближе и обнял её бёдра.
— А как папа?
— Всё тот же. Рассказал, как незадолго до выхода на пенсию помог знакомому внука интерном в хорошее отделение устроить. Связи у него уже не те, возможности слабее, но на словах он так им этого мальчика подал, что они его чуть не за сына министра приняли.
Николай Павлович поднял на неё удивлённый взгляд.
— Сама не понимаю, как у него вышло, но он так рассказывал. Не прижился парень в отделении, застрял как кость в горле у заведующего, тот и работать с ним не стал. Юноша походил-походил, да и ушёл. Но суть не в этом, он сказал, что глядя на него, вспомнил тебя молодого, решительного, бескомпромиссного.
— Бесперспективного, — оборвал Николай Павлович, — врача скорой помощи, уверенного, что помогает людям, что так и должно быть.
— Но ведь люди принимают помощь врача как должное.
— Так должно быть, выходит, они правы, принимая как должное.
— Кто кому в этом мире что должен?
— На практике никто, никому, ничего, кроме того, что каждый определил для себя как приемлемое отдать. Редкий человек положит всё, чтобы наслаждаться сознанием того, кто он есть, а не тем, что у него есть. Может, один из тысячи-двух… Будет работать на это сознание, будет питать им свои чувства, свою самооценку.
— Людям обычно, кроме самооценки, нужно семьи кормить, жить как-то.
— Почему кормить всегда аргумент? Никто не наедается или кушать хочется всё вкусней, даже когда стягиваемый галстуком воротник на шее не сходится?
— Где ты такие воротники видел?
— Когда добежал с Полечкой до отделения. В голове фамилии, звания, суммы, которых у меня нет, попросту нет — и я молча мыкался от двери к двери. За спиной с ухмылкой сновала медсестра, я оборачивался на её шаги, поднимал голову, от волнения давясь схваченным воздухом, и ни заговорить, ни спросить ничего не мог. Она, гадливо поджав губы, водила взглядом по отвисшему рукаву моей застиранной куртки, по пальцам, суетливо дёргающим узелок пелёнки — я съёживался от холода, доползавшего по руке до самой груди.
— Ты так и не задал ей вопрос?
— Нет — был уверен, что и так понятно, кто и зачем нужен человеку с синеющим младенцем на руках. Потом ей, видимо, надоело эту мятущуюся бесполезность наблюдать, подошла, шепнула, сколько стоит, я сел. Полечка, хрипя, задрожала на моих мелко трясущихся руках, тяжёло задышала, и синеющее кольцо вокруг её губ начало сжиматься плотнее. Переваливаясь с ноги на ногу, прославленный доктор всё-таки вышел: бордовый галстук под свисающим красным подбородком, зачёсанные назад седеющие волосы, я дёрнулся подняться, он остановил. Прямо у меня на коленях развернул пелёнку, пару раз надавил на распухший животик, потрогал плотные ножки, недрогнувшим голосом сказал: «Уже отёк» и медленно пошёл от меня. Я не мог ни двинуться, ни что-то сказать, потому что всегда представлял себе, что весь механизм помощи приводится в движение состраданием, действенной реакцией того, кто может помочь, на беспомощную нужду другого.
— Подожди, как ты мог так думать, если уже видел, что в жизни иначе? Твои родственники, обманом отнявшие квартиру, депрессивный дед, гнобивший тебя своими придирками, мои родители, которые остались, в общем-то, безучастными к тебе, и у тебя не возникло другой мысли?
— Не знаю, я верил…
— Во что?
— Не все такие, не могут все быть такими.
— Ты сам был не таким, вот и верил, что встретишь в других то, что было в тебе самом.
— Человек — самая большая для себя реальность, она убедительнее внешнего мира. Я есть, я так отношусь к делу, так живу, ну не мог же я один в целом свете так жить, правда?
— Звучит убедительно…
— …но именно деньги были нужны, чтобы всё сложилось, как я представлял себе в своём надуманном идеальном мире. Чтобы откликнулись, чтобы бросились помогать, чтобы участливо спрашивали, окружали, хлопотали. Это как горький упрёк, как пощёчина за то доброе, что я носил в себе, я узнал только, что оно никому не нужно, что так не бывает, что деньги — ещё одно измерение, которое не проигнорируешь. Живя в этом мире, с ним придётся считаться.
— И ты ушёл оттуда?
— Брёл по коридору, она всё чаще хватала воздух и выдыхала его с коротким осиплым свистом. Инстинктивно заспешил к выходу — ей станет легче, на улице воздуха больше, уже почти бежал, стараясь её не трясти, и вдруг ощутил, как от понимания, что она всё равно не вдохнёт, сколько бы его ни было, замедляются мои шаги. На трясущихся ногах я спустился, но выходить медлил. От воздуха, ударившего из открытой кем-то двери, она вдруг вытянула шейку и затихла — ни хрипов, ни присвистываний, всё смолкло. На улице, как сквозь вату, доносились звуки своих и чужих шагов, стук редеющих капель по откосам окон, плеск воды в тревожимых лужах, скрежет трамвайных колёс вдалеке, мне хотелось ринуться в них — пусть будет, пусть что угодно будет вместо тишины вокруг неё. Быстрее и быстрее нёсся по улице, чтобы погрузиться в её звуки, но никак не мог в них войти. От досады свернул между высокими бетонными домами — и стало тихо, безветренно. «Нет! Сейчас звякнет, лязгнет, зашелестит что-то!» — я оборачивался, вслушивался, ждал… Заглянул в её убаюканное тишиной личико, поднял глаза на глухие стены домов, и закричал в темноту.
Какой-то мужчина дёрнул меня за рукав, я стал всматриваться в него, почему-то думая, что смогу узнать. Он быстро отвёл и возвратил взгляд, спросил, может ли он мне помочь. Удивление, что незнакомый человек знает о произошедшем, вдруг сменилось в голове порядком необходимых действий. Я мотнул головой, развернулся и, утробно скуля, пошёл к больнице, чтобы доктор констатировал...
— Хватит, Коль…
— И я тогда так подумал: «Хватит! Своему ребёнку ни воздуха, ни участия, ни сердца не досталось, потому что я не смог заплатить. Случись с тобой или со мной что, а я снова бесполезен, бессилен… Нет!»
-32-
— Николай Павлович, вы в кабинете? А вас здесь разыскивают. Дама какая-то с иностранцем, до завтра ждать не могут — самолёт, отъезд, что-то лопочут наперебой оба. Дал им новый адрес, сейчас приедут. Как там у вас, люди идут?
— Идут не спеша.
— Ну, хорошо, хорошо. Этих только дождитесь — не хочется их повторно здесь наблюдать.
— Смотри, какая дверь, и ручка, прям, сама открывается.
— Открываться?
— И закрываться! — широко разинув рот, звучно засмеялась дама, повисая на руке кавалера. «Благо стеклопакет заглушает их голоса», — глядя из коридора, вздохнул Николай Павлович и вошёл в кабинет.
— Дорогой! Здесь как в Майами, клиника, как там!
Тот со смущённой улыбкой оглядел потолок, стены и свесил губы в разочарованно-снисходительной улыбке:
— Не то, чтобы... Как мы узнать его?
— Говорю тебе, не узнать: стены пластик, светло везде, пол новый, без дырок в линолеуме рыжем.
— Его мы знать?
— Знать! Он здесь один, о-дин, — выставив палец из сложенной ладони, настойчиво убеждала мадам.
— Вот он! — махнула она рукой в проём раскрытой без стука двери.
— Здравствуйте, — с непривычной восходящей интонацией поприветствовал кругленький иностранец в пиджаке поверх примятой футболки. Николай Павлович, сидя в своём кресле, окинул его взглядом и пригласил войти. Он быстро шагнул, но отступил, пропуская даму вперёд. Покачивая плечами поперёк ритма шагов и звякая побрякушками на открытых запястьях, она подошла к столу и спросила разрешения сесть.
— Конечно, конечно, — мягко ответил Николай Павлович.
Она вдруг обернулась к спутнику и, пришепётывая поднятыми к носику губами, торопливо понесла:
— Он такой был вежливый, когда очередь в коридоре, выглянет, не рявкнет, дверью не хлопнет, как другие там.
Иностранец недоумённо улыбнулся и указал ей на стул, она быстро села. Он присел рядом, но тут же предложил ей поменяться местами:
— Я говорить с ним, ты лучше сюда, — указал он на своё место.
Она, не выпрямляя колен и игриво оттопырив задок, двинулась в его сторону, шутливо потеребила штанину, остановила ладони у него на коленях и начала медленно опускаться. Он, смущённо улыбаясь, быстро пересел, придерживая её запястья.
— Мэри, сейчас разговор.
Она с наигранным неудовольствием причмокнула укрупнёнными губками и сложила перед собой ладошки.
— Ты её врач?
— Чей, простите?
— Прос-ти-те, это мало, что ты нам скажешь. Мы теперь не можем решать наша проблема.
— Я могу вам чем-то помочь или вы уже решили, что я заведомо бесполезен?
— Ты был полезен, но без польза теперь, — иноземец достал из сумки потрёпанную медицинскую карту. — Мы взяли это в поликлиника, она лечилась где, твоя подпись здесь.
— Позвольте взглянуть, — попросил Николай Павлович и протянул руку.
— Она Мэри, жена мне сейчас. Жила и работала здесь лет назад. Вот запись о твой лечение, установка. Ты её ставил…
Николай Павлович поднял на него взгляд.
— Внутри маткая контрасептивна спираль, так на русский звать?
— Дайте карту, я сам прочту.
Николай Павлович тонкими пальцами спешно разравнивал загнутые уголки страниц.
«Аднексит острый… двухсторонний… кровь… моча… противовоспалительная... Аборт на четырнадцатой неделе… стационар, больничный. Эндометрит… Ампициллин, Цефепим, Цефтриаксон, — замелькали в его голове названия редко сменявшихся тогда препаратов. Он быстро листал страницы, легко читая собственный почерк. Аборт…» — он вернулся на предыдущую страницу, всмотрелся в даты.
— Ну что, помнишь? — неожиданно громко взвизгнув, спросила посетительница. Слова слились в тонко колеблющийся ряд звуков, неестественно поднимающий её веки снизу вверх и почти скрывающий зрачки на самых высоких нотах.
Николай Павлович опустил глаза к истрёпанным пожелтевшим страницам: «Как не помнить повисшую на нескладно извивающихся плечах норковую шубу? Медсестру в кабинете кардиограммы, попятившуюся от цепочки засосов по всему животу, проступавшей синхронно с расстёгиванием пуговиц? Развязного: «Давай стабильное что-нибудь, на кой мне каждый раз здесь мучиться? До сального блеска изогнутых мятых купюр, вышвырнутых прямо на стол: «Такие же, как у всех, трудовые, чего застыл? Мог бы и сказать, с чем таблетки не пить, скромный какой!»
— Ты это видел и знал всё, и поставил?
— Нет, мне лекции о морали и нравственности читать надо было, — раздражаясь, выдохнул Николай Павлович и продолжил листать быстрее.
— А потом? Ты знай, что было потом?
«Да вот хочу узнать», — уже механически переворачивал он страницы, не глядя на них. Красно-бурый штамп КВД остановил на себе его взгляд.
— Потом она заболела, тяжело до осложнения. Я теперь платить за дальше последствия, — указал он на непролистанную часть карты. Не должно было ставить, ты знал, что ты делаешь тогда и какая она, — он наклонил голову, чтобы поймать взгляд Николая Павловича сразу над картой.
«Я не должен был!» — охнул тот про себя и покачал головой.
— Одно ко всем относится, всем говорят, предлагают выбират. Обяснять было надо, ты затем здесь! Понимал, что риск заражения толко расти. Ты не должен был! Как ты врач?
«Теперь я виноват в трипперах, сифилисах, запитых водкой таблетках, наличии в мире дам полусвета. Я виноват-виноват-виноват!» — тяжёлым отзвуком колокольного эха всё громче прокатывалось от затылка ко лбу, всё тяжелее, всё настойчивее. Скрываясь от набирающего силу шума, он приложил ладони к вискам: «Ну нет, не захватит, не тронет, не сможет, сюда не докатится!»
— Он удивился! — взвизгнула дама и под тонкими до комичности бровями сжались густо накрашенные веки.
Николай Павлович зажмурил глаза, но подхваченное раскатом колокола уродливо множащееся «ся-я-я» укололо висок.
— Убира-а-айтесь! — резко открыв глаза и с шумом поднявшись, заорал он.
Иностранец испуганно отшатнулся и машинальным жестом закрыл даму. Николай Павлович, не глядя на них, помчался к двери. Заскочил в манипуляционную, наугад выхватил из упаковок несколько ампул и побежал к выходу, бросив халат у двери.
Мелькали ступеньки, что-то кричала, размахивая вскрытой упаковкой, медсестра, звук заводящегося мотора энергично атаковался иностранной речью, дребезжал мобильный, за стеклом перетекали друг в друга деревья и тени. Лучи выбирались из светофоров на дорогу и мучительно долго забирались обратно, оставляя перед глазами жгущие круги. Водители, переругивались через приоткрытые окна. Машины, лихо сворачивали с трассы. Линии разметки натянуты струнами, с которых вот-вот сорвётся протяжный, истошно нарастающий шум, множащийся в голове, плечах, горле.
«Убежать, остановить, не пустить в себя», — под его мечущимся взглядом медленно ползли вверх ворота гаража.
«В окнах темно, значит, там тихо», — обнадёжился он и, стараясь не звенеть ключами, подошёл к двери. Едва надавливая, открыл замок и неслышно закрыл её за собой: «Дома тише, спокойнее». Он вытирал ладонью вспотевшую шею и лишь едва задел ухо, как раскаты колокольного эха снова полились от виска к виску, ото лба к затылку. «Тихо, я только хочу, чтобы стало тихо», — тревожным шёпотом объяснял он кому-то в темноте. Плечи вздрогнули от щелчка выключателя, из упаковки вырвался шприц, жгут быстро погасил стук зубов и, охлаждая, расслабил губы. «Тише! Тише! — изо всех сил стискивая зубами слова, умолял он, беззвучно проводя пальцем вниз от изгиба локтя. — Тише…»
16.04.2020
Свидетельство о публикации №221011001936