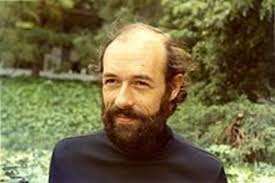О книге Д. Рюэля - Случайность и хаос
Книги
Восстановленное очарование мира
Д.Рюэль. СЛУЧАЙНОСТЬ И ХАОС. Москва--Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2001, 191 с. Перевод с французского Н.А.Зубченко.
Имя французского учёного Давида Рюэля хорошо знакомо всем, кто занимается синергетикой, -- ведь именно он и его нидерландский коллега Ф.Такенс в 1971 году развили, ввели в обиход ключевое для этой науки понятие «странный аттрактор» (и в том же году вышел русский перевод книги Рюэля «Статистическая механика»). Так что он один из активных участников синергетической революции последних десятилетий, обогатившей нас новым взглядом на природу.
Раньше физики полагали, что если они описали какой-то процесс дифференциальным уравнением и задали начальные условия, то его ход полностью определен на все времена -- в нем не может возникнуть никаких неожиданностей. Как писали И.Пригожин и И.Стенгерс, «в такой полностью детерминированной Вселенной время фактически отсутствовало бы -- в ней не появляется ничего нового, и потому она представляет собой просто грандиозную тавтологию.
Но вот в 1963 году американский метеоролог Э.Лоренц, решая уравнение тепловой конвекции, обнаружил, что долговременные прогнозы погоды делать нельзя, поскольку решение очень чувствительно к малейшим изменениям начальных условий, в которых всегда есть неопределенность. В 1967 году этот вывод математически более строго обосновал американец С.Смейл, а затем появилась работа Рюэля и Такенса.
В результате удалось разобраться в сути явления, которое имеет фундаментальное, мировоззренческое значение. Его часто называют «эффектом бабочки» -- взмах крыльев насекомого способен кардинально изменить циркуляцию атмосферы в масштабах планеты. Иначе говоря, огромная система может быть неустойчива по отношению к слабейшим возмущениям.
Конечно, само понятие неустойчивости не ново. Скажем, поставленный вертикально на острие карандаш от минимального случайного отклонения падает в ту или иную сторону, то есть начальная флуктуация усиливается и микровоздействие проявляет себя на макроуровне. Но такие ситуации в эпоху расцвета классической механики считались исключениями.
В конце XIX--начале XX века французские ученые Ж.Адамар, П.Дюгем, А.Пуанкаре уже поняли, что подобные эффекты возможны в нелинейных системах, которые встречаются в самых разных областях физики -- от гидродинамики до небесной механики. Пуанкаре даже предвидел, что они будут ограничивать возможности предсказания погоды. Но тогда их идеи не были восприняты: интеллектуальная почва еще не была подготовлена, стиль мышления оставался «линейным» (сформированным на изучении систем, которые описываются линейными уравнениями).
В первой половине прошлого века советские физики (Л.И.Мандельштам, А.А.Андронов и их школы) создали теорию нелинейных колебаний. Затем появились ЭВМ, позволившие численными методами решать доселе неприступные нелинейные уравнения, и, наконец, прорыв в их изучении 60-х годов. Стало ясно, что пришло время вводить новую науку, которую по предложению немецкого исследователя Г.Хакена назвали синергетикой.
Компьютеры помогли установить, что поведение многих нелинейных систем характеризуют очень сложно устроенные графики в фазовом пространстве (они отображают изменение координат и импульсов всех частиц во времени). Множество этих фазовых траекторий фрактально, то есть оно представляет собой самоподобную (одинаково устроенную на разных масштабах) структуру с дробной размерностью -- это и есть странный аттрактор. Само понятие фрактала, введенное Б.Мандельбротом, стало ключевым в синергетике, а изображение причудливого «множества Мандельброта» -- её символом. Фракталы породили новый вид живописи, которую создают компьютеры при моделировании таких систем.
Постепенно ученые начали осознавать, что неустойчивость по отношению к малейшим изменениям начальных условий может лежать в самой основе физического мира. Хотя уравнения определяют полностью детерминированное поведение системы, неопределенность в ее начальном состоянии, которая есть всегда (хотя бы из-за квантовых ограничений на точность измерений), вносит помеху, из-за чего траектория может резко и непредсказуемо измениться. Пуанкаре писал, что стала более ясной связь между необходимостью и случайностью, детерминизмом и свободой: «Очень маленькая причина, которая от нас ускользает, определяет значительное следствие... и тогда мы говорим, что оно вызвано случайностью».
Сам Рюэль пришел к своим главным достижениям, занимаясь турбулентностью. Над этой сложнейшей проблемой на протяжении нескольких столетий бились многие выдающиеся умы -- ее даже называли кладбищем теорий. Еще Леонардо да Винчи делал зарисовки возникающих в потоке воды вихрей и обратил внимание, что крупные вихри дробятся на мелкие, те -- на еще меньшие. Так упорядоченное, ламинарное, течение постепенно становится на вид все более хаотичным.
Большой вклад в изучение турбулентности внесли А.Н.Колмогоров, Л.Д.Ландау, Н.Н.Боголюбов и другие наши корифеи. Рюэль в 60-е годы размышлял над теорией Ландау и немецкого математика Э.Хопфа, согласно которой в любой вязкой среде при увеличении силы, придающей ей движение (например, когда сильнее откручивают водопроводный кран), возникают колебания -- сначала одной частоты, затем нескольких. По мере возбуждения большего числа мод пульсации становятся все менее регулярными по форме. В спектре появляется много отдельных частот, а когда он становится непрерывным и постоянным (в радиотехнике это называют «белым шумом»), наблюдают турбулентное состояние.
Но Рюэль и Такенс придумали другую теорию, основанную на свойствах нового математического объекта -- странного аттрактора. В итоге работы этих и многих других авторов изменилось само понимание турбулентности, хотя окончательная теория тут еще не создана.
Если раньше турбулентное течение рассматривали как совершенно хаотичное, то теперь поняли, что в нем взаимосвязаны события, происходящие на разных пространственных и временных масштабах; отдельные моды ненезависимы -- между ними происходит перераспределение энергии. Турбуленность соответствует когерентному движению мириадов частиц, и с этой точки зрения переход от ламинарного течения к турбулентному есть процесс самоорганизации (такую идею развивал недавно скончавшийся профессор МГУ, автор книги «Статистическая теория открытых систем» Ю.Л.Климонтович).
Значит, надо различать равновесный тепловой и неравновесный турбулентный хаос. В классической термодинамике наиболее беспорядочным, хаотичным, считалось движение молекул газа в состоянии его теплового равновесия. Но в неравновесной термодинамике, имеющей дело с диссипативными, рассеивающими энергию системами (теорию которых разработал И.Пригожин), существует и другой хаос, возникающий вдали от положения равновесия. Причем именно там система становится сверхчувствительной к малым возмущениям.
Важно, что это могут быть не только случайные помехи, но и резонансные, как бы акупунктурные воздействия. Как мы знаем, радиоприемник выделяет и усиливает слабый сигнал, если он настроен на него. Так же способна вести себя и нелинейная система, улавливая, казалось бы, неразличимые среди множества других, более сильных, «полезные» сигналы и адаптируясь к ним. И тут уже проявляют себя не силовые, а информационные взаимодействия; возможно, именно они обеспечивают целостность мира -- когерентное, согласованное поведение его частей.
Пригожин и Стенгерс говорят, что синергетическое видение возвращает нам в какой-то мере утраченное современной наукой ощущение очарования мира (le rеenchantement du mond).«Суха теория, мой друг...» Теперь она стала менее сухой и механистичной, а сама физическая реальность более непредсказуемой, созидательной, как бы одушевленной.
Синергетика по-новому высветила многие старые проблемы. Например, один из главных принципов статистической физики -- необратимость, с которой связаны представления о стреле времени и тепловой смерти Вселенной. Оказалось, что она тоже может быть обусловлена неустойчивостью по отношению к начальным условиям. Это стало ясно после того, как в 70-е годы советский физик Я.Г.Синай рассмотрел бильярд с искривленными стенками (их выпуклости обращены к центру стола). От соударений шаров с такими стенками их исходно близкие траектории быстро расходятся; можно сказать, что выпуклые стенки рассеивают шары так же, как выпуклое зеркало -- световые лучи.
Так вот, молекулы идеального газа Больцмана ведут себя наподобие шаров в этом бильярде – столкновения молекул друг с другом приводят к мгновенному разбеганию их траекторий, начальные отклонения экспоненциально усиливаются. Поэтому для возвращения газа в исходное состояние необходимо бесконечно точно подогнать значения координат и скорости каждой частицы, что, конечно, невозможно.
Этот эффект разбегания траекторий можно попытаться геометризовать. Сейчас фазовое пространство обычно считают просто многомерным евклидовым, но ведь есть различные неевклидовы геометрии. Скажем, на сфере все исходящие из одной точки (из Северного полюса) прямые сначала расходятся, а затем начинают сходиться к другой точке (к Южному полюсу). А вот в геометрии Лобачевского они очень быстро разбегаются, и уже навсегда (Рюэль отметил, что такую геометрию как модель неустойчивости к начальным условиям рассмотрел еще в 1898 году Адамар).
Синергетические представления сейчас применяют в биологии, экономике, психологии, даже в истории, где стремятся понять соотношения закономерного и случайного, роль отдельных личностей, и Рюэль касается всех этих вопросов. Правда, по его мнению, в последние годы получение принципиально новых результатов в синергетике замедлилось. А значит, она перестает быть модной наукой и уже не будет привлекать к себе случайных людей. Теперь для нее пришло время осмысления, а этот вид деятельности далеко не каждому по плечу.
Автор книги справился с поставленной задачей -- он сумел охватить с единой точки зрения широкий круг проблем: квантово-механическую случайность, термодинамическую необратимость, измерение сложности и теорему Геделя, биологическую эволюцию и черные дыры... Он отмечает растущую роль понятия «информация», описывает разные подходы к ее определению и измерению (см. статью «Мы сделаны из вещества того же…» в этой книге).
Рюэль заметил, что большинство его коллег в детстве увлекались химией (ставили опыты на кухне) либо раскурочивали будильники и радиоприемники; сам он «химического происхождения». В зрелом возрасте занимался колебательными реакциями, изучал химический хаос.
Книга написана личностно, и это особенно ценно. Она содержит не всегда лестные для научного сообщества наблюдения о царящих в нем нравах. Автор предвидел, что подобная откровенность понравится далеко не всем его коллегам, однако он говорит: «Я не приношу никаких извинений: если наука -- это познание истины, то разве человек не должен быть столь же правдив и в отношении того, как она делается?»
Свидетельство о публикации №221033101170
Михаил Гольдентул 09.07.2021 17:47 • Заявить о нарушении
Так что это моя вина: в своей рецензии на книгу не упомянул его.
Леввер 09.07.2021 18:10 Заявить о нарушении