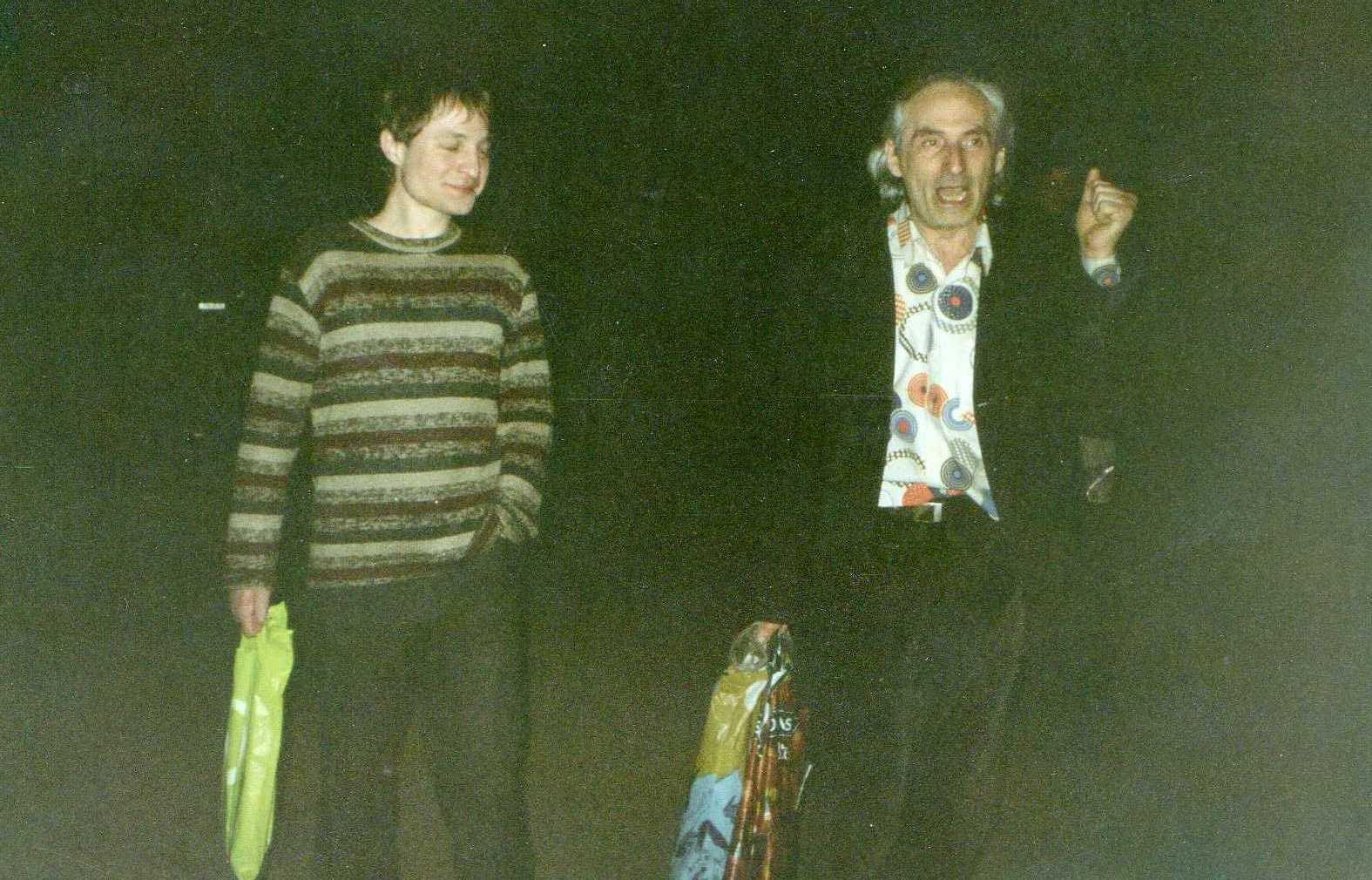К слову, о Риссенберге
Давайте вообразим птенца. Кукушонка! Этот кукушонок только что благополучно разворотил яичную скорлупу и теперь с удивлением и любопытством взирает на окружающий мир. Его интересует практически всё на свете, однако он предпочитает размышлять, теоретизировать. Обширное клокочущее пространство лежит перед ним, и это пространство постепенно заполняется его мыслительными процессами. Его взор, иногда относимый в сторону порывистым ветром, движется в заданном направлении. Время от времени на его пути возникают преграды в виде всевозможных лиственных зарослей, но птенец мысленно раздвигает заросли, пролагает путь. Это — Илья Исаакович Риссенберг, наш харьковский поэт, лауреат «Русской премии». Его лицо могло передавать разные настроения, при этом своей наружностью, энергичным поведением он скорее напоминал эллинистического сатира, нежели расчётливого конструктора, — словно птенец выпал из гнезда и побежал наобум сквозь чащу. Птичьи голоса раздавались вокруг. Он вслушивался, принимал их в своё сознание, пытаясь подхватить для себя тот язык, на котором будет изъясняться в дальнейшем. Птенец добродушно щёлкал, сопел, чирикал, что-то насвистывал, пока силой своего воображения не раздвинул и этот, на первый взгляд, разобщённый хор птичьих воззваний и манифестов, обнаружив отражение своего допотопного «Я» в глубине пернатого сонма. К нему обратилась песня его души. В замиксованности всевозможных языков и наречий он уловил гармонию окружающего его леса и пустился в пляс. И правда, стоит нам войти в чащу оживлённого леса, как мы тут же слышим оркестровую вакханалию, иногда прерываемую сумрачной тишиной, но стоит нам выйти из леса, и мы слышим нечто противоположное, единое и гармоничное в своём значении, — мы слышим лес, целиком! Вот так, по всей видимости, чтобы приобщиться к миросозерцательной полноте Ильи Риссенберга, следует поступать и нам с вами — как бы чуть в сторону ускользать от его поэтического красноречия, а не погружаться в него, как в океан терпящее крушение судно, — в стремлении заменить своим отражением отражение оригинала.
(1)
молодильную конку в ноздрю привело
морозилку в мездру поддувало седло
охладела халдея к солдату ордло
экологию рыб выбирало село
Думаю, поэзия — не просто звук. Иначе не было бы у нас никаких поэтов — были бы одни композиторы. Однако человеческое сознание обладает чудесным свойством выуживать из звука поэзию, а также встраивать поэзию в звук. Поэтому, рассуждая об истоке поэзии, следует акцентировать внимание не на звуке, но на мыслительном процессе, стремящемся прозвучать слаженно, гармонично.
Поэзия Ильи Риссенберга во многих случаях отключает читательское сознание, поскольку создавалась, в первую очередь, для собственного комфортного медитативного восприятия, в необходимости расширить и превозмочь знаменитое «Дыр бул щыл» А. Кручёных в отражении наоборот, где неподдающиеся дешифровке словеса превращаются в понятные, но в совокупности несущие туманный смысл. В этом ключе поэзия Риссенберга по-настоящему шаманическая, да ещё и произрастающая из языческой кутерьмы славянских корней, что вполне нормально, даже учитывая тот факт, что при жизни автор искренне исповедовал иудаизм, однако не владел в должной мере ивритом, чтобы вольно изъясняться на нём, поэтизировать. Ударяя в бубен, шаман как бы порхает вокруг трупа нашего мира, пытаясь оживить его. Однако процесс воскрешения нередко затягивается, напоминает некую обрядовую репетицию, неуёмное кипение речевого нерва.
(2)
***
Которую тысячу дышит зверьё
Недетских печалей — начало геройства:
Вставай, человечество, стой за своё
Мгновенье вынашивать вечные свойства,
Кочующим сворам, невзрачным дворам
Причастные, — Сущность выносит из ночи —
И нашему сну ничевошному Храм
Присвоить за веру в звериные очи.
И грустные ангелы стайкой, стишки
Трусцою за матерью тленного лета,
Субботнего сердца боролись флажки
За тихую детскую Божьего света.
При зеркале струй парковалась ветла,
Воробышек броный, воришка тертышник
С грехом пополам злоязычья дотла,
До низшего бренья печалей всевышних.
Сраженье языческих грубых столиц
Изнежили утренники украшений,
Подножье их речи и жертвенник ниц
Возносят к вершинам собор сокрушений.
Но поскольку наше сознание ещё не успело полностью включиться (после отключения) в работу, мы вполне для себя удачно преодолеваем образовавшиеся в памяти междусловные лакуны — перепрыгиваем с одной жёрдочки на другую. Иными словами, ощущаем себя участниками бега с препятствиями, но даже не столько во время прочтения, как post factum — приходя в себя. Очевидно, над нами поставлен эксперимент. Мы вольны или продолжить в нём наше участие, или переключиться, например, на что-то более устоявшееся, само собой разумеющееся.
(3)
***
Земной колесничий аварии устную кровь
Смывает письмом из космической чаши вверх дном,
Сквозь время ревмя хворызгает посмертную хворь
Скрипторий хронической скорби о скрипе дверном.
Как спицей сонзая ступени сознанья, не спим,
Яаковы лествия вот-я-творящих ночей,
Поэзии трепет пернатый впервой нестерпим —
В неб-ось заточил бы и вточь всенисточник ничей.
Забыть многоточную кровь — именины в Саду
Пребытной работы, — историк. попробуй застрянь:
Не в гланду Иосифу глиной забитый сосуд,
Про-снимка-сапфир-изнесу нестерпимую рань.
За мель Атлантиды замочен титан Океан;
Пальмирою гипербореи следы замели..,
Замётан Иона в скитах, китоврас окаян,
Но капелька неба питает глазницу земли.
Подол Подаянью и плод Вертограду вернуть
Попуткой потопа, Большой, по этапу погодь
Двусветный завет десятины, — ступенчатый путь
Пяти этажей провожает на тот же погост,
Где третий внутри проживает: на впалую грудь
И певчую пулю, поди, уповает Господь!
Интересно, конечно, порассуждать, что же это такое — экспериментальная поэзия. Может быть, это именно та поэзия, которая не выходит за пределы лаборатории, следовательно, не поставляет обществу завершённой продукции. Якобы недоделанный Франкенштейн, голем на операционном столе... и при этом щедрая почва для ростков рассуждений! К слову сказать, однажды Лавуазье провёл шесть недель в тёмной комнате, чтобы увеличить чувствительность своего зрения к слабому свету. Да и как нередко любил повторять сам Илья Исаакович: «Мир ежемгновенно творится заново!».
Илье Риссенбергу, наверное, повезло. У него было немало как эпизодических, так и долгосрочных учеников (автора этого опуса он тоже считал своим учеником). Его поэтическая речь была услышана и отмечена ещё прижизненно; она удивляла и приводила в недоумение, отталкивала и восторгала. У него вышло несколько книжек стихов, остальные его стихи покорно дожидаются своего часа. Харьков, где он родился и рос всё это время, помнит его невероятную культурологическую расторопность. Этот умудрённый опытом сатир, словно листву в лесу, приводил в движение литературные круги, бомонд и богему. Он, в некотором роде, был маятником литературной жизни нашего города. Искатели поэтических смыслов тянулись к нему. Он щедро одаривал их не просто своими экстравагантными манерами, женственным — чуть ли не младенческим — голосом, но и великолепной интеллектуальной проницательностью. Мы даже как-то и не заметили, как его глубоководная, ищущая выхода на поверхность речь сделалась предметом нашего разумного прикасания. И ныне, когда дни его физической жизни подёрнулись пеленой потустороннего мира, его звучащий голос, снабжённые вычурными неологизмами каббализированные стихи, их звуковой монументализм и орнамент по-прежнему здесь, вместе с нами. А мы — вместе с ним!
----------
И. Риссенбергу
***
Темно, как в Эребе, в одной из квартир,
Не Цербер в ней жил, а двуногий сатир,
Один из мудрейших, весёлый чудак.
Бродячих он кошек любил и собак,
Он с ними не раз говорил как дитя,
Источник словес и для них обретя.
К нему приходили, прослышав о нём,
Различные люди; был духоподъём.
Внимали ему, и поспорить могли —
Как часто с высокой водой корабли.
Иные кичились, но всё же потом
Спешили к сатиру тому напролом.
В нём не было злости, он видел насквозь,
Что в том или этом початке срослось.
Возможно, за шахматной сидя доской,
Себе он казался волною морской
Над ропщущей шлюпкой измотанных сил;
Он шахматы тоже чему-то учил!
Нередко в продмаркет бежал потемну
Добыть себе хлеба, а с неба — луну.
Но время нещадно, кричи или плачь,
В квартиру свою не вернулся ловкач.
Ни лучика в окнах, ни звука внутри,
Где он философские мял пузыри.
Обрушился в вечность, откуда возник
Сатир иудейский, известный старик.
В глазах его зиждился блеск доброты.
Вершины он брал, узловые хребты;
Стремился познать консистенцию слов
И вглубь погрузиться, откинув засов...
***
Вот и всё, пора рождаться
В смерть — в иную благодать.
Выпадать из дилижанса,
Из Вселенной выпадать.
Фантазировали много,
Что же там и почему...
Я надеюсь, длани Бога
Проникают и во тьму.
Он ощупывает мягко
И перстом вскрывает лёд.
Ни одна не стынет ямка,
Ничего не пропадёт.
-----------
Вениамин Ленский
Ссылки на источники:
(1) https://polutona.ru/?show=1205194854
(2) (3)
Свидетельство о публикации №221061900061