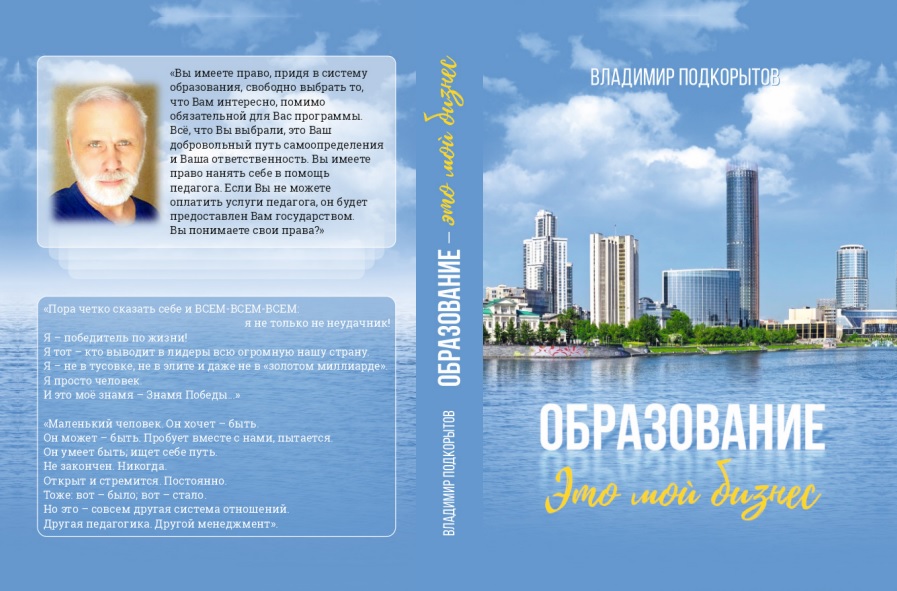Образование - это мой бизнес. Книга о тебе
Я не открою ничего нового для моих друзей и близких. Большинство материалов книги они читали, видели, слышали. И всё же: я печатаю эти заметки, потому что никто не удосужился написать о том же самом, хотя я долго и терпеливо ждал.
;
Образование - это мой бизнес.
Так называется книга, которую я печатаю сейчас на ноутбуке.
Которую я напишу…
Которую я начал писать сегодня…
Вот видите, от волнения я потерял способность точно выражать свою мысль. Потому что – не сегодня. А давным-давно. Потому что – не только печатаю, а просто живу в этой книге много-много лет.
Книга будет состоять из 4 частей.
В каком порядке они будут, я пока не знаю. Да и не всё ли равно. Читатель сам выберет и проранжирует порядок.
Все четыре части будут называться одинаково:
А) Образование – ЭТО мой бизнес;
Б) ОБРАЗОВАНИЕ – это мой бизнес;
В) Образование – это МОЙ бизнес;
Г) Образование – это мой БИЗНЕС.
Похоже, все четыре части будут делаться одновременно. В каждую из них всегда есть что добавить.
Итак, просыпайтесь! Эта книга начинается.
Прямо здесь и сейчас.
;
…И я выложил этот анонс в интернет. Чтобы не было пути к отступлению. Отчасти, такая позиция подтверждает основные мои убеждения и образ действий. Если я чего пообещал, я сделаю это. Каждое своё обещание я готовлю и произношу с очень большим трудом. Потому что знаю, какой степени ответственность ляжет на меня после. Ответственность не перед Вами, а перед собой.
;
…Всё началось с машины. Обыкновенный грузовик, куда я – вместе с трудовиком и учителем физкультуры – сбрасывал совковой лопатой мусор на заднем дворе школы. Тогда «совковая» означала только одно. И мусор ещё не умел разговаривать и обзывать «совками» своих недоброжелателей.
Не буду утверждать, что уже тогда на меня нашло озарение. И я вдруг понял своё жизненное предназначение. Я был всего лишь только что распределившимся в одну из школ нашей области выпускником истфака. И просто хмуро грузил мусор за школой в свой первый рабочий день. Я не рассуждал глубокомысленно, что вот – зачем же я учился 5 лет…
Но в этот день и на всю оставшуюся жизнь я не полюбил мусор.
Заканчивалось лето 1985 года.
Начиналась антиалкогольная кампания.
Веселились страны Африки: в Уганде привёл себя к власти бригадный генерал Тито Окелло; в Нигерии то же самое сделал генерал-майор Ибрахим Бабангида.
У Гринписа взорвали судно "Рейнбоу уорриер".
Заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС – во многом фатально для СССР – был назначен А. Н. Яковлев.
До ГКЧП было ещё добрых 6 лет.
Образование вошло в мою жизнь, как и в Вашу – с первых слов родителей, сказанных нам в день нашего рождения.
Нет ничего важнее этого процесса очеловечивания.
Почему?
Потому что обратный процесс лёгок и прост.
Проще простого – поднять руки и сдаться. Уж больно силён противник. Настолько силён, что кажется – только так...
Мне повезло. Я знаю, что у всех нас есть запасной вариант. Тот, который способен дать нам шанс…
И я знаю, как он выглядит – наш запасной вариант.
1. Образование – ЭТО мой бизнес
1.1. Знаки и символы
Слово «ЭТО» мне сейчас нравится больше других. И – надо ж как-то выбираться из хаоса воспоминаний…
Погнали!..
Всегда есть знаки и символы. И мы их сразу понимаем, но не сразу оцениваем. Вот я иду выбирать свой жизненный путь. В конце концов, остаётся лишь два варианта. Всегда – два. Был первый: пойти поступать на журфак. И был запасной.
Для журфака нужны были статьи в газетах. И я пошёл в областную молодёжку…
Немного не так я представлял себе людей этой профессии. И место, где они работали, было немного…странным. За столом, застеленным старой потёртой клеёнкой, я получал своё первое журналистское задание.
…Время не линейно. Время не циклично. Всё было, есть и будет прямо в то самое мгновение, в которое – аз есьм. Много лет спустя, я узн;ю, что радиожурналистом пытался стать мой папа. И он поработал немного на маленьком районном радио, в 1945 году, в свои 16 лет. Там они с приятелем даже изобрели незнакомый тогда в СССР формат информационно-музыкального вещания (я бы определил его сейчас, как New Age). И после первой пробы формата их мгновенно вышвырнули из профессии.
А через много лет после папиного рассказа младшая из моих дочерей всё-таки стала журналистом (хотя диплом о своей профессии она получит только через год)…
За столом, застеленным старой потёртой клеёнкой…
Там был чайник. Прямо на столе. И следы (круги) его предыдущих визитов. Там были чашки с засохшей заваркой. Там был начальник отдела, рассказавший мне, что я должен сотворить, и улетевший тут же по каким-то важным делам. Там был настоящий корреспондент газеты, которому меня поручили. Дождавшись ухода начальника, он налил в свою чашку НЕ ЧАЙ и спросил: «Ну, ты всё понял?»
Я понял, что вот так и надо работать. И пошёл домой писать статью о музыкальных вкусах нас, подрастающего поколения. И я написал это до конца.
«Это», в котором я старался свести с пьедестала творчество Самуильского и других песнопевцев, только начавших завоёвывать рынок.
Писать было просто, потому что одновременно, в школе, я писал тогда реферат по заданию нашей учительницы по истории – о западной молодёжной буржуазной культуре. Я не знал, естественно, что всё параллельно, и что такое придёт в мою любимую страну. В общем, было легко и свободно. И я был уверен, что надо всего лишь отогнать мух от котлет. Поэтому и писал мягко и вежливо. Однако, несмотря на это, самым деликатным эпитетом в отношении текстов молодых самодеятельных дарований было слово «псевдофилософские»
А впереди был выпускной. И шампанское, разрешённое тихо всеми родителями. И танцы. И крутизна (тогда не было этого слова) ВИА , певшего известный шлягер. Свеженький, горяченький хит, завоевавший вдруг Союз в 1979 году. И меня мало волновало, подо что танцевать. Мы, учащиеся «английской» школы, прекрасно понимали тексты Битлов, Роллингов и прочих длинноволосых и коротко стриженых бунтарей. Понимали не только буквально переданный подстрочник, но и идиоматические выражения, всегда спрятанные нюансы не родного языка. Так нас научили наши прекрасные педагоги.
Мы понимали, что в этих текстах не было особого смысла.
А, может, был?..
Написав заданный мне материал, я прочитал его. Мне не понравилось. Теперь я понимаю, что именно. А тогда только смутно почувствовал. Смешивать с г…м по заданию – даже если ты сам себе веришь и пишешь искренне – и заниматься этим профессионально всю жизнь…
Мой первый наставник сказал мне: «Особо не трудись. Пиши, как польётся. Напишешь, возьми этот первый текст и все черновики и выбрось в ведро. И не смей доставать! Сразу пиши второй… А мы потом тут посмотрим, что ты за птиц».
Я не знал тогда, что он пьёт на работе НЕ ЧАЙ поэтому. Потому что сам так не делает. Потому что у него нет – и никогда не было – варианта «Б». И он сдаёт то, что заказали.
Мне просто не понравилось моё изделие.
Не пошёл «это» сдавать.
Оставался только запасной вариант. Идти на истфак…
;
Жизнь бесповоротна.
Вступительные экзамены. Толпы абитуриентов. Проскакивающее мимо лето. Жалкие клочки эпохального события (Олимпиады-80), которое я почти не видел.
…И я получил «тройку» за сочинение. Это катастрофа . Почти нет шансов, что поступлю. Да что там: почти нет шансов?! Их просто нет. За эту «тройку» я выброшен в число прочих, непроходных, абитуриентов. Все мои подсчёты после первого экзамена, сданного на «отлично», горят синим пламенем.
Зачем я так яростно готовлюсь биться дальше? Зачем я иду сдавать русский устно?
Тут нет слабаков. Аттестаты у всех – дай боже. Девять медалистов. 4,5 балла – как у меня – имеют ещё 56 человек…
Никто уже не узнает, почему я получил «пятёрку» за свой ответ по всем попавшимся мне в билете правилам русского языка. Я помню только, что сам себе я поставил бы такую же оценку. Это было вдохновение. Исчерпывающее. Не оставляющее сомнений. Не вызвавшее ни одного дополнительного вопроса.
Но почему мне поставили «пять»?.. Мой уровень – «четвёрка» – тут я верю школе и нашей Ие Владимировне.
Остаётся один экзамен. И его надо сдать только на «отлично». Теперь я знаю, как это делается, и делаю это без труда.
;
Вернёмся к знакам и символам. Три раза – во вторник, среду и четверг – хожу к спискам «абитуры». Считаю.
Потому что не верю с первого раза, что у меня набран проходной балл.
В пятницу на зачислении декан говорит: «У нас в этом году – один из самых сильных наборов поступающих! К нам пришли с такими аттестатами!.. И все успешно сдали вступительные экзамены на «четвёрки» и «пятёрки» и зачислены… Поздравляю!»
Всё замирает внутри. Не прошёл с моей «тройкой»?
Дожидаюсь окончания собрания, иду в деканат, спрашиваю.
Да, я зачислен.
…«Что, с «тройкой» по сочинению?» – слава богу, не срывается с языка. Теперь я знаю, что бы мне ответили в деканате: «Да, с твоими «пятёрками» по «истории», «иностранному» и «русскому устному». И ещё: ты не забрал документы после своей «тройки».
;
Всего лишь оценки.
Цифры, точки и тире. Опять много лет спустя, уже после ухода мамы, и когда горе немного притупилось и стало возможным смотреть по сторонам, идя по кладбищу к её могиле…
Меня буквально прибило к асфальту.
И я пять минут таращился на обелиск, справа от дороги: «Подкорытов Андрей Иванович: 14.08.1963 – 03.05.1984».
Мой одногодок. Я старше его всего на 5 месяцев. И мои сёстры уговаривали родителей (это семейная легенда) назвать меня Андрюшей. Но я стал Владимиром Ивановичем Подкорытовым. И на годы обучения в вузе получил отсрочку от армии. И вместо меня в Афган пошёл Андрей Иванович. И остался ТАМ двадцатилетним.
А могила его здесь. Вот она, на нашем Северном кладбище.
Он учился в 50 школе, через двор от нашего дома. Там же училась моя сестра Таня.
И в этих дворах, в этих школах он стал тем, кем он стал – рядовым, разведчиком разведывательно-десантной роты 783-го Отдельного Разведывательного батальона 201-й Гатчинской мотострелковой дивизии.
;
А для чеченских войн я был уже староват. И снова за меня там воевал другой человек. Парень, со школьной скамьи влюблённый в мою девушку.
Любовь не выбирает. Он младше меня на 8 лет. А я старше её на 8 лет. Мы сидим в шумной компании её бывших одноклассников в каком-то кафе. И он знает – кто я ей. И что у него – пришедшего целым, но с не утихающей ни на миг душевной болью – ни шанса…
И мы уходим с ним за отдельный столик, и я слушаю его рассказы о том, как он выжил, и о его погибших друзьях. И обжигаюсь его чистым, честным, громадным и безответным чувством. Мы напиваемся так, что моя любимая отвозит меня потом к себе на такси, укладывает эти «дрова», разувает и раздевает. И тоже плачет.
«Береги её!» – кричит он мне. А я, пьяный в хлам, тупо спрашиваю: «Кого – её?».
«Просто, береги и всё...» – шепчет парень, которого я не знаю.
1.2. По вагонам!
Кого же – её? Так и не открыл. Просто – берегу и всё…
А тогда, до того, как…
До…
Просто иду учиться дальше. Как все…
;
Нас, абитуру, собрали на истфаке, в 459 аудитории. Казмин – почему-то в сапогах – объявил всем, что нас ждут 200 гектаров картофеля и ещё 40 гектаров лука .
…Никого здесь не знаю. Вадик уже уехал к этому времени в спортлагерь . Тоска. Сижу и думаю, какие вещи стоит взять с собой, чтобы было не так много.
…Быстро расходимся. Все бодро улыбаются. Встреча назначена на привокзальной площади, уже с вещами…
И какая же нас большая толпа! Митинг «под Варежкой» . Все смотрят строго вперёд. Никто – друг на друга; незнакомы.
Какие-то загадочные, непривычные речи ораторов-активистов.
И вдруг пришёл папа. Единственный родной здесь и, главное, сопереживающий мне человек. Я стеснялся, но он же видел, как я рад!
;
«По вагонам!» Штурм, крики, гражданская война. Я влез в тамбур. Решил там и ехать, на рюкзаке сидя. Нашлись и единомышленники – два «биолога». Сели. Сидим. Не едем.
Ладно. Высунулся из двери, помахал папе. Соврал, что сижу в вагоне, но не у окна. Он сказал: «Ладно». Не поверил…
Где-то заныло, когда тронулись.
Через 5 минут кто-то на бегу бросил: «Свободен весь первый вагон!». Подумали. Решили переместиться туда. Наша троица была первой. Я сел у окна. И пять часов играли в карты. А кто-то пел под гитару. Вращались в воздухе не остывшие ещё экзаменационные разговоры.
Постепенно темнело, что немного настораживало.
Около двенадцати ночи приехали. Высыпали на красноуфимскую привокзальную площадь. Какой-то девчонке я допёр до автобуса нелепый в этих условиях её чемодан. Мы смогли утрамбоваться в пять машин, и молча доехали до места, густо облепившись пылью по дороге.
А выбравшись на волю и немного отдышавшись, мы были приглашены в столовую Чувашковского студенческого уборочного отряда имени…
Кого имени – я не помню.
…Поразили меня фонарики из серебряной фольги, красный фонарь в дальнем углу (не убираемая принадлежность дискотеки) и ненужная давка, в которой очень мешали рюкзаки. Нас позвали сюда просто, чтобы известить об отсутствии мест в общаге для вновь прибывших.
Я сразу понял, что завтра будет нерабочий день. И ошибся. Привычная мне логика не работала в этой новой жизни.
Хотя, как могли, нас устроили. Нам объявили, что в наше распоряжение отдают кинозал местного клуба. И мы пошли коротать ночь.
В фойе перед кинозалом сверкала светомузыка. Это в честь нашего приезда гремела дискотека. Прыгали студенты старших курсов. Часть из них были «зубрами». Но об этом я узн;ю позже…
В кинозале было темно. Я замешкался, засмотревшись на веселившихся старшекурсников, и спальные места на относительно чистой сцене уже заняли. Спать на грязном полу я пока был не готов. И расположился на 3 креслах, хотя очень мешали подлокотники и приходилось лежать буквой «Z». Когда один бок затекал, надо было просыпаться, перекладывать себя в другой загиб, и спать дальше.
В основном было тихо. Только один раз кто-то, пробираясь, очевидно, в туалет, громко упал со сцены. Я подумал – всё, нет человека. Но, ничего, обошлось…
И дважды, когда очередь композиций доходила до «Чингисхана» , пол начинал трястись, передавая крупную дрожь даже стенам. Это пьяные старшекурсники, поймав ритм экстаза, прыгали в такт, совершенно не обращая внимания на резонансные колебания ветхого клубного строения.
1.3. Новый день.
Через некоторое время я встал, открыл глаза и вышел. Было утро.
В общагу собирался народ. Коридор был завален рюкзаками. Часов в восемь пошёл мелкий дождик, и нас сразу стали распределять на подселение, по домам доблестных местных жителей, работающих в этом колхозе (до сих пор уверен, что «в борозде» местных не было; от слова «совсем»)…
И вот уже мы идём по неглубокой грязи – я, Андрей, Артём, Юрка и парочка «биологов» (ну куда без них!). Мы случайно подобрались вместе, но, как оказалось, подобрались хорошо.
Пока мы шли на другой конец деревни, дождь кончился. В штормовках, сапогах и рюкзаках мы выглядели очень внушительно на пустой улице. Улица называлась Заречная. Мы шли к дому №1, выглядевшему покрупнее остальных. Местами он даже был выкрашен синей краской .
;
После знакомства с хозяевами и между собой времени на «посидеть» не остаётся. Надо идти в поле.
Идём обратно, и там, у общаги, нас разводят по бригадам. Темнеет. Строимся. Присматриваюсь в «своим». Ничего настораживающего.
Только ещё темнеет. Смотрю на небо. Будет дождь. Опытный командир не ждёт его начала и быстро отдаёт команду: «Пошли!».
…Оказывается, в первый день мы идём на лук. Недоубранный августовским отрядом. Нашей бригаде – самый дальний гон . Когда мы до него доползаем, дождь хлещет уже вовсю.
Стараюсь держаться в борозде так, как будто всю жизнь работал под дождём. Тем, кто не был: не верьте, что трусы намокают последними. У браздарей и браздарок последней намокает майка спереди (на груди – у браздарей, на животе – у браздарок).
Через час после того, как наши майки намокли со всех сторон, нам разрешают закончить работу и идти сушить одежду. Потому что ясно, что в этой жиже нам сегодня много не поднять.
;
Снова наша шестёрка сходится в синий дом. Топим печку. Обвешиваем её одеждой. Хозяйка немного причитает над нашим мокрым и жалким видом. А мы распределяем кровати. Два (мелкого вида) биолога занимают полутороспальную кровать у дверей. Я неудачно сажусь на ту из кроватей, на которой спал ранее хозяйский сын, страдающий известным детским заболеванием. И хотя, после соответствующего обращения к хозяйке, назавтра мне дали другое постельное снаряжение, подозреваю, что это был всего лишь второй, сменный матрац их малолетнего отпрыска.
Остальные спальные места распределяются менее драматично.
Зато! Моя кровать у окна. А на подоконнике рядом со мной лежит целая стопка журналов «Вокруг света»! Номеров, наверно, двадцать! Причём тех, что я не читал. И я становлюсь их хранителем, с правом первой читки!
И – день за днём – наш быт налаживается.
Андрей, почти сразу, мягко, но настойчиво отыгрывает у хозяев наше право смотреть их телевизор, особенно футбольные матчи.
Слово за слово, и мы подбираемся к их столу, к их бане…
А через неделю нам предоставляют почётное право (после бани, и вообще, когда придёт охота) открывать хозяйскую сорокалитровую флягу с брагой, и пить эту амброзию.
1.4. Бама-ляма.
Уже был написан и спет великий «Орёл шестого легиона» . Уже учились в последних классах и готовились поступать в уральские вузы будущие легенды уральского рока. И, само собой, вечерами гитары ходили из рук в руки. Цитадель Чувашковского студенческого отряда просто звенела музыкальными пробами пера.
…Конечно, большинство песен традиционно пелось вслед бардам хрущёвской «оттепели». Пелось искренне, душевно, как только что сочинённое на втором ярусе общажной койки.
Да, Свердловский архитектурный институт, да Уральская консерватория…
Но истфак не был бы чемпионом, если бы уже тогда, в 1980 году, в чувашковской глуши не звучала «Бама Лама»!
Это была совершенно другая песня, не песня Тома Джонса. Другие ноты, принципиально другой текст, другая мелодия – более агрессивная. И песня была не про девушку Люсинду.
После ужина я обязательно приходил в общагу – дождаться, чтобы кто-нибудь прервал многоголосый бардовский трэш и рванул жёстко и хрипло «Бама-ЛЯМУ».
Оторваться от этого экстатического текста было очень трудно:
Бама-ляма…Бама-ляма, е-е!
Бама-ляма…Бама-ляма, е-е!
Бама-ляма! Бама-ляма, е-е!
Бама-ляма!
Бама-ляма! Бама-ляма! – Бама-ляма! Бама-ляма!
Бама-ляма! Бама-ляма! – Бама-ляма! Бама-ляма!
Бама-ляма! Бама-ляма, е-е!
Бама-ляма!
А-а-а-а! А-а-а-а!
А-а-а-а! А-а-а-а!
Бама-ляма! Бама-ляма, е-е!
Бама-ляма!
И – сначала!..
Бама-ляма…Бама-ляма, е-е!
Бама-ляма…Бама-ляма, е-е!
Бама-ляма! Бама-ляма, е-е!
Бама-ляма!..
Прошло 40 лет. Может, многие и забыли её. Но это точно был шедевр. Это было то, что мы хотели сказать. Это было про то, как нам трудно, но мы победим. И я не прикалываюсь. Просто это надо было слышать.
Литл Ричард и Том Джонс прославили какую-то непонятную Люсю. Чак Берри верил в мечты чудака Джонни Би Гуда.
Но мы-то в душе продолжаем беззвучно, уже бессловесно и немелодично:
«Бама-ляма! Бама-ляма! - Бама-ляма! Бама-ляма!
Бама-ляма! Бама-ляма! - Бама-ляма! Бама-ляма!
Бама-ляма! Бама-ляма, е-е!
Бама-ляма!».
Нам, иногда, по-прежнему, трудно. Но мы уже точно знаем, что истфак – чемпион; и что мы победим!
;
Никаких аналогий и никакого символизма: десять лет спустя, в 1990 году мне посчастливилось побывать в Чувашково с новым поколением абитуры. Мало что поменялось за это время, но песня была другая. Также прекрасно и самозабвенно её пел с часу и до трёх ночи немного поддатый чернокудрый музыкант:
Сюда послать мог только пьяный.
Спасибо нашему декану!
Сюда послать мог только пьяный.
Спасибо нашему декану!
Сюда послать мог только пьяный.
Спасибо нашему декану!..
Потом эти бесконечные куплеты молитвы окончательно вымотали парнишку, и он ушёл спать.
…В шесть утра, как и 10 лет назад, на всю мощь одинокой колонки, рявкнула мелодия тогдашнего хита. Пластинка была совсем свеженькая. А вот проигрыватель, рискну предположить, ещё наш, проверенный.
1.5. 200 га.
Первый колхоз продолжался долго. «Красная армия» за два дня убрала «августовские» остатки лука. Потом убрала свои плановые 200 га картошки.
Кто считал, тот помнит, что двести мы убрали к 21 сентября. Потому что после 18-го нам перестали на линейках сообщать о выработке вчерашнего дня. Потому что уже сильно поредевшая наша армия (остались те, кто работал за двоих) всё равно к 25-му убрала ещё гектаров 20.
Потом приехал местный начальник и с болью в голосе говорил о небывало большом урожае. И о том, что без нас уйдут под снег 40 га отборной, почти семенной картошки. Что мы выполнили свой наряд и нам большое спасибо! Но!..
Он просит нашу комсомольскую совесть!
И он просил так искренне и правдоподобно, что ни у кого и не возникало вопросов: а кто планировал и сеял 260, когда знали, что студенты уберут с героическим напрягом 200? А что, местное население только халкать способно, а на поле выйти – западло? А платить нам будут за 200? За уже убранные 220? Или за все 260?
Ну, может, у кого-то вопросы и возникали, но они об этом не сказали.
В общем, это был очень долгий колхоз. Точных дат не помню, но, кажется, в последний раз мы сходили в поле 30 сентября… Или 1 октября? Потому что 6 октября начались уже наши занятия в родном и любимом универе…
;
Утрами, после 20-21 сентября, картошку стало подмораживать. На поле мы шли уже по инею, и он не таял до обеда. Поэтому погрузка работала с яростью морского десанта времён Великой Отечественной войны. Всё, что собрано за день, должно было быть увезено в хранилища.
Однако ребята-грузчики были героями, но не железными. Да и красная армия уже чуяла последний гон и после того, как нам подкинули сорокагектарную подлянку, трудовое остервенение достигло пика. Производительность выросла. На поле оставалось всё больше и больше не убранных накануне мешков. Картошка мёрзла.
…Похоже, никого, кто перед нами выступал, это уже не волновало. Отчёт пошёл наверх. Урожай убран весь! А в общих сотнях тонн процент подмороженной картошечки был мизерным, несущественно малым.
И мы ехали по убранным полям на автобусах к нашему спецпоезду, глядя на оставшиеся ряды мешков, засыпаемые редкой снежной крупой. Глядя на сиротливые 2 или 3 бригады грузчиков – наших родных, суетящихся возле «зилков» крошечными фигурками.
Без пафоса: так появилось «это наша земля». Это наша страна. Это – моя Родина и мой народ.
А грузчики, остававшиеся всё сгрузить в машины, а из машин – в хранилища, воссоединились с нами числа 5 или 6. Октября, естественно.
;
19 сентября я сачканул в Город (Красноуфимск, конечно, городом был, но не считался; у нас был один Город). Моя сестра Таня выходила замуж. И я пошёл к командиру. Корепанов был строг, но человечен: «Завтра работаешь до пяти. Потом – бегом с поля. Отсюда пойдёт «ПАЗик» до Кырска . Утром твой поезд – в Свердловске. Гуляешь на свадьбе. Садишься в «вечерний» , и следующим утром – на линейке! Опоздаешь – будешь исключён из отряда. Понял?»
Конечно, понял. Самое главное – не опаздывать. Исключение из отряда было равнозначно исключению из универа. А я этого не хотел.
Я опоздал.
Нет, свадьба прошла нормально, но за 2 часа до вечернего поезда мне стало плохо. Я просто переоценил свой желудок, привыкший к колхозной пище. Как бы сейчас сказали, случился быстротечный желудочный грипп. Вызывали даже «скорую»…
Физически я стал способен к движению часов в 10 утра следующего дня. Рванул на вокзал. Меня сопровождала мама. Она, конечно, была в курсе ожидаемого моего исключения и хотела помочь. Тут нам попался идущий 4 часа до Кырска комфортабельный поезд, в котором мне удалось ещё немного отлежаться на верхней, застеленной бельём, полочке.
Потом попутка до Чувашково.
Не доезжая, сгружаемся прямо в поле. Маму прошу не ходить со мной, оставаться у машины. Может, придётся забирать вещи, и мы поедем назад.
С трепетом подхожу к Корепанову, стоящему в отдалении от бойцов в своей плащ-палатке и глядящему вдаль. Докладываю об обстоятельствах своего дезертирского поведения, протягивая бумажку, выпрошенную у фельдшера «скорой». Не глядя на меня, не глядя на бумажку, которую он взял и сунул в планшетку, не отрываясь от созерцания горизонта, он чётко чеканит:
- В б;розду!
Вот это и есть – простое человеческое счастье.
Мама уехала. Мои товарищи на Заречной, 1, вечером ели торт со свадебного стола. Перепало немного конфет и плюшек моей бригаде за ужином. Но, главное, утром следующего дня я снова стоял на линейке в общих рядах бойцов и не был зачитан Командиром в списке изгоняемых дезертиров (хотя, как я сейчас вдруг вспомнил, не всё было так гладко; бригадирша до последнего, похоже, не знала, как обернётся моё дело).
Я не стал «зубром» . Да, я достоял этот колхоз до конца. Да, это был один из рекордных по длительности «сентябрей» (рекорд был в древности – выезд борозды домой 6 октября; наш результат – второй). Но в следующем году я поехал в августовский колхоз, на «лук». Зубры так себя не вели. Это была слабость.
1.6. Запахи и звуки.
«Сентябрь» помнится запахами и звуками.
Вот запах свежескошенной картофельной ботвы нового участка поля, мимо которого мы проходим на работу – бригада за бригадой.
Ряды наши далеки от стройности. Идём хоть и быстро, но никто не торопится. Ведь только что съеден завтрак – большая глубокая миска жидкой манной каши со шматом свежего (ах, что за аромат тоже!) хлебушка, запиваемые крепким чаем. И завтрак этот ещё живёт в нас, переливается по желудку, весело булькает…
Он переварится полностью часа через два–три. А страда начинается около восьми. Точного времени нет. Просто все спешат к 08:00. Может получиться раньше, когда поле рядом. Можно идти до дальнего поля полчаса…
Когда совсем далеко, часть бригад Командир приказывает доставлять автобусиком, выполняющим челночные рейсы «Общага – Загоризонт».
Автобусик тоже пахнет. Бензином, пылью и предыдущей бригадой. Это обычный «ГАЗик», созданный для перевозки людей. 20 – 28 человек. В него набивается, как правило, 2 – 3 бригады. Человек сорок пять – пятьдесят…
<Написал – три… Бригады . Ну, это когда больные и увечные освободят от своего присутствия ряды здоровых и заматеревших бойцов. Это позже, на третью, четвёртую недели. А вначале – только две – по двадцать человек, ну и 5–8 человек «левых», дотрамбованных, чтобы место не пустовало.>
Автобусик бегает шустро, особенно, когда идёт пустой обратно. Он подымает огромные облака пыли, несомой на нас лёгким утренним бризом. Вместе с пылью бригады накрывает густым, не термоядерным, конечно, но уже атомным ароматом свежевскрытой силосной ямы.
У кого с обонянием всё в порядке, тот легко отличает этот запах от запаха, приносимого с коровников, стоящих в полутора километрах к северо-востоку.
;
…А вот звук тишины.
Когда нет мешков. Когда их преступно не подвезли по ротозейству Завхоза, и бригады стоят, упав на только что наполненную тару, отдыхая, конечно, но зная при этом, что гонов-то меньше не станет, что дневная норма священна. Что в соревновании бригад побеждает не только сильнейший, но и хитрейший. Тот, у кого припрятаны «со вчера» или в сегодняшней битве заначек лишние пустые мешки и сетки.
Тот, кому регулярно в конце пятидневки и по её итогам дают на утренней линейке торт на всю бригаду, оставляемый, конечно, на ужин.
Побеждают всегда Третья или – реже – Первая бригады. Наша Шестая – без шансов. Мы даже несколько раз опускались на последнее позорное место. И в совокупности с ещё каким-то штрафом заработали внеочередной наряд на кухню – чистить бесконечные баки картошки на следующий жраточный день, на все две сотни голодных ртов, и драить от пригара многочисленные баки, кастрюли и гигантские сковороды.
Но большей частью мы держались в середине таблицы и о тортике только мечтали в коротенькие перерывы.
<«Вот вернёмся в Город, возьму где-нибудь 2 рубля, сорок копеек, пойду и куплю себе килограммовый (а меньше не было) любимый тортик «Нежность», приду домой и медленно скушаю ВЕСЬ! Сам, один.»>
Перерывы были, не отрицаю. Поясницы не железные. И, по мере накопления усталости, бригадиры (а они ведь тоже люди; плоть от плоти родной бригады!) давали нам возможность распрямиться и передохнуть. И объявляли перерыв – на водопой, когда жарко. Или на «выжать мокрые носки и поправить накидки от дождя», когда лило с небес.
Оооо! – этот запах наших носков!
Их стирали, когда удавалось пройти с этим к умывальнику, стоявшему на улице у общаги. Но нас было много. И не всегда желание совпадало с действительностью. И у краников стояли и делали свои дела другие люди. Краников было 10 или 15. И возле каждого, у длинной-предлинной лохани, стояла браздарка или браздарь с родными носками и трусами. И часто было так, что у каждого краника ещё 1-2 человека ожидали своего права …
Свежевыстиранные носки, а также мокрые плащи, штормовки, сапоги и пр., отправлялись в сушилку, где всегда не хватало места. Но если хватало, мощнейшие ТЭНы и вентилятор высушивали всю Вашу амуницию за час.
Нам, квартирующим у местных поселян, этот час ещё надо было выкроить после ужина (если повезёт с местом в сушилке). А потому мы обременяли мокрой одеждой «хозяйские» печи и устраивали постирушки, когда нас стали любезно приглашать в «свою» баню помыться.
…Так или иначе, от носков шла несусветная вонь – и от заскорузлых и стоящих колом у кровати, под которую мы их снимали, и от «свеженьких». Причина простая и банальная: сапоги-то изнутри вымыть и избавить от запаха было значительно труднее. Просушить после этого – тоже проблема. А на следующее утро идти в мокрых – однозначно – стереть ноги до кровавых мозолей.
;
Видели мы эти мозоли у несчастных лоховатых пацанов (девочки более аккуратны и внимательны к себе). В медпункте их не могли залечить, потому что обладателям мозолей на следующее утро надо было опять ковылять в борозду. И вечером приходилось повторять процедуру санобработки. И следующим вечером – тоже. Пока юный организм не справлялся сам.
Ну а если не справлялся?
Ни в коем случае! Болеть было нельзя. Особенно: болеть высокой температурой, кашлем, воспалением лёгких и прочими дизентериями. Такие болящие почти приравнивались к дезертирам (а я уже писал, чем каралось дезертирство) и, в лучшем случае, отправлялись на вылечивание в больничку Кырска.
Вот уж куда совсем не стоило попадать! Лучше подыхать в отряде!
Как и в годы Великой Отечественной войны, наша медицина продолжала славиться поставленными на ноги раненными и увечными, которые возвращались в строй, в отряд, дня через 4-5-6 (зависело от тяжести недуга). При таком раскладе клеймо полу-дезертира снималось и вернувшийся, наоборот, начинал светиться в ореоле героизма и трудовой доблести.
В любом случае – живым или полудохлым – ты должен был достоять до конца.
Узкоколейка в Боярке маячила нам из школьной программы . Только тогда Городу нужны были дрова.
А сейчас Городу дрова не нужны. Нужна картоха.
…Ой! То есть еда у них была?! Тогда, в Гражданскую, когда геройствовал Павка…
;
Носки больных мозолями не воняли. Они пахли медициной.
Нет, я не нюхал носки своих товарищей специально. Просто в редкие перерывы каждый стремился – если не идёт дождь – прежде всего снять сапоги и дать простор и прохладу ногам. Ну а если дождь шёл, носки надо было просто выжать. И снова надеть.
Не учуять этот запах было просто невозможно.
;
…Однако, мы оставили бригаду проходящей мимо аромата свежескошенной картофельной ботвы. Делала этот аромат специальная машина, которую тянул трактор «Беларусь». Ботва, измельчённая в крупную крошку, отлетала в кузов ползущего рядом с трактором грузовичка, или просто рассеивалась по полю. Этот запах означал, что дня через 3-4 мы придём на благоухавший участок, и будем укрощать наши гоны тут, ближе к общаге…
А сейчас нам идти к горизонту, туда, где застыли в ожидании юной армии чудо-машины – маципуры – гигантские, тянущиеся за трактором ножи, вспарывающие землю на глубину 25-30 сантиметров и подающие её на специальные элеваторы с прутками, через которые земля просеивалась и возвращалась на место. А поднятая картоха падала позади маципур на пуховую, мягонькую, как специально приготовленную для этих упитанных королев, подушку свежего гона.
;
Тут можно снова перейти к звукам.
Незабываемый звук – трескотня маципурных элеваторов, работающих по тому же принципу и так же громко, как танковые гусеницы. Первые английские танки с их широченными огромными гусеничными движителями чем-то похожи на наших юрких, грохочущих помощников. Они точно эволюционировали из одной ветви механических слуг человеческой цивилизации.
…Звук рельса, в который бьют железным прутом, обозначая перерыв на обед. Это жёстко – по времени. Это нельзя отсрочить или передвинуть на «пораньше». Обед завязан на столовку. А столовка работает строго по часам.
А вот звук окончания работы – тот же рельс – не всегда звучит для всех. Нет, он звучит на весь отряд. Но бригадирам виднее – выполнена ли дневная норма. Наша Шестая – пару-тройку раз оставалась в поле и на полчаса, и на сорок минут позже ласкающего слух вечернего гонга. Мы дорабатывали своё и возвращались в деревню по темноте, к остывающему ужину. К ужину без добавки.
;
А завтра поутру, во влажном и пахнущем пригоревшим молоком полумраке столовой – снова жидкая манка или жидкая пшёнка. Или крупно покрошенная варёная картоха. И неувядающий, созданный местными гениями, лозунг, увековеченный на плакате над «раздачей»: «Ешьте манную кашу: она избавляет от тайных пороков!». Если не ошибаюсь, афоризм был подписан. «В. Лившиц».
Плакатов с подобными, бодрящими нас лозунгами, много. Они натыканы на всех, белёных извёсткой, столовских стенах…
Да! Всегда – в первые полторы недели колхоза – столовка пахла свежей побелкой. Потом этот запах исчезал: мы уносили его с собой на поля. И в дальнейшем нас радовали тут только пищевые ароматы. Привычные – то капустного супа и манки, то кусковой картошки в подливе, очевидно сделанном из банки тушёнки и 20 литров воды. То аромат праздничного (ура ему!) какао!
И однажды, последним днём, вызывающие обалденное чувство домашности, запахи поджаренного теста, когда родные и любимые поварихи под конец страды балуют нас оладушками с целой ложкой пусть и немного разбавленного, но сгущённого молока.
…И как его не разбавить? Ведь нас – армия. За длинными столами - 5 бригад борозды и грузчицкая бригада (либо дегустирует нашу жратву за шестым столом начальство и другой командно-административный персонал). А потом – вторая смена. Ещё 5 бригад и вторая бригада грузчиков. И все они – в очереди у раздачи. И сгущёнка должна ни в коем случае не тянуться тоненькой липкой струйкой. Она должна мгновенно слетать с ложки на Ваши четыре пригоревших оладья.
…Плакаты на белёных стенах, вообще работа комиссара и его помощников, ювелирно балансируют на грани. Нам надо дать почувствовать – какие мы герои. Но при этом – не перешагнуть за… Не дать героям поверить, что они – нечто исключительное и, потому неприкосновенное, как, например, герои эпосов, о которых нам скоро поведают на лекциях преподаватели. Немножко стёба, немножко грубоватого юмора, чуток цинизма. И все мы становимся одной семьёй. Навсегда.
Ну, по крайней мере, надолго…
1.7. Происхождение вида.
Запах резиновых перчаток.
Нам было сказано на собрании абитуры в универе: запастись как можно большим их количеством. Резиновыми медицинскими; более солидными, приобретавшимися тогда для садоводческих работ; и ещё более крупными и толстыми, монтёрскими. Под них велено было купить и одевать обычные, матерчатые, «перчатки для хозяйственных нужд».
Работа в перчатках сильно сближает людей.
Например, идёт дождь. Сентябрь ушёл за 20-е числа и дождик – не редкость. Вы давно привыкли к трёхкилограммовым гирям не отлипающей грязи на каждом сапоге. Но вот что плохо: все Ваши запасы резины н; руки закончились. Порвались. И Вы начинаете с утра в матерчатых, «дляхозработных». А что делать?..
И перчаточки Ваши, конечно, быстро пропитываются грязью. Соскальзывают со схваченной привычным движением картошки. И уже картошка летит мимо ведра, заставляя Вас сдать назад, поднять её и вернуть туда, где ей полагается быть. Но – самое страшное! – перчатки Ваши начинают соскальзывать и с пальчиков. С грязных и мокрых Ваших заледеневших ручонок. И повисают на них слипшимся бесполезным комком.
Соскользнут с большого пальца – и исчез Ваш отработанный десятками тысяч однообразных движений хват. И Вы уже – даже не четверть браздаря. Вы – ноль, да ещё вредящий ноль. Это – не по злому умыслу, конечно, но всё равно – из-за Вас и Вам подобных после зачистки поля нужна подборка. Повторное прохождение убранных гектаров. Понятно, что некоторые картофелины случайно втоптаны или не примечены бойцами и со справной амуницией на руках.
Но большая часть подборки – это всё-таки вина сбившихся с ритма по разным причинам браздарок и браздарей. И главная из этих причин – соскальзывающее в дождь с рук, грязное, не защищённое резиной, купленное в строительном магазине Вашим заботливым папой нитяное барахло.
И в миг отчаяния и слабости, в миг паники, к Вам подходит девушка Надя – не бригадир и даже не помощник бригадира, а просто человек с большим и горячим сердцем – и протягивает Вам новенькое хирургическое, обеспечивающее и тонкую чувствительность, и тепло пальцев, РЕЗИНОВОЕ чудо.
Да, придётся потратить время на то, чтобы метнуться к дороге, отмыть в луже свой нитяной ужас. Потом ещё время – чтобы долго, но умело (не дай Бог надорвать!), натягивать белый, пахучий (благоухающий) шедевр на тёмно-серое нечто…
Но вот Вы уже в строю и Ваш чёткий, выверенный ритм гонит Вас вперёд. Грохот картофелин, градом несущихся из-под Ваших сноровистых рук в пустое ведро, подымает в душе радость. Беспричинную радость коллективного труда.
Да, классики марксизма в чём-то правы: труд сделал из обезьяны человека. Но Настоящим человек стал только в результате труда в коллективе.
И никак иначе.
Потому что, и в жару, например, без коллектива – никуда.
Потому что Вы с бригадой – в точке Загоризонта. И возить вас в автобусе на обед в столовую, а потом обратно – это потеря драгоценного времени, а главное – ещё более драгоценного темпо-ритма.
И вам привозит всё в термосах на телеге с лошадью Бимкой потомственный «лошофёр» Телёнков. Он бредёт рядом с телегой достаточно медленно, иногда понукая Бимку и ударяя её тихонько вожжами. И приходит в расположение бригады сильно поздно, когда реально обеденное время подходит к концу.
Лариса, Ваш бригадир, виртуозно «обкладывает» Лёху Телёнкова великолепным русским матерным. Тут некого стесняться. Тут все свои и всё – по делу…
Но дело уже не поправишь.
Этому раздолбаю через 10 минут надо возвращаться обратно, с рапортом о накормленной бригаде.
Бригада быстро раскладывает всё на клеёнке (от дождя – на всякий случай – всегда носится с собой).
А Вы замешкались! Вы не только не можете помочь бригаде, Вы просто рискуете остаться полуголодным. Потому что в жару – а такое случается в отдельные сентябрьские дни – Ваши матерчатые перчатки намокают изнутри, а Ваше резиновое чудо раскаляется снаружи. И от этой беды пальцы и суставы разбухли неимоверно. И ни Вы сами, никто другой, не в силах освободить Вас от несъёмной, непонятной Божьей кары.
Как итог: в силу Вашей природной чистоплотности, хлеб Вам теперь брать нечем. Ведь не этой же, воняющей резиной, грязью!
А хлеб – это б;льшая половина питательного рациона рядового браздаря.
Заметьте, Вы страдаете меньше всех. Ну, пошвыряете алюминиевой ложкой в голодный рот жидкий супчик и кусковую картошку (а кому надо, находясь в наряде после трудового дня, резать её мелко; просто разевайте рот шире). Ну, запьёте всё сладким чаёчком…
Наверстаете свои калории за ужином!..
Но неизбежно у голодного браздаря падает производительность труда. И может от этого пострадать вся бригада. Особенно, если Вы – её проверенный и самый скоростной во всём отряде лидер.
…Вам дают миску с супом. Вам вставляют в опухшую кисть, обтянутую грязной хирургической резинкой, чистую ложку.
Хлебать-то Вы можете!
И вся бригада начинает трудиться вокруг Вашего алчущего рта, успевая вслед ложке досылать в него своими условно чистыми руками ароматнейшие куски свежего хлебушка.
Только бы Вы были сыты!
Вот такой коллективный труд и создал когда-то настоящих Людей!
А Телёнков – питек;нтроп и чмо ползучее!
1.8. Подъём.
Что-то засиделись мы тут, возле перчаточек.
А ещё ж столько запахов вокруг! Столько звуков!
С самого утра. Даже немного раньше. Ещё когда Вам не понять – спите Вы или уже дремлете.
По скрипучим половицам общажного коридора бухают сапоги Завхоза Алика.
…Когда где-нибудь включают песню Окуджавы и в ней слова: «Вы слышите, грохочут сапоги…», – Вы воспринимаете её не так, как хотел автор. Со всем почтением к его жизни и творчеству: не это есть правда об общей беде. Всё, что Вы узнали от фронтовиков, которые вернулись живыми с передовой…
Которые резали, душили… Которые стреляли и убивали врага…
Которых душили и резали, которых безнаказанно накрывали миномётами прямо из близеньких вражеских окопчиков…
Всё, что Вы поняли из рассказов воевавших на передовой Ваших родственников – ветеранов Великой Отечественной, из слов «афганцев» и «чеченцев»… Всё это не может лечь в текст. Ни в прозе, ни – поэтический…
Это – просто бухают сапоги Алика, который идёт в радиорубку, включать всем побудку. Радиорубка – в конце коридора. И комната – на 40 человек; 20 двухэтажных кроватей с молодыми, здоровыми, храпящими и пукающими вечерней гороховой кашей, парнями – тоже в самом конце, у сушилки и радиорубки напротив.
Слышен каждый звук: приставлены по-армейски каблук к каблуку возле двери; поворачивается ключ в замке; три-четыре шага внутри; гудение усилителя… Шипение…Пошла пластинка! Вот сейчас рванёт!...
«Мы все спешим за чудесами,
Но нет чудесней ничего,
Чем та земля под небесами,
Где крыша дома твоего…»
Громко. Душераздирающе. Душевно.
В самый раз, чтобы проснуться, сбросить своё ноющее тело со второго яруса, выматериться, и начать одеваться. Извини, Юра . Ты не заслужил…
Это – не тебе, это Алику, Командиру, Комиссару, Командиру Сводного отряда, а также Телёнкову, тем дармоедам из комиссарской и чуть-чуть – отрядному Куратору…
…!
Всего три слова – на всю компанию! И, заметьте, целых два – вполне цензурные…
«И если вдруг тебе взгруснётся…»
Уже треть обитателей ночлежки привела себя в вертикальное положение. Вставать надо быстро. В сортире всего 4 «очка» на каждой из половин. И у девчачьей его половины всегда очередь… Да и пацаны тоже должны оправляться быстро-быстро.
И у краников для умывания – тоже очередь. А потом надо бежать занимать очередь у раздачи на свою бригаду, накрывать завтрак…
Но до этого ещё – ох, как далеко!
Минуты ещё три…
;
Пластинка – утро за утром – стопорится в одном и том же месте: «Мир полон радости и счастья…». Всегда – тут! Казалось бы, можно сменить пластинку. Но – не в комиссарских это планах. Это программная песнь. Песнь Песней нашей колхозной Библии. С нею, как бы ни было горько отрывать свои головы от подушек, снова хотелось жить и работать. Потому что вожделенная крыша дома твоего была где-то вдали. Но – была! С яичницей из трёх (нет – из пяти; нет – даже семи!) яиц в шкворчащей весело родительской сковороде. Дом был. И ждал тебя…
;
Ах, эти яйца! Яичница была вожделенным предметом мечтаний. В разговорах в борозде она занимала почётное третье место после любви и песен. Может быть, оттого, что резко не хватало белка.
Не хватало любви, не хватало музыки, поэзии, прекрасного.
И не хватало белка.
И, уже после колхоза, между поездами из Кырска в Свердловск и из Свердловска – на 2 дня на родину, к папе и маме, Вы, сидя в ресторане, тогда ещё существовавшем на нашем грешном вокзале, гордо бросаете официантке:
– Яичницу. 5 яиц. Средней прожарки. На все!
И мятые два рубля на столик!
;
Иголка никак не могла перескочить с «мира радости и счастья» дальше. Иголка не шла…
– Бля-а-а-а-а-т-т-т! – с кавказским акцентом, громко, на всю общагу, орал, уходящий было по коридору, Алик.
И каждое утро: слышен его бухающий бег обратно, с половины пройденного – назад; треск передвигаемой грубо иглы и завершающие слова песни – «…так прекрасно возвращаться».
Это могло достать кого угодно. Из утра в утро – 6 дней подряд.
– Б…т! – и топот по коридору…
– Б…т! – топот…
– Б…т! – и снова бежит мамонт…
Доставал не мат в почти женской общаге, не плохо спланированное действие в радиорубке.
Командира достала рушащаяся партполитработа в Его отряде.
Шесть дней!
И хотя Завхоз был лицом священным и неприкосновенным – в любом колхозном отряде; даже для Командира! – на седьмое утро, после:
– Б…т!...
Все слышат командирские шаги и спокойную, тоже немножко матерную, но тихую, констатацию:
- Задолбал, Алик. Наряд!
Это неслыханно, но это тоже – с нами: Завхоз вечером чистит картошку, вместе с очередной наряженной бригадой!
Все следующие утр; Алик караулил пластинку и со скрежетом сдёргивал иглу дальше, со злополучной бороздки…
«…рай родной милей всего.
И так прекрасно возвращаться
Под крышу дома своего.
Под крышу дома своего».
Так песня становилась ещё душевней.
1.9. Кто, если не мы…
Колхозный магазинчик всегда закрыт. Он практически на соседней улице, через два – так их! – дома от общаги. Но он закрыт и в семь утра, и даже в восемь! Он закрыт и в восемь вечера! Дверь перечёркнута решительно длиннющей железной полосой с амбарным замком.
Он работает, но нас нет рядом. Нас нет рядом всё утро, весь день и весь вечер. Тамара – продавщица и по совместительству учётчица на Зюрзе – открывает заведение после 10 утра. И держит его открытым до 13.00. А потом уходит на станцию; продолжать зарабатывать свой хлеб. И мы шагаем на обед с поля мимо этих жёлто-коричневых, со ржавой железной полосой поперёк, дверей…
А сколько там интересного и вкусного внутри!
Оно – для местных жителей. Оно покупается днём. Легально, за деньги, из рук в руки, если товара много. Или – по доверенности, тайно, только своим. Когда товара мало и он дёшево стоит.
Мы знаем столько магазинов в нашем Городе! Мы знаем и пробовали столько вкусных вещей к нашим семнадцати…
Мы знаем к нашему возрасту и путём нехитро проведённого в бороздах опроса:
– 85 сортов газировки – по разным уголкам СССР;
– 43 (разного вкуса и рецептуры) сорта колбасы «Молочная»;
– ещё больше оттеночков и нюансов – колбасы «Отдельная»;
– десятки принципиально отличающихся друг от друга колбас с одинаковыми названиями «Охотничья», «Ливерная», «Чайная»;
– бессчётные вариации – вам и не снилось, уважаемые потомки! – обычной колбасы «по два двадцать»…
<Сравните это с современным изобилием: КОЛБАСА с твёрдым вкусом глутамата натрия (разных названий твёрдо- и сырокопчёные), КОЛБАСА с немного менее твёрдым вкусом глутамата натрия (разных названий сервелаты и так называемые полукопчёные), КОЛБАСА с мягким, жидковатым вкусом глутамата натрия (разнообразные варёные)…>
… – мороженое!!!
Ёкарный бабай!!! Не травите душу!!!
Господи!!!
– 84 сорта только московских шоколадных конфет;
– а ещё ленинградские, куйбышевские, местные Городские и совсем экзотические, со всех концов огромной и шоколадообильной нашей великой Родины;
– никтонесчитаетсколько сортов карамелек, тянучек и леденцов, пряников, печенья, халвы…
Ооооо! Халвы!!!!!
В огромном брикете, от которого продавщица откалывает-отрезает большим ножом истребованную порцию…
«Мне – полтора килограмма, пожалуйста!»
Даже сейчас слюна переполняет рот и сглатывается.
Закрыто! Нет никого в магазине.
;
Пятая бригада! Стратеги! Мозг;!
Второй обед – а их будет пять! – вся столовка наблюдает одну и ту же картину. Пятая бригада накрывает себе.
Жидкий борщ – в двух большущих кастрюлях на стол, чтоб не расплескать.
20 глубоких мисок под «первое», а когда оно съедается – со своей миской, к раздаче! За «вторым»!
4 плоских миски под хлеб. В каждую – по ювелирно распластанному хлеборезом кирпичу всемуголовы.
Три мисочки со свежим луком, очищенным и порезанным на 4 части.
Лук – это подарок. Оставлены «сентябрю» 20 сворованных у государства августовским отрядом двадцатикилограммовых сетки этого продукта. Без них ежедневная варёная крупнокусочная картошка не лезет в глотки.
Всё, как у людей.
Но!..
Мы же следим! У нас намётанный на еду, цепкий и всепроникающий взгляд. Который видит иногда даже сквозь доски раздачи, отделяющие кухню от жрального зала, как Алик кушает тушёнку прямо из вскрытой им железной банки…
Зачем Пятой – ещё 4 пустых глубоких миски на столе?!!
Наступает чай. Бригадир пятой, девочка Женька, достаёт откуда-то из складок одежды большой полиэтиленовый мешок и раскладывает в каждую из пустых мисок – мы замираем! – по 15 штук шоколадных конфет.
…Аж по три штуки!
Каждому!!!
Стратеги! Мозг;!
Пользуясь своим знакомством с поварятами, на 10-й день страды, когда уже невыносимо желание организма положить в рот сладкую карамельку…
– и сосать её до исчезающей «в нет» пластиночки…
– и потом – ещё долго чмокать языком, сохраняющим вкус…
– и потом – уже просто вспоминать и мечтать…
Пятая сговаривается. Поварята, которым – единственным – выпадает лицезреть вожделенную открытую магазинскую дверь, сообщают, что завезли туда, и лежат там невостребованными шоколадные «Мишки…».
Не косолапые, а северные . Ни с чем не сравнимого вкуса. С орешками и вафельками, покрошенными в шоколадную крем-пасту. Которые не прекращали выпускать даже во время блокады герои–ленинградцы!
Лежат…
Местным – дорого. Это одни из самых дорогих шоколадных конфет СССР. Дороже – только трюфели.
Поварята тоже не решаются купить себе… 200 грамм – мало. Только попробовать... А на килограмм уже ни у кого не хватает жалких остатков личных средств.
И Пятая бросает клич.
Нет! Не клич. Как всегда, на Руси – шапку по кругу. Кто кладёт последний рубль, кто – пятёрку, кто – даже «шесть-сорок восемь», мелочь тоже считается…
Только – тайно. Чтобы никто не успел раньше.
А что? Они в своём праве!
Это была их идея. И они сделали это!
Целый ящик конфет. Большая коробка из гофрированного картона, полная шоколадных конфет, донесена поварятами до общаги и сгружена под Женькиной койкой.
Стратеги! Будущие доктора и кандидаты наук, будущие учителя высшей квалификации, будущие следователи, художники, кораблестроители, предприниматели и воспитатели младших, средних, старших и подготовительных групп.
Элита моей страны!..
Пять дней блаженства. Пять дней театрального зрелища. Пять дней триумфа.
Ведь это – не просто конфеты. Это вызов всему, что официально и, потому, не сильно человечно. Вызов порядку вещей, при котором мы не можем войти в магазин и купить себе то, что хотим. Вызов установленным правилам раздачи сладкого – только за победу в соревновании бригад, только раз в пятидневку, только килограммовый торт на 20 душ.
И вызов рутине дня.
Мы сами придумали – как! Мы устанавливаем собственные понятия справедливости и прижизненного воздаяния! Мы (и только мы) учреждаем Праздник в обычный, будний, трудовой наш день и делаем этот праздник длинным-длинным.
Ещё до ваших «куршавелевых» и никому из народа не нужных десятидневных январских лентяйных выходных!
;
Пятая! Мы все считали!
5 дней. По 3 конфеты на хайло. Вас двадцать! 60 умножить на пять – равно триста. Триста конфет – это 4 килограмма 300 граммов.
В коробках – стандартных советских коробках – 5 килограммов.
700 граммов не хватает…
Пятая!
Мля!
Куда делись у вас ещё 49 штук «Мишек на Севере»?!
Снимите гриф секретности, уже можно. Скажите честно…
Молчит Пятая бригада.
1.10. Банный день.
– Отряд!..
Командир делает длинную паузу и все 200 бойцов замирают…
– Сегодня банный день. Работаем – как обычно. Норму сделать к 17.30! В 17.30 все выдвигаются к общежитию. На сборы – 15 минут. Не позднее 18.15 автобусы выезжают в Кырск – с вами или без вас…
Народ радостно выдыхает. Прошло 10 дней страды. Все в той или иной степени заросли грязью. Как обходятся девочки – не знаю (до сих пор). Но в наличии только холодная вода в умывальнике.
Предполагаю, что некоторые бригады договариваются с поварятами и кипятят себе кастрюли…
Прошло 10 дней однообразной работы. И хотя силы в молодых организмах ещё есть, однообразие выматывает.
А нас везут в город!
А в городе – не только баня! Там – люди в цивильной одежде! Там автомобили и автобусы не сельскохозяйственного назначения! Там, может быть, если кому повезёт – открытые настежь двери магазинов с едой и напитками!
…Не спиртными напитками, конечно. Командир в своей краткой речи даже не упоминает проблему.
В отряде пить можно. Можно даже пить много, в свою силу.
Нельзя 2 вещи.
Первое: нельзя покупать спиртное. Ни в Чувашковском магазине – через третьи руки. Ни у местных самогонщиков. Доказанная покупка – исключение из отряда.
И второе: нельзя попадаться пьяным. На глаза или в руки: Командиру, Комиссару, Замку, Куратору отряда, некоторым Бригадирам (мы знаем – каким!). Попал – исключение из отряда.
Поэтому у местных мы ничего не берём И молоко – тоже! Категорически! (И с ним – вплоть до исключения. Дизентерия в отряде никому не нужна!).
Поэтому мы никогда не пьём запрещённых напитков.
Их пьют всегда другие – плохие – парни. Или девчата. Пьют сырое молоко. Пьют водку, портвейн, первач. Алкают брагу местного производства, самый дешёвый в стране и потому недоступный даже в тутошнем магазине «Солнцедар». Но «Солнцедар» есть у всех аборигенов. Всегда. Ящиками. В каждом справном доме. А потому он есть и у нас…
У меня нет!
Я вообще не пью. А на молоко у меня аллергия.
Перегаром воняет? Это я яблочко съел только что. Угостили. Это у меня специфический состав слюны с рождения.
Да, врачи сказали… Ферментирование – прямо во рту начинается…
За всё время страды я не знаю ни одного случая нарушения этих двух правил…
ХОТЯ…
В каждый данный момент каждый десятый боец был подвержен греху…
Командир! Ты мог с чистой совестью проводить децимацию в любую, данную тебе Богом, властную секунду!
;
–…с Вами или без Вас, – заканчивает Командир речь.
– Бригадиры! Ко мне! Остальные – в свою смену – в столовую!
Этот день – на подъёме. Никого не надо подгонять в борозде. Само идёт! Да, рабочий день аж на 2,5 часа короче. Но парадокс банных дней: почти все бригады к 17.30 выполняют дневную норму.
Одна или две – не укладываются. Но редко… Доработают завтра. Сократят перерывы, не будет водопоев, задержатся после вечернего гонга, но обязательно выравняют своё отставание. Нельзя по-другому. Никому не улыбается внеочередной наряд на кухню.
;
Обед подкатывает лихо, как такси по вызову. А там – жалкие 3,5 часика враскорячку! И очень быстрым шагом – по дороженьке, к родной деревне, в ждущую бойцов прохладой в этот жаркий сентябрьский день общагу, к любимым кроваткам и к семейному, ещё пахнущему малой родиной, рюкзаку с пакетом…
У большинства мыльно-рыльное приготовлено ещё с «послезавтрака» или с «послеобеда». Да и много ли там готовить?! «Зубры» уже поведали нам, что постирушек не будет – помылся сам, уступи шайку товарищу и выходи строиться!
Поэтому – автобусов ещё нет, а мы – вот они, роимся…
Нет, скорее, табунимся. И роем копытами с присохшей к каблукам грязью редкие проплешины конотопа между общагой, умывальником, сортиром и столовой.
Все – с почти одинаковыми, но разных цветов, полиэтиленовыми – домашними! – мешочками.
Маленький пакетик с мылом в пластмассовой оранжевой мыльнице, с чистыми носками, трусами. И даже трико и футболкой – у кого есть. Просто походить вечером во всём чистом. На ужин – и до самого отбоя!
А, считая ночные часы сна, ты чист и благоухающ земляничным мылом…дай посчитаю. С семи… Восемь, девять, десять…
Ты чист и свеж, ты почти…Одиннадцать часов – ты почти!...
Не успеваю додумать – почти кто я?
Не укладываюсь… Во всё это, бесценным даром брошенное нам, мне, время.
За общагу подруливают автобусы.
;
Ещё один памятный звук – звук изношенного, работающего на последнем пределе, воющего и визжащего на третьей передаче, автобусного мотора.
Да, местные Шумахеры способны разгонять свои древние колесницы по полевым дорожным колдобинам до 45 км/час. А на коротком асфальтовом отрезке в Кырске и до шестидесяти…
Шумахеру ещё вообще 11 лет. Мы не знаем – кто такой Шумахер… Кто он такой и что привело его на эту страницу?..
Трать-тара-рать!!!
Нет, сегодня ни одна мысль не додумывается до конца.
;
Вообще, в борозде, ни одна мысль не является конечной. Ты думаешь с утра о маминой котлете. О том, как она смотрится среди соседок по сковороде. О том, как ты её прокалываешь вилкой и из её жаркого нутра выступает бесподобного вкуса…
Нутра – с утра… О чём это я?..
Мамина котлета. На сковородочке. В соусе, наполовину закрывающем её. По юбочку. Раз…Два…Семь котлеточек и все – по юбочку…
Сглатываешь. Не соус, а полный рот слюны.
Уже с восьми до десяти ты грезишь котлетой. Бросаешь сноровисто картошку в вёдра, наполняешь их одно за другим, вместе с твоей напарницей Наташей. 4 ведра, восемь. Девятое. Пустые вёдра кончились. Бежишь высыпать к рядку бригадных мешков.
Два ведра в одной руке, два – в другой…
<Мастер-класс для ни хрена не умеющего нынешнего поколения! Как донести, не потеряв урожай, 4 ведра картошки в двух руках…
По очень неровному полю.
Быстро! Эффективно! Дорого! (я дорого беру!).>
Две ходки с нашими вёдрами. Натаха тоже подтаскивает одно. Спешат к мешкам со своими вёдрами другие браздарки. По ведру в каждой руке…
Им надо помочь, донести и их добычу, оставленную на рядке. Ещё 4 ведра – ходка…
Что – успеваешь, а что и – нет…
Парню надо шустро быть у мешков, освобождать вёдра, вываливать картоху в мешочный зев, который держат пока браздарки.
Но вот уже вёдра освобождены тобой, и браздарки уходят к рядку. Натаха тоже уходит - с пятью пустыми. И ты остаёшься один; и четыре полных ведра. Как раз: пересыпать их содержимое в один – ещё один! – мешок счастья.
<Мастер-класс для ни хрена не умеющего нынешнего поколения! Теперь о том, как в одиночку пересыпать 4 ведра картошки в холщовый несамозаполняющийся мешок (или в сетку). Не просыпав ни штучки мимо.
Быстро! Эффективно! Дорого! (я дорого беру!).>
И бегом обратно, к Натахе, которая уже заполнила два из пяти вёдер, заполняет третье. Всего, стало быть, шесть пустых ещё у нас есть…
Это нашей Лариске ещё повезло, что у неё в бригаде три парня. Есть – по двое парней в бригаде…
Нет, это не Лариске повезло. Это мне повезло!...
Руки снова врастают в ритм уборки. А мысль, неубиваемая, тягучая, заполняющая собой всё пространство под скорчившимся буквой «зю» туловом, до самой коричнево-чёрной земли нашего гона… Земли с белобокими или розовобёдрыми картофелинами, выставленными напоказ… Земли…
Какую же мысль ты думал? Сейчас вот… С восьми. А уже 10 часов и надо, наконец, додумать её… Про что?!..
Ааааа… Мамины блины. С десяти до двенадцати – мамины блины. Стопка богато улитых маслом блинов. Чистыми пальцами…
;
«Трать-тара-рать!!!» - на этом мы остановились. Я отвлёкся.
Трать-тара-рать!!!
На этом мы остановились. Резко. На почти полной – километров 30 в час точно было – скорости этой колымаги.
Как вкопанные. То есть, ехали – было 30 км/час. Миг – и ноль. Ни тормозного пути, ничего: в СТОП!
Реакция у всех – как у «олимпиадной» сборной СССР по гандболу. Стоящие – крепко вцепились в поручни. Сидящие девчонки – упёрлись руками в спинки передних сидений и спружинили свой начинавшийся полёт.
Вмиг весёлая болтовня прервана. Стоим. Молча. В столбняке. Замерли.
Работает только мотор. Звук мотора! Мы начинаем слышать…
Кой чёрт?!
Парни, что стоят впереди, в первую секунду в недоумении. Они не только начинают слышать работающий, как ни в чём не бывало, мотор.
Они начинают видеть.
Чистое заоконное пространство в переднем стекле.
Пустое кресло водилы.
Пустой, без водительских рук, руль…
Мат-перемат! Не стесняясь браздарок! Да и как тут!...
…!
Мертвецки пьяный водила. Лежит под рулём в позе эмбриона, и вправду сливаясь – сразу и не различишь – с брошенной тут же ветошью для всяческих машиночинильных работ.
Парни, кто знает, нажимают нужную кнопку, открывая двери, и высыпают наружу.
Надо ж понять, что случилось…
И тут тоже, оказывается, ничего сверхестественного.
Чмо, потеряв при сонной отключке бразды правления, позволило автобусику съехать с дороги, На наше счастье дорога была проброшена через поля так, без кюветов.
А там уж нас намертво остановила вкопанная глубоко в землю железобетонная опора для столба, потерявшая своё деревянное продолжение в небо (вероятно, украденное для хозяйственных местных нужд).
Опора – коротковата, нестандартна, метра 1,5 высоты. Скорее всего, бэушная …
Ребята возвращаются. Остальные автобусы уже пылят на горизонте.
Закрываются двери.
Чьим-то грязным, но даже в таком состоянии брезгующим этого тела, сапогом водила отодвигается в сторону...
Живой, гад! Бесчувственный, но живой.
Пацаны немного нервничают, но держатся. Всё-таки все целы.
Чмо невменяемо лежит между сидений. Повезло ему! Не лежал бы поленом – получил бы в зубы…
Такая вот баня до бани.
Все молчат.
Едем дальше. Валерка за баранкой. Валерка – с рабфака. В армии он шоферил.
В проходе болтается тушка потенциального убийцы.
Ну, всё…
Всё.
Бог пронёс – и ладно!
Доехали. И просто, без эмоций все переступают на выходе из общественного транспорта через То, что пока по-прежнему звучит для нас в некоторой степени гордо.
Через То, что будет ещё какое-то время звучать эхом добра и справедливости наших школьно-литературных понятий.
Ну а что – баня?
Баня как баня. Все в банях были.
Человек 15 из двухсот успели забежать в магазин.
«Зубры». Знали – куда бежать.
Куплена газировка, карамельки, целый большущий мешок какой-то сдобы. Всё – копеечное – денег мало. Всё – не себе, всё – в родные бригады, на ужин.
В банный день ужин считается праздничным. На столах иногда выставляются полевые цветочки в подсалфетницах. Меню не меняется – кроме тех яств, которые опытные люди, наскоро вытираясь и не суша длинные прекрасные, кудрявые, но слипшиеся браздарские локоны…
Кроме тех яств, которые наши родные, почитаемые всей бригадой, почти мамочки…
Кроме того, что отбито с боем, мимо очереди: «Мы – студенты! Мы тут картошку убираем! Мы – в Чувашково! Автобусы уже уходят наши! Пожа-а-а-а-а-луйста!... Да занимали мы!..Ё-ё-ё-ё-ё-ё! ...ать!»
Да, возвращаясь в наш автобус.
Падаль милостиво повезли в родную деревню. Откатив к заднему сиденью
От Кырска до общаги автобус вёл Замок. У него почему-то были с собой права .
На обратном пути забилась в салон и окутала свежеотмытые тела поднятая транспортом пылюга. Она присутствовала с нами и по пути в Кырскую баню, но мы ж её не замечали, потому что...
А вот обратная пыль запомнилась – от обиды, наверно…
1.11. Атлантида.
Обижайся – не обижайся, а через 12 лет я снова в колхозе. Оставив свою «бригаду» в вечной работе, иду к Командиру, за разнарядкой…
Были такие раньше директорские посиделки. Примерно раз в неделю собирались в районо совещания при заведующем. И «бригадирам» 20 школ (ну и мне, заступившему на 2 года исполнять бригадирские обязанности в Доме детского творчества) сообщалось, сколько мы сделали и сколько ещё предстоит…
Иногда (чуть реже, чем раз в неделю) нам давали поговорить и помимо жёстких командирских указаний. На одной из таких планёрок Михаил Геннадьевич (председатель Совета директоров учебных заведений нашего района), уже после выданных на неделю приказов, развлекал нас цифрами и выводами проведённого в нашем районе социологического исследования. Тогда модно было привлекать в школы науку.
Слушали все в пол-уха. Да скорей бы уж к своим делам, в родные здания!..
Некоторые обстоятельства и факты, обнародованные Михаилом Геннадьевичем, противоречили сложившемуся у меня образу объективной реальности…
Был понедельник. Я дождался пятницы, пошёл к Михаилу Геннадьевичу в школу и попросил у него этот увесистый (А4-го формата) двухтомник – отчёт группы социологов. На выходные. И он дал, под честное слово (тогда не было электронных вариантов; это была одна из трёх напечатанных на машинке под копирку копий; первая хранилась у зав. районо; вторая – в бухгалтерии, как приложение к договорам и актам выполненных работ; и третья – у председателя Совета директоров).
Открыв и начав читать первый том, я понял, что держу в руках единственное мне известное свидетельство о существовании целого огромного затонувшего материка!
…И у меня это свидетельство заберут и запрут навеки в шкаф в понедельник утром, на следующей «бригадирской летучке».
С вечера пятницы до понедельника, в промежутках плотненького графика обычных домашних дел, я переписывал цифры отчёта (копир, конечно, был на работе, но порошок был дорогой, и копировать что-то для себя не входило ещё в мои понятия «правильности»).
;
Школа терпела поражение. Окончательное и бесповоротное. Много раз я озвучивал всё это потом - всё, что наковырял тогда из проведённого на совесть социологического исследования группы учёных (где-то у меня и их фамилии списаны). Настолько много, что уставал.
И отправлял меня Господь отдыхать. Вначале – на 4 месяца – в службу занятости, регистрироваться на пособие по безработице. Потом, чуть позже, – на целый год, опять на биржу труда. Полгода – по закону. И ещё полгода – по программе поддержки малого бизнеса (бизнес-план – защита – деньги; проблемы обналичить и правильно отчитаться нету – всему научило родное малопредсказуемое государство).
;
Школа – это большое социальное зло . И мы это знали ещё в 85–ом. А в 92–ом мне дали в руки факты, из которых следовал светлый путь системы образования к звёздам.
Почему мы всё ещё не там? Потому что я вам – не Маркс. И денег мне – сиди и пиши! – никто не давал. Потому что прошло совсем немного, по историческим меркам лет, двадцать семь всего – с моего манифеста 1993 года. Если Вы помните, Маркс с Энгельсом свой написали в 1848 году. Через 27 лет после этого (1848 + 27 = 1875) Володе Ульянову стукнуло всего пять годочков. Так что всё ещё впереди.
Что же меня поджидало на этих страницах?
Не знаю, кто будет это читать. В двух словах не расскажешь. Хотя, постараюсь – покороче.
Все мы учились в школах. Потом становились родителями учеников. Некоторые – учителями. Поэтому все примерно представляют недельную нагрузку на одного школяра – 30 – 36 часов. Плюс – домашние задания.
Давайте сделаем скидку на маленьких школьников и наброс на старшеклассников. И, чтоб легче считалось, выровняем всё, что касается нагрузки – до 40 часов. На каждого. В неделю.
Это то, что требует от нас государство и то, чем оно нас обеспечивает через систему образования, содержащуюся на наши налоги. Вы встаёте утром, будите свою «кровиночку», «завтракаете» её, проверяете портфель (пока Вам ещё доверяют это), отдаёте с рук на руки профессионалам…
И, может быть, потом, вечером после работы, помогаете «кровиночке» с домашним заданием (тоже – если и пока допущены).
Школа – она у всех под боком. Школ много. Учиться есть где. Машина работает – поэтому есть «у кого». Педвузы и непрофильные университеты штампуют сотни молодых специалистов…
В нашем районе тогда было 20000 учащихся. Школ хватало на всех. Это значит, что общий объём, как теперь принято говорить, «услуг», предоставляемых от государства юным гражданам составлял 800 тысяч часов в неделю (40 часов обязательных недельных занятий умножаем на 20000).
Так нужно, чтобы ежегодно миллионы учащихся завершали своё обязательное образование, поступали в вузы, колледжи и техникумы и получали профессии. И начинали свой трудовой путь, продолжая славные традиции и свершения предшествующих поколений.
Так нужно государству.
Оно получает от граждан налоги и создаёт соответствующую систему.
;
А что нужно девчонкам и пацанам? Все примерно представляют себе… себя. Свои желания и планы.
Но сколько это – в граммах?
Я читал. Граммы превращались в килограммы. Килограммы – в тонны.
Неосязаемые и никем не учитываемые тонны наших с вами желаний, мечтаний и устремлений!
Я посчитал.
Дышите ровно.
Двадцать наших районных школ ежедневно и год за годом трудятся на своих конвейерах. Прекрасно оснащённые (ну, кое-где), укомплектованные браздарями и браздарками, возглавляемые опытными бригадирами.
И каждую неделю всё это хозяйство, этот огромный отряд…
Эти тысячи отрядов по всей стране могут отрапортовать своим Командирам: мы снова справились!
Наша недельная норма – 800000 часов – честно выполнена. Происшествий нет.
;
Командир!
У меня ЧП!
Командир! Я тут с краюшку ковыряюсь! Вдали от «картофельных» бригад. Рою потихоньку садово-огородную мелочь.
Часов примерно на 20000 в неделю. Мизер, конечно…
Командир!!!
Я тут в перерывчик отошёл на минутку от наших гонов…
ЧП, Командир! Тут кто-то засеял ещё 750 тысяч часов. А убирать – некому!
;
750000 часов. Верти так, верти этак – столько и будет.
Вам этого хочется! И Вы говорите об этом тётям и дядям – социологам.
Огромный неразработанный рынок…
;
Проходит 27 лет!.. А – нет пока ничего на месте этого потенциального рынка!
Как было 20000 часов в неделю на все наши интересы и потребности – от родного государства, так и осталось. Ну, может, частный мелкий бизнес чуть прибавил к этому. Тысячи три – четыре. Но самоизоляция их легко палит.
Да, 20 – всё-таки есть. Из семисот пятидесяти.
«Есть такая партия!» - кричал я шесть лет. И должность позволяла. И, вроде, слышно было. Рановато начал.
;
Кто помнит теорему Пифагора – с доказательством? А кто помнит Татьяну Александровну, стоящую у доски с треугольником и мелом?
Кто помнит второй закон термодинамики и его следствия? А кто помнит Викторина Николаевича, рассказывающего нам эту сложную штуковину? И как под ним внезапно сломался стул, на который он опёрся коленом. И как Викторин рухнул на пол, продолжая свою речь; и, поднимаясь из руин стула, не прерывая себя на полуслове.
Так уж он любил свой предмет.
А мы учились вот этому. Не физике, а любви к физике. К биологии, к техническому переводу с английского на русский!
Вот Вы почему в школу ходили? Так надо было? Ну, это сначала, когда родители водили. И в конце, когда аттестат был нужен (а сейчас баллы ЕГЭ). А без этого «надо» – почему?
Потому что там Лёшка Звозсков, Сашка Павлов, Димка Дементьев… Потому что там – Оля Корчагина, Ира Болдакова, Надежда Николаевна…
А в остальном – школа принимает всех нас такими, какие мы есть. И выпускает такими – какими надо.
;
А у меня постоянно перед глазами два огромных рынка. Один – ухоженный и неплохо хранимый. С полнокровными многочисленными бригадами, убирающими – гон за гоном – своё поле. С объёмом оказываемых услуг (по одному из районов моего любимого Города) – 800000 часов в неделю.
И второй – «потенциальный», которому я служу очень большую часть жизни.
И на бескрайнем нашем поле, засеянном с таким же размахом, как «государево» – наша бригадка.
Гвардия.
Владимир Фёдорович, Яков Львович, Вера Петровна, Татьяна Васильевна, Людмила Владимировна, Людмила Николаевна, Михаил Александрович, Клавдия Афанасьевна, Алла Геннадьевна… И другие родные мои проверенные бойцы.
На огромном поле, которое почему-то называют дополнительным образованием. Хотя все мы (и Вы, уважаемый читатель) абсолютно точно знаем роль этого «дополнительного» в своей собственной, неофициальной биографии…
1.12. Маципурский спецназ.
Ну а следующая баня была через 12 дней и прошла без происшествий. И даже пыли не было – дожди лили неделю. Не помню ту баню…
Я ездил, но – так…
Прошвырнуться и помочь родной бригаде с з;купом.
Наша шестёрка, живущая у поселян, в сине-голубой хоромине по ул. Заречной,1, сильно обустроилась с бытом. Молодая пара – супруги с двумя детьми, один из которых, ссущийся (и, очевидно, не только по этой причине), был сдан куда-то в интернат, а второй пошёл 1 сентября во 2 класс местной школы – была близка нам по возрасту, задору восприятия действительности и неугасаюшему желанию получать радости и удовольствия во все места, в которые только возможно.
Мы быстро нашли с «хозяевами» общий язык. У нас были деньги. На водку. Потом – на местный самогон. Потом – на портвейн.
Сами мы подобрались непьющие. Андрей с Артёмом с раннего детства и всегда занимались спортом и потому – не любили…
Мы с Юрой Брагиным были из очень благополучных семей и как-то так… не воспитались.
Ну а биологи… А что, биологи? Им же по будущей профессии было известно, как реагируют на это почки, печень и другой ливер.
Зато Фёдор и Жанна – так звали этих Петра и Февронию – любили… Пригубить после трудового дня.
Они ещё берегли себя от употребления «с утреца»: была ответственная работа, были два спиногрыза, за которых приходилось переживать – так же надо! – и о которых полагалось заботиться. Был дом, корова, утки, куры, свинья, два поросёнка к зиме.
В общем, они пили редко – только по вечерам. Ну и по выходным – если никуда не звал сельскохозяйственный частнособственнический долг – можно было принять дозу спозаранку.
Фёдор вообще работал практически с нами. Можно сказать, в нашем отряде. Он водил маципуру. И считал своим долгом делать это трезво и аккуратно.
Не могу не выразить Фёдору здесь свою запоздалую благодарность!
Хоть сейчас, сорок лет спустя: спасибо Федя!
Спасибо! За то, что ты и в то время шёл наперекор общественному мнению твоей среды!
Твоей рабочей среды обитания. В которой редкий маципурщик шёл на работу трезвым.
Это были не злые люди. Они всё понимали: и меру своей ответственности за управление сложными и опасными – в непосредственной близости от юных студентов – агрегатами. И меру отчаянного риска, которому они могли подвергнуть и себя, случайно прикемарив за рулём.
Их организмам просто не хватало времени.
Они знали, что должны... Не могут, но должны! И несмотря ни на что, шли утром на смену.
Опухшие. Без мыслей и тонких чувств. Сжав – почти все стальные – челюсти. Передвигались к гаражу (трудно назвать гаражом машинный двор под открытым небом, ну ладно…), уняв дрожь в руках и слабость в коленных сочленениях стаканом водяры…
А что делать?! Немолодые уже. Под «сороковник» всем. Не то стало здоровьишко. И перестал слушаться организм, залитый с вечера «ноль-пятой», без закуски.
Вот и шёл в ход утренний допинг: кормили в деревне плохо, и восстановление сил шло с замедлением. Не как у нашей, уже упомянутой, олимпийской сборной по гандболу.
Посчитайте сами, у кого мозги не заспиртованы: ежедневная бутылка – это 3, 62 р. В месяц выходит 108 р. 60 коп. Можно и дешевле, но мы же – не алкашня запойная, не Генка Выгузов, которому 36, который питается местным дешёвым самогоном и скоро сыграет в ящик. Мы пьём очищенный напиток.
Итак, 108, 6 р.
Чтобы ежедневно закуской нейтрализовавать такое количество водки, надо жрать, как трактор «Кировец» – дизелюгу ! Рубля на 1,5 в день надо закуски.
Да, я встану после этого утром тяжело, но терпимо.
Но это ж – 45 рублей в месяц. А я остаканиваюсь перед работой – и с тем же эффектом, что от доброй еды – влив внутрь страждущего тела 150 грамм и мгновенно вернув себе скоординированную подвижность – за чистый рупь.
30 – в месяц. Экономия – 15 рублей.
Все бы так в стране считали!..
Такая элементарная арифметика была неосознанной, не проходила в виде оформившихся мыслей в головах маципурщиков и прочих трактористов, была инстинктивной.
О ней нам поведал тот же Фёдор. Спасибо тебе, Федя, ещё раз!
;
Маципурщики – это и впрямь какой-то спецназ тракторного батальона.
Они ведут трактор по борозде вслепую. Голова не держится и всё время падает на грудь, грудь падает на руль, руки безвольно падают в пустоту остальной кабины. Но ноги: на «подаче» – одна, на одном из тормозов – вторая (на том из них, который в случае неуправляемого юза уведёт трактор – с вероятностью в 85% – в сторону от основной массы студентов).
Студенты – суетливый народ! Они, иногда, когда в настроении, догоняют, вычищая гон за гоном, тракторные агрегаты. Появляются в опасной близости к врезающимся в землю ножам, к крутящимся на валах – с танково-стрекозиным клёкотом и железным шелестом – полотнам обоих элеваторов.
…Особо суетливые встают в 4-5 метрах сбоку от идущего агрегата, пропускают его и сразу набрасываются всей толпой на падающую с верхнего элеватора картошку.
Ох уж, эти герои!
…Да подождите вы! Плохо мне! Ой, плохо!
;
Но б;льшую часть дня маципурщик – вдали от этой суетливой шантрапы. В 50-80 метрах от подбирающего второй хлеб отряда, чтобы не дай бог – что…
Руль – крепко и надёжно придавлен упавшей на него грудью. А поле – бескрайнее, от горизонта до горизонта. И есть время – провалиться во тьму, черпануть там леденящей воды Стикса, хватануть этого смертельного ужаса подземного царства мёртвых. И вынырнуть обратно, в реальность, в стрёкот элеваторных прутков, рёв мотора, в гарь от плохого топлива, в машинномасельную вонь телогрейки и ватных штанов, в повисший в запертой кабине перегарный дух .
Слава Богу! Живой!
;
А бывало и падали «спецназы». Забыв, по халатности закрыться намертво в кабине. Зная за собой этот грех – провалы в памяти и сознании… Просто, забыв – и всё.
Но нет!
И тут берегли их святые угодники Николай Чудотворец, Спиридон Тримифунтский и защитница жён этих бедолаг – Параскева Пятница. Присылали незримых ангелов-хранителей.
И выпавший дядечка не ломал себе шею, не попадал под ножи, а просто мягко шмякался о землю: сначала седалищем и ножищами в мягких ватиновых штанах, потом спинушкой – в телогреюшке, ну а потом уж – раскинутыми н; стороны рученьками и буйной головушкой.
Маципура же шла волшебно – прямо вперёд, без седока – пока не догонял её и снова не взнуздывал какой-нибудь из быстро выучившихся маципурскому делу парней нашего отряда.
А что? Жизнь – она заставит и научит! Когда даже маципурский спецназ валится с копыт.
И пашет неожиданный сменщик тогда до окончания сегодняшних работ. Или – пока отлежится болезный павший местный воин на сырой земле, напьётся, натянет от неё силушки: встать и продолжить крестьянское дело.
Вперёд! На нетвёрдых, полусогнутых ногах, развернув по ветру парусом «телагу», догонять уходящего вдаль, вверенного ему завгаром железного коня.
Они не промокают в своих густо засаленных телогрейках. Они не тонут, если обессиленные трудовыми подвигами, падают вечером, не дойдя до дому, в огромные, непересыхающие никогда, чувашковские лужи.
Они не горят вместе со стогом сена, в который прилегли отдохнуть с папироской.
Вон полыхает стожок, на горизонте, рядом с Первой бригадой. Сена не стало. А героя вовремя оттащили грузчики нашего отряда, посланные в проезжавшем как раз рядом «ЗИЛке» Богом – на выручку своему славному спецназовцу-внуку!
И медные трубы не страшны им тоже.
Нигде не гремят маршами в их честь медные трубы.
И услышат их маципурщики только в День Страшного Суда.
1.13. Я просыпаюсь первым.
Как и почти в любой спящей компании, я просыпаюсь первым. В нашей комнате.
А в доме уже хлопочет Жанна. Ей надо покормить зверьё, мужа с сыном, выпроводить на работу нас. И всё это ужать в первый утренний час. И втиснуть туда вчерашнюю грязную посуду – мы немного посидели заполночь всей компанией. Жанна с Федей прихлёбывали портвешочек. Мы полоскались крепким, щедро заваренным чаем. Ели яичницу (ни за что не буду говорить об этом маньякам данного блюда в нашей бригаде; я дорожу хорошим отношением людей к себе). Ели мягкий и душистый, суховатый, но такой родной, самопечёный рукодельницей Жанной хлеб.
Вымакивая корочками желточки. Надавливая ими на не до конца затвердевшие верхушки этих дивных золотых кругляшей! В общей, большущей, вместившей много – значительно за два десятка яиц – сковороде… А там уж – кто первым успеет – подобрать остатки разливающейся жёлтенькой жижицы, вместе с полупрозрачными ошмёточками кое-где недо-де-на-ту-ри-ро-ва-вшегося белочка.
Слово это первым вчера произнёс Костя – Константин. Биолог наш.
И заб;гало оно – так знакомое нашим хозяевам словцо – по кругу, меняя темы разговора: с футбола – на денатураты и статистику смертности (местную, Чувашковскую), с денатуратов – на грибные и прочие консервно-баночные отравления. Потом – на фуражное зерно, сечку и завезённое откуда-то – «хрензнаетпочтоононам» – просо… А там уж: о заготовках к зиме, о красе и гордости заготовительных работ – поросятах…
…Тут щедрая Федина душа, ещё более смягчённая алкоголем, толкает его произнести речь о бедных голодных парнях, которые пластаются на полях колхоза и в жару, и в проливной дождь, с утра и до вечера – пока видят глаза в темноте картофельные очертания… Про то, что парням в этом возрасте нужно мясо, а их кормят манкой. А ту манку он сам возил и знает – она откуда и сколько ей лет… Что паразиты всех достали.
И что не было бы паразитов, если бы всех их, беляков, додавили тогда (он уже знает, что мы – на две трети – историки и всегда, когда выпадает случай, демонстрирует всем усвоенное им из школьной программы)…
И если бы была добрая еда – все бы были счастливы и добры между собой…
Феде – двадцать шесть. Нам – семнадцать.
Речь лаконична, эмоциональна, недвусмысленна. В ней 4 слова; произносятся стоя. Как и всё, что произносилось в сенате древних римлян.
– Парняги!..
– Зарежу!..
– Прям щас!..
Речь идёт о нас, об одном из поросят и о том, что Федя нас накормит.
Его усаживают, наливают и отвлекают снова футболом – темой нейтральной, всем понятной и бесконечной…
;
Жанна возится с посудой, м;я в большом тазу в тёплой воде сваленную туда горку из наших чашек с недопитой заваркой, 2–х общих тарелок, сковороды, вилок, трёх ножей, Васькиной (школьник) тарелки.
Про тряпку в тазу я не буду говорить: кто бывал в деревнях не наездом – знает…
Федьке накрыто на кухонном комодике. Два огурца, два яйца вкрутую, помидор (магазинский), напластанный хлебец. Большая – раньше других вымытая – кружка простокваши (свойской). Пока Федька завтракает, мы успеваем окончательно собраться и в полной амуниции выдвигаемся к общаге, к отрядной площади, на линейку…
Путь занимает 15 минут. В небе хмарно. Может быть дождь. На земле под ногами расползается липкая грязь. Дотаптываем последние, ещё имеющиеся, плешинки травы; выбираем места с отмытыми до песочка колеями; аккуратно прыгаем с одного на другое. Идём…
Все мы в разных бригадах и встречаемся снова уже только вечером, после ужина.
А сейчас расходимся и слушаем речь Командира.
– Тиха-а-а-а! – это Замок…
– Сегодня банный день. Работаем – как обычно. Норму сделать к 17.30! В 17.30 все выдвигаются к общежитию. На сборы –15 минут. Не позднее 18.15 автобусы выезжают в Кырск – с вами или без вас…
;
Нет, я не ошибся. И это речь командира перед второй баней. Она слово в слово повторяет первое его банное выступление.
Пройдёт 4 года, 2 месяца и пять дней. Я буду сидеть в нашем Историческом кабинете. Буду штудировать взятые из «Фонда Сюзюмова» переводы греческих источников для своей дипломной работы. И обнаружу текст, который я уже читал. Вчера. Слово в слово. Но официальная разница между датами возникновения этих текстов составляла (и составляет пока) 400 лет.
Это не было описанием какого-то рутинного процесса, не было переписанным рецептом кушанья или изготовления стали особого качества. Это было описание природы: длинное и подробное. Описание движущегося через ущелье отряда, описание засады, ждущей этот отряд… И всего последующего, что с ним сделали. С отрядом. С двумя отрядами. Двух разных предводителей. В двух географически отдалённых ущельях.
Ну и – времён – тоже двух…
Диплом стал мне неинтересен. Я его дописал и всё.
Я его защитил, получил свою «пятёрку». По инерции ещё, помню, трёсся и переживал – как бы не опозориться на защите перед комиссией.
Но я не верил. В то, что вложили мне в голову за 5 лет.
Прямо с того 22 ноября 1984 года.
Чтобы снова поверить, надо вернуться в самый первый полноценный день учёбы, в 6 октября 1980 года и снова учиться пять лет, изо дня в день. Задавая себе вопрос по каждому полученному факту: а так ли это?
Потому что только так и учила нас Нелли Фёдоровна Шилюк.
;
Наверно, я могу написать нормальное историческое исследование. Смог же стать – казалось бы, случайно – дипломантом Всероссийского студенческого конкурса. Со своей непроходной темой. Не про партию, не про Советы и революцию, даже не «про нас», идущих из глубины веков, всегда отдельных, всегда своим путём (через мрак, невежество и тупость, но прямым путём к социализму).
«Византийские стратиоты в 1204-1261 г.г.» Ну кому они нужны, кроме меня?!
Нет, ну правда. По чесноку. И Фоменко я читал, и анти-Фоменко…
Ребята, я тогда копнул иголкой, случайно. И что-то нашёл.
Другая история!
…Прямо как с дополнительным образованием, немного позже…
Я уважаю вашу работу. Вы копали более подходящими инструментами и долго. Вы выверили всё до мельчайших деталей, огранили ЭТО и отполировали.
Просто, как говорила и всё ещё нашёптывает мне из того далек; Нелли Фёдоровна: если у Вас, молодой человек, два абсолютно одинаковых текста, написанные, как говорят, разными авторами и о разных, как опять же говорят, событиях, происходивших в разное время и в двух разных географических точках, то «оч-ч-чень может быть», что Вы нашли нечто интересное.
Слышу её голос.
И слышу голос тёти Зои (Зайтуны ), протягивающей мне две чёрных, очень старых, книги своего покойного мужа, изданные лет 70 назад; в нашей стране, но не в СССР (и, оказывается, так тоже может быть!)…
– На вот! Ты Учитель. Тебе будет интересно. У нас, у татар, своя история, не такая, как в ТВОИХ книгах…
И это не окончательная мысль. Я ещё вернусь к этой теме, ждите, мне понравилось...
;
Потому что – вот так примерно это выглядит, если посмотреть повнимательнее…
Господа! Все вы слышали хоть что-то о человеке по имени Гай Юлий Цезарь.
Да, ну как же… Это один из величайших правителей на Земле. Его имя сидит в нашей памяти… А почему, собственно?
Потому что в школьных учебниках так написано. Потому что фильмы и книги убеждают нас в его величии и значении в мировой истории. Нам нужен простой и понятный диктатор, который решит все вопросы.
Гай Юлий Цезарь всю свою жизнь стремился к единоличному правлению. Если посмотреть на его биографию – всё, что он делал – карабкался наверх. В конце концов, все приписанные ему реформы проводились им только с одной целью: получить ещё кусочек власти. Как только кусочек оказывался у него, начавшаяся реформа его больше не интересовала.
Ничего! Ровно ничего из того, что приписывается этому человеку, не было им закончено. У него была иная цель в жизни: упростить ситуацию до предела.
И вот он её упростил.
В начале 44 года до н. э., после десятилетий борьбы за трон (в которой, между прочим, участвовали и другие люди – иначе это и не борьба вовсе) Цезарь получил должность пожизненного диктатора.
Римский сенат, а затем и народное собрание, также издали ряд указов о его новых почестях. Ему был присвоен титул отца отечества; день его рождения превратили в праздник с жертвоприношениями; месяц квинтилий переименовали в июль.
Заранее позаботился Цезарь и о том, чтобы его новые законы (которые он, по утверждениям историков, замыслил) были железобетонно защищены. Вводилась обязательная клятва для всех начальников, вступающих в должность: о сохранении всех законов Цезаря.
Сенат также (чтобы уж – оптом) санкционировал начало строительства храма Цезаря и его Милосердия и создал новую жреческую должность специально для организации поклонения новому божеству (это ставило Гая Юлия в один ряд с Юпитером и Марсом; у остальных богов просто не было таких особых жрецов).
Все эти последние приуготовления к триумфу единовластия – так датировано в отчётах о его деяниях! – сделаны Юлием Цезарем с января 44 г. до н.э. до 15 февраля 44 г. до н.э. Очень быстро.
У него были великие цели. Мы не знаем, какие. Историки пишут: великие.
15 марта 44 г. до н.э. Гай Юлий Цезарь был убит. Пробыв на вершине своей карьеры, во времени, когда действительно можно было делать всё, ровно 2,5 месяца . Когда можно было, наконец, начать ДЕЛАТЬ, а не стремиться.
В чём величие?
1.14. Поехали!
…И вот всего полтора месяца прошло с нашего выпускного и с банкета в общежитской столовке. С речами любимых преподов. С ответными спичами взрослых, практически состоявшихся людей. С танцами и вкусными блюдами, некоторые из которых невозможно было есть. Но ведь – старались поварихи. Да и водки – много.
1,5 месяца… И люди уезжают – кто куда. И у каждого появляется уже что-то своё, отдельное. И место встречи – ежен день! – должно будет стать местом случайных встреч.
Приходит телеграмма. Из Первоуральска. От Марины Сологуб. Завтра, т.е. 13 августа 1985 года, она приедет в 10:00. В универ.
Встречаемся, что ли?
Звоню всем, кому могу. Архивисты – уже вышли на новенькие, первые в карьере, рабочие места. Историки – ещё не приехали никуда и телефоны не отвечают.
Никто не придёт.
Звонок Игорю Николаевичу. Слава богу, дома… Придёт.
И Кузнецов Серёга тоже был дома (съездил к нему, на его Самолётную, у чёрта на куличках)…
А Миши в общаге нет – ушёл на работу; оставляю записку. Как же хочется всех видеть!
Вот и стою на посту на Тургенева, 4; в девять часов, двадцать минут; утр;. В 9:35 пришёл Серёга. Пошёл позавтракать, в столовку. В 10:00 пришла Марина. В 10:10 пришли Оля Вербицкая и Женя Литусова (ура! Непревзойдённое песенное трио – в полном составе). Лысцов. Дождь, Лобарев, Вова Шкерин…
И потом, в тот же день. В квартире родителей Игоря Николаевича, в песнях и под магнитофонные записи было встречено 14-е. Дата сборов. К местам назначений. По всей нашей необъятной области.
Утром 14-го всем надо было паковать вещи и ехать по распределению. В дорогу, в мир, оставляя друзей и любимых.
Утром 14-го было солнечно, ветрено. И – спокойно. Мы нашли выход, вернее, просто сделали, как уже умели. Как когда-то в Воробьёво . Когда наш лагерь не хотел умирать…
Наш мир не мог без нас. И мы – без него.
Просто: забрали его с собой.
И поехал весь этот уже наш, не маципурский, «спецназ» по городам и весям!
В Кушву, в Первоуральск, в Клевакино и Сухой Лог, в Серов и Карпинск, в Нижний Тагил и Каменск-Уральский, в Алапаевск и в Асбест… И даже в столицу Коми-Пермяцкого автономного округа г. Кудымкар. Вадик в Советскую Армию, в Красноярский край; Артём и Саша – куда-то туда же; в гарнизоны…
Приехали. Встали на вахту. И стоим. Нет СССР, нет УрГУ. Есть только мы – «между прошлым и будущим».
И я – со своим недоделанным полем…
;
Да, ребята, истфак всеяден и всеохватен.
Истфак – это и Кокшаров с Бугровым, и Ройзман.
Истфак – это трудовые доктора наук Зайков, Шкерин, Земцов…
Истфак – это гараж на ул. Горького и Лысцов.
Истфак – это песни лучшего на все времена трио: Решетникова – Вербицкая – Литусова. Это самые сексуальные – на тот же срок – танцы Макоченко, Чибизовой, их однокурсниц.
Истфак – это гениальный Ганник. И великий поэт Жданов. И добрый Диоген нашего времени Сюзюмов-младшемладший.
Истфак – это мы все.
Истфак – в прошлом и настоящем. Он был, есть и будет…
(Спр;сите: когда это…? - А сразу после выпуска. Так что, все мы – почти ровесники. Вот Вам сейчас сколько? … Ага. И нам – немного. Двадцать четыре года всего…будет. Всегда.)
А пока что…
А пока – снова слышу вкрадчивый голос Командира:
– … с Вами или без Вас! Бригадиры – ко мне!..
1.15. 1980.
Завтрак.
Накрывать на стол. Есть. Вталкивать в себя хлеб. Больше хлеба…
И с чаем – тоже. Остающийся пока в общей тарелке кусок. Поделив его с Пашей. Чтобы хватило до обеда. Ну, или хотя бы часа на 4 работы. А там – как-нибудь дотянем. Все мы только что, летом, между экзаменами, смотрели бег Мирутса Ифтера из почти родной нам Эфиопии. И знаем, что главное – пробежать первые 20 кругов. А уж остальные круги просто сами Вас потянут к Олимпийской медали.
;
Время пролетает тягуче, бесконечно, незаметно. Я еду в баню со своей бригадой с двойной целью: увидеть людей на городских улицах и, наскоро помывшись, сбегать в магазин за карамельками и сдобными булочками на праздничный ужин.
Андрей, Артём и Юра со всеми не едут. В это воскресенье, 4 дня назад, мы все уже были в «хозяйской» бане, и скоро нас опять ждёт эта благодать.
Биологов я не вижу. Они поехали, но я не вижу. Они – в других бригадах и в других автобусах.
Андрей, Артём и Юра сегодня вечером совершенно свободны. Они пройдут по деревне, зайдут в рабочую столовую, наедятся там вкусной, питательной и полезной, богатой калориями пищи – за гроши! Они не привязаны к общеотрядному ужину (их порции и хлеб съедят другие, нуждающиеся в этом люди). Они медленно догуляют до дома, не торопясь нагреют, попросив, конечно, разрешения, воды. И постирают. У кого – что надо… А потом возлягут – каждый на своей! – койке. Андрей – один! – на их с Артёмом «двухспалке», Юра, понятно, на своём обычном месте. А Артём – тоже понятно, что не на моём ссаном матраце – на койке биологов.
Что они делают сейчас – пока я в бане – не представляю. Читают журналы, наверно. Болтают. Разговоров всегда хватало.
Или дремлет кто-то…
Но все мы дожидаемся сегодня одного. Московской трансляции матча: «Динамо» (Москва) – «Арарат» (Ереван).
Первая программа.
Федя тоже будет смотреть. Он зафанател вместе с нами.
;
Интересно, кого сегодня поставят на ворота: моего любимца Пильгуя или Гонтаря? Я всегда переживаю за вратарей. С детства занимал своё законное место в воротах дворовых команд…
Доставались зимние перчатки, одевалась старенькая – уже в никуда – кофта. Поскольку пыльно же и грязно на земле, а мне там трудиться.
Наверно, не очень успешно, но всегда – с любовью.
И «Динамо» - любимая команда.
И не только из-за Пильгуя и Газзаева. А оттого, что всё детство – на стадионе рядом с домом. А стадион – «Динамо». И оттого, что каждый матч там – какая бы вторая лига на нём ни играла – всегда начинался с ритуала футбольного гимна и приветствий за руку, в центральном круге, уважающих друг друга больших мужиков в майках, трусах, гетрах и футбольных бутсах.
И оттого, что на этом стадионе – а я узнал это уже в 10 лет, поскольку собирал марки, и у меня была одна такая – тренировались ещё до моего рождения чемпионы, призёры и участники чемпионата мира. И мой город, мой Любимый Город, принимал в 1960–м весь этот чемпионат…
И оттого, что «динамовцы» никогда не сдаются, в каком бы хвосте они не плелись в той, 1980 года, турнирной таблице.
;
…Эх! Наши футболы на «физре», когда уже началась учёба в университете!
Это отдельная тема и доберусь ли я до неё в каком-то виде? Но: не могу молчать… Прости, Лев Николаевич, что краду твою фразу…
И я опять – на воротах. И мчится на меня прорвавшийся финтами через полкоманды Андрей. Он – профи и я понимаю, что это – … (другое слово).
Спасибо, Андрей, что ты не дорабатывал, как учат нападающих, не шёл до конца, когда могло быть – и «в кость».
Я лёгок телом, глуп и подвержен инстинктам. Инстинкты говорили мне тогда: нельзя пропускать мяч в ворота, а то мы проиграем. И я тупо двигался, сокращая угол обстрела, прямо на нападающего.
Спасибо, что ты такой, Андрей, что ты играл в футбол – так. Мягко, красиво, умн; и артистично. Так же, как, я уверен, живёшь и сейчас.
Спасибо. За то, что ты перескакивал через меня, уходя от контакта и моей неминуемой травмы. И теряя – да просто отдавая! – мяч нашей команде.
– Вова, ты офигел?! Я ж тебя поломал бы… О, господи!
После второго такого раза, на третий и дальше, я выходил вперёд только против тех, кто был в равной со мной весовой категории. Не потому, что я понял, что будет травма. А потому, что это нечестно по отношению к Андрею и другим, более фактурным, чем я, ребятам. Получалось, что они щадили, а я этим пользовался.
…Теперь, когда на меня несутся «башни» и «слоны», я остаюсь во «вратарской».
Если в таких случаях мячом владеют мастера – неизбежен гол.
;
«Динамо» (Москва) – «Арарат» (Ереван)…
Куплена карамель «Клубничная» - 3 килограмма. Куплено 20 ватрушек со сметаной.
Съеден Шестой бригадой после приезда из бани праздничный ужин с ватрушками.
Пройдена дорога домой – по полуосвещённым улицам деревни. (Биологи дошли «на квартиру» раньше; у них ужин был в первую смену.)
Расчехлено тело и приготовлена амуниция на завтра.
И, да! Эта игра!
Как будто и нет завтрашнего «подъема», линейки, гонов, темноты.
Я помню, что мои любимцы выиграли у команды Хачатряна и Оганесяна. Но счёт, конечно, не помнил, посмотрел сейчас в Интернете. 2:1.
Девять человек у телевизора. Андрей, Артём, Юра Брагин, Костя с Пашей, Федя, Васька (школьник), я и, часто заходящая в комнату и застывающая у порога на 5-6 минут в неподвижности, Жанна.
Утром, после хлопот с хозяйством, Жанне – на овощехранилище. Феде – в маципуру. Нам – в борозду.
Ваське сейчас – всего сорок восемь. Интересно, а он – как?..
1980. «Утро красит нежным светом…» Вся советская земля трудится, не покладая рук. Одиннадцать месяцев. Один из которых, всего один, – наш, «колхозный».
Страна отдыхает. Дружно. На море, у реки, у озера. Или, гордо подняв попы к небу – на даче.
Смотрит во всех своих кинотеатрах «Экипаж» и «Сталкер».
Запускает четыре «Союза». Спускает на воду самую большую в мире ядерную подводную лодку-ракетоносец проекта 941 «Акула» (залп: 20 «Союзов» одновременно; и один из тех, кто делал её ракеты – папа нашей Оли из 4 бригады).
А ещё: страна хоронит Высоцкого. Находится на грани ядерной войны с США. Проводит летнюю Олимпиаду.
Страна прекрасна!
И мы это чувствуем. Каждым сентябрьским утром.
1.16. Аз есмь!
И страна всё ещё прекрасна. Во всех её проявлениях. И в любимом моём образовании – тоже.
Система такова изначально. Она была придумана вполне прагматичными людьми под определённые обстоятельства и задачи. И многие знают её авторов и примерные годы создания…
Кто мы – в школе, в вузе, в «колхозе»?
Материал. Который должен быть освоен системой, потреблён ею для своих целей, направлен к этим «картофельным» и «луковым» горизонтам.
Нас помещают в разные обстоятельства и пытаются определить нам векторы и пределы развития.
Но мы растём. Мы молодые, здоровые, любопытные и суетные. Нам – мало! Нам – всегда мало!
И всегда хочется жрать, как в колхозе. И вечно что-то происходит нестандартное, непонятное даже нам, под нашими черепными коробками.
И мы движемся вперёд в собственной логике, спонтанно и как бог на душу положит.
Вот это и беспокоит…
Из этого когда-то, очень давно, специально обученные люди сделали свои далеко нас заведшие выводы:
1. Всех нас надо собрать в одном месте и попытаться научить чему-то. Чтобы каждый стал пригоден к использованию.
2. Всех нас надо погрузить в единый для всей нашей толпы, раз и навсегда заведённый, образовательный процесс
3. В идеале для всех нас, обучающихся, надо создать условия для раскрытия наших индивидуальностей. Неповторимых, конечно.
Образованный человек.
Он обучен. Он воспитан. Он развит.
Закончен.
Вылеплен.
Вот – было. Вот – стало.
Приняли на входе – с данным уровнем «обученности», воспитанности, развитости.
Постарались вооружить разнообразными механизмами организации собственной деятельности (умениям направлять свою активность в цель, анализировать ситуации, принимать решения, искать новые способы деятельности).
Выпустили – с данной способностью к самообучаемости, к самовоспитанию, к саморазвитию.
Таков примерно характер и последовательность образовательных усилий педагога в традиционной школе, и такова диагностика успешности его педагогических действий.
Я сейчас нехорошую вещь скажу.
Мне открыли её как-то на праздновании Дня учителя . В нашем Оперном театре.
Номер шёл за номером. И вот объявили выход младшей группы хора мальчиков детской областной Филармонии.
И вышли эти 5-6 летние бойцы – в одинаковых костюмчиках. Кто – вприпрыжку, кто – загребая маленькими ножками; кто – с торчащими и ничем не сминаемыми вихрами, кто – аккуратно постриженный; кто – встал как учили, с ручками, сцепленными внизу, как перед призывной медкомиссией; кто – продолжил закулисные разборки с соседом; кто – смотрел в глубокую темноту зала, а кто – больше заинтересовался ярко освещёнными декорациями…
Их было 30 человек. И один руководитель этой младшей группы хора. Высоченный худой дядя. Который минут пять устанавливал и успокаивал эту орду.
– Смотри, Володя. Вот они вырастут. А в глубине – останутся всё такими же. Разными. Начальниками, рабочими, инженерами, военными, депутатами. Подходи к ним, разглядывай. И увидишь этого мальчишку на огромной сцене. И всё с ним тогда ясно. Он – как вот эти – на ладони…
– И Президент?..
– Володя, я на госслужбе. Без комментариев…
И вы все это знаете. И что бы Вы о себе ни думали – Вы тот же мальчишка. И та же девчонка.
И угораздило Вас пойти в учителя
И дали Вам Ваш 5 «В».
Да и если Вы – не учитель… А просто – работаете или руководите работой. И приводят к Вам новичка. В глубине души Вы точно знаете, что ничем от него не отличаетесь.
Кроме того, что понимаете пока о своей работе больше, чем он.
Самый лёгкий выход – погрузить его в поток информации, ошарашить. И вовремя заменить его цели и ценности на рекомендуемые ему для успешной учёбы (работы) общие ценностно-целевые нормы.
И пока он не пришёл в себя, осознав трудности: «мы тебя научим, как справиться со всем этим легко, дадим тебе разнообразные производственные навыки» (и всучиваем в основном механизмы переработки потока информации, механизмы достижения внешних, не родных, целей).
<А потом говорим: ну, теперь сам плыви. Можешь, конечно, в одиночку. Но у нас есть катер. И ты уже – в нём.>
В итоге такой порядок воздействия на каждую данную личность приводит к смене системы ее первичных мотивов. В любом виде деятельности. Новая система мотивов и ценностей, в свою очередь усиливает ориентацию личности на поиски, переработку и актуализацию информации о навязанном ему, якобы окружающем его, мире.
Успешность нашей с вами деятельности начинает оцениваться по объему имеющейся у нас информации и способности достичь намеченные кем-то «наши» цели.
Такая ориентация приводит к тому, что личность становится почти исключительно потребителем, с минимальной переработкой и почти без актуализации потребляемого.
В пределе – личность перестает производить информацию...
А кому оно надо: слушать, чего Вы там мычите.
Работайте молча.
И не мешайте мне учить Вас дальше.
Педагогика.
Менеджмент (уточню: Г-менеджмент ).
И нет от этого спасенья.
Одна только надежда. Девушка Надя…
;
О, господи! Так и историческая наука – в том виде, в каком мы её привыкли видеть – появилась именно тогда и тоже под вполне определённые обстоятельства и задачи…
Ну, ты вляпался, Вова: и туда, и туда!..
А что делать?!
Таков уж твой выбор.
1.17. Поезд в Котуркуль.
– Рано встал – считай, проснулся! – провожает меня в туалет фраза соседа моего по вагону.
Возвращаюсь, завтракаю внизу, пока не проснулись остальные: зачем мешать людям. Забираюсь на любимую в сотнях поездках, на верхнюю плацкарту.
И ехать ещё и ехать. До родного – с детства – Котуркуля.
И проносятся мои просторы, хоть это и другое государство.
И думать ещё и думать…
;
В детстве у меня была любимая краска. Я красил и красил. Это называлось – рисовать. Я рисовал такое!.. И забывал обо всём. Только красил.
И вот кисточка дошла до дна. А потом стерла остатки краски, затаившейся на стенках ванночки. И вдруг я понял: краска кончилась. Кончилась – значит, её нет, её не стало, её никогда больше не будет. И когда я это понял, я понял ещё одну вещь: это была моя ЛЮБИМАЯ краска. И третью вещь я почувствовал, но понял её значительно позже: в данной точке Осознания Окончания Любимого кончилось детство.
А потом была целая жизнь.
А потом умерла мама. А потом – папа.
И я живу дальше.
Вот и всё, что можно назвать моей биографией.
<…Дочери, вы родились, и я счастлив этим. Поймите меня правильно: такова жизнь. Некоторые пишут в биографию детей. Но само ваше рождение – это уже факт вашей собственной биографии.
Это не моя заслуга, а ваша, что вы родились…>
Итак: моя биография.
Она – как у большинства из нас. Из тех, кто не пишет в этом жанре, и о ком не пишут в этом жанре. Нас примерно 99,996 % на всю страну. В химии это означает – химически чистое вещество. Под химически чистым веществом понимается такое вещество, которое, будучи подвергнуто воздействию, имеющему целью разделение его на составные части, сохраняет неизменными химический состав и физические свойства.
Из этого вытекает, что критерием чистоты органического (и живого) вещества, предназначенного для анализа, являются безуспешность попыток разделить его, а также постоянство его физических констант.
То есть, мы с вами одинаково относимся к факту нашего индивидуального бытия и, следовательно, демонстрируем не просто сходные, а единые, практически неразличимые поведенческие реакции.
Все мы рассказываем соседям по купе в поездах свои жизненные истории. И все эти истории очень похожи. Общие истории об утратах, любви и переходах.
И нас нельзя разделить.
Пока мы к факту своего бытия относимся одинаково.
Что же из этого следует?
Как ни странно, из этого следует – ненависть.
Она возникает в тех, кто к факту своего бытия относится несколько иначе, чем химически чистое подавляющее большинство.
В тех, кто видит в простом факте своего существования нечто большее, чем божественное вмешательство при рождении маленького человека.
;
Мои прадеды и прабабушки и по папиной, и по маминой линии жили в Российской Империи, в 90 верстах друг от друга. На землях, которые теперь в Республике Казахстан.
Наверное, их устраивала такая жизнь.
Спросить не могу, но видел сам. Всё моё детство меня и моих сестёр родители привозили в эти сказочные места. Я понимаю, у каждого есть родина. То место, где соловьиной песней звучит сердце. Но так получилось, что родина моих родителей – рай. И была раем 50 лет назад. И сто лет назад. И мало что там, в той природной среде, изменилось.
Причём мы с сестрой – в возрасте уже далеко за 40 – специально проверили: да, мама родилась практически в раю. А папа?
В 90 верстах от маминой родины был тоже рай.
Кристально чистые озёра, полные рыбы. Сопки, поросшие соснами; причудливые скальные обнажения. Та сумеречная синева далёких стареющих гор, ставшая в моём детстве моим любимым цветом. Берёзовые колки, полные костяники, земляники и грибов. Поляны, усыпанные лесной клубникой. Степь. Не выжженная, а живая. С волнами ковылей, с полынью, с птицами в ослепительном зените.
И запах. Аромат.
Всем организмом впитываемый аромат этого безграничья!
Мои дедушки и бабушки, рождённые там, прожили трудные жизни.
Каждый из нас может сказать эту фразу. И это – правда. Все наши дедушки и бабушки прожили трудные жизни. И не было в их душах не то что крупицы ненависти, а и самог; места для этой крупицы.
;
…1914 год. Призвали казаков из этих райских мест – станиц: Лобановской, Арык-Балыкской, Котуркульской, Щучинской и других – на войну. В Кокчетавском сборном пункте полки готовились к отправке на фронт. Дисциплина была жёсткой, но привычной. Знали, зачем она – дисциплина. Молодые казаки приняли истину о том, что Уставы написаны кровью, от своих отцов и ещё живущих дедов, вернувшихся с победой из покорённой Средней Азии. И, видимо, от них же приняли другую истину: жить по совести.
Начальник сборного пункта попытался объяснить им, что жить надо по понятиям, а выживает сильнейший. Зачем этот руководитель довёл дело до выяснения отношений с подчиненными (у которых, между прочим, имелись шашки) – трудно сейчас сказать. Может, правда хотел перевоспитать…
Но как-то так получилось, что его единственным аргументом стала пуля в голову одному из воспитуемых. Казак упал. Начальника лагеря зарубили.
А дальше казаки разошлись по казармам, послали за разбежавшимися офицерами и сказали им: командуйте.
А дальше была кара. В Омск была отправлена депеша: «В военном бунте, поджоге офицерского барака и убийстве офицера Бородихина, по показаниям свидетелей-очевидцев, участвовало несколько сот человек – казаков 4 и 7 полков. Из них, на основании дознания и очных ставок, карательным отрядом под начальством генерала Усачева предано военно-полевому суду 39 человек, а командиры полков и, все остальные офицеры за бездействие власти будут преданы суду Омского военного окружного суда».
Приговор военно-полевого суда:
Казака из станицы Сандыктавской Данилова В., трубача из станицы Арыкбалыкской Волгаева А., младшего урядника Булатова И. и казака Палаткина С., обоих из станицы Нижне-Бурлукской, казака Духнова М. и трубача Максимова Г., обоих из станицы Лобановской, казака Богаева С. и приказного Шаврина А. из станицы Чалкарской – к смертной казни.
Двадцать девять человек приговорили к каторжным работам на срок от 20 до 40 лет. Светличного Е. и Емельянова Д. приговорили к бессрочной каторге.
Менее чем через две недели после бунта, через две недели после начала Первой мировой войны, 13 августа в 8 часов утра семерых человек расстреляли.
Булатова И., выжившего после воспитательного выстрела в голову, казнили, едва он выздоровел и смог держаться на ногах.
Всего различным мерам наказания были подвергнуты 80 человек.
Вы мне будете говорить про законы военного времени? И про то, что власть была обязана себя защитить самыми жёсткими мерами?
8 расстрелянных за одного убитого. 31 человек сослан на каторгу (от 20 лет до бессрочной). При царе-батюшке. Ничего личного. Бизнес. Потомственные управители.
Дозащищались…
«Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться...» (В. И. ЛЕНИН, ПСС т.37)
Владимир Ильич очень хорошо понял азы управления. Даже с цифрами у него – примерно та же картина.
Не знаю, что было с моими предками в 1918, 1919, 1920 годах. Но заканчивался 1920 год.
В своей параллельной реальности творили мэтры: Маяковский и Есенин.
Вэ. Маяковский уже написал поэму «150000000». До этого, в 1919 году вышло первое собрание сочинений поэта — «Всё сочинённое Владимиром Маяковским. 1909—1919», а уже через год – поэма, в которой отражена тема мировой революции.
Он, кстати, и жанр автобиографии любил. Но нет в его автобиографии вот этого: «С лета 1918 Маяковский и Брики жили совместно, втроём, что вполне укладывалось в популярную после революции брачно-любовную концепцию, известную как «Теория стакана воды». В это время все трое окончательно перешли на большевистские позиции. В начале марта 1919 года они переехали из Петрограда в Москву в коммуналку в Полуэктовом переулке, 5, а затем, с сентября 1920-го обосновались в двух комнатах в доме на углу Мясницкой улицы в Водопьяном переулке, 3. Затем все трое переехали в квартиру в Гендриковом переулке на Таганке. Маяковский и Лиля работали в «Окнах РОСТА», а Осип некоторое время служил в ЧК и состоял в партии большевиков.
Несмотря на тесное общение с Лилей Брик, личная жизнь Маяковского ею не ограничивалась. Согласно свидетельствам и материалам, собранным в документальном фильме Первого канала «Третий лишний», премьера которого показана к 120-летию поэта 20 июля 2013 года, Маяковский является родным отцом советского скульптора Глеба-Никиты Лавинского (1921—1986). С матерью Глеба-Никиты художницей Лилей Лавинской поэт близко познакомился в 1920 году, работая в Окнах сатиры РОСТА (https://ru.wikipedia.org/wiki/ Маяковский,_Владимир_Владимирович).
Гений и певец революции и дальше продолжал в том же духе…
Ну а Сергей Александрович отметился в нашей культуре зазеркалья «Исповедью хулигана». И поехал отдохнуть, развеяться, подышать вольным воздухом, вне столиц…
Аккурат в этом же 1921 году.
Вместе со своим другом, Яковом Блюмкиным, российским революционером и террористом.
Это тот, что убил в 1918 году немецкого посла Мирбаха, советский чекист, разведчик и государственный де-ятель, авантюрист…
Отправились друганы в Среднюю Азию. Посетили по пути также Урал и Оренбуржье, только что отполыхавшие восстанием.
С 13 мая по 3 июня гостил «последний поэт» расстреливаемой на его глазах деревни в Ташкенте у своего друга и тоже поэта Александра Ширяевца. Там Есенин несколько раз выступал перед публикой, читал стихотворения на поэтических вечерах и в домах своих ташкентских друзей. По словам очевидцев, Есенин любил бывать в старом городе, его чайханах, слушать узбекскую поэзию, музыку и песни, посещать живописные окрестности Ташкента со своими друзьями. Он совершил также короткую поездку в Самарканд.
Осенью 1921 года Есенин познакомился с танцовщицей Айседорой Дункан, на которой он через полгода женился. После свадьбы Есенин с Дункан ездили в Европу (Германия, Франция, Бельгия, Италия) и в США (4 месяца). В Америке он находился с мая 1922 года по август 1923 года.
Нормальная жизнь преуспевающего в чём-то человека.
Любящего, между прочим, и бизнесом заниматься…
Пишут, что в начале 1920-х годов Есенин сам активно вёл книжно-издательскую деятельность, а также продавал книги в арендованной им книжной лавке на Большой Никитской, что занимало почти всё его время. (https://ru.wikipedia.org/wiki/ Есенин, Сергей_Александро-вич)
;
Не люблю поэзию.
Не знаю, что было с моими предками накануне 1921-го. Но везде по России было примерно одно и то же. Грабёж и расправы.
Реакция на тот беспредел – государственную продразверстку – поначалу была достаточно мирной. Вот такой, примерно…
Обращение крестьянки:
«18 декабря 1920 г. 20 ноября с.г. Вами был конфискован весь скот у моего мужа, гр. д. Б.-Боково Романа Федотовича Олькова, и теперь наше имущество разрушилось безвозвратно. Спрашивается: чем же мы должны продолжать наше существование? Неужели я должна нести наказание за своего мужа? У меня шестеро детей при себе и седьмой - в Красной армии. К чему он теперь придет домой и за что примется?
Что же я должна делать с шестью детьми и к чему их пристроить, не зная никакого ремесла? Да ведь и что-то я делала в продолжение 28-летнего проживания в замужестве. Что, прикажете мне проситься в богадельню, на Ваш хлеб? Чем же должна существовать советская Россия в будущем, если Вы сейчас в корень разоряете среднее хозяйство, которое является оплотом республики?
Подумайте, тов. Гуськов, серьезно об этом. И я в свою очередь категорически прошу Вас сделать распоряжение об отложении конфискации, так как разверстку мы выполнили сполна, хотя и в ущерб себе, а на сем заявлении прошу меня уведомить соответствующей резолюцией о Вашем решении.
К сему заявлению Марфа Олькова.
За неграмотную по личной просьбе расписалась Е.Елисеева» .
;
Но потом продотряды стали выгребать действительно ВСЁ. И отборное семенное зерно тоже. Делая тот самый воспитательный выстрел в голову.
Ничего личного. Это бизнес. Это – профессиональные революционеры.
И народ восстал.
Вот донесение красных командиров, бравших восставшую против продразвёрстки папину малую родину : «Бой проходил на улицах станицы. В домах казаков устроены были засады, откуда бандиты обстреливали наступающих. Положение становилось критическим. Банды (!!!)…
<…Я точно знаю: тут в донесении опечатка!!! Представьте эту картину растерзания села! Не «банды»! Уберите букву «н». Замените «д» на «б». Бабы с вилами, пиками, топорами бросались из-за углов домов … чуть ли не каждый дом приходилось брать приступом…>
БАБЫ
…с вилами, пиками, топорами бросались из-за углов домов в атаку, почему чуть ли не каждый дом приходилось брать приступом. Положение заставило поджечь несколько домов с целью выкурить пьяных, сидящих в домах и обороняющихся бандитов. В 12 часов деревня была очищена от банд, но в 14 часов отступивший противник перешёл в контратаку, которая нами была отбита с успехом. В 15.30 банды с подоспевшей к ним поддержкой повели новое наступление. После полуторачасового боя банды отброшены в сторону станицы Имантавской <...> Наши потери: 40 человек убиты и до 90 ранены. Потери противника: до 900 человек убитыми, количество раненых не поддается счёту».
<Читайте: «победители вырезали всё живое!»>
А вот донесение профессионалов из будущего маминого рая рождения: «Левый боевой участок. Два батальона сводного полка 10 марта в 4 часа, окружив станицу Щучинская, выбили из нее банды. Противник оказывал сильное сопротивление: бросался в атаку и стрелял из окон, из-за углов домов, заборов. В конечном результате [он] был выбит и отступил в сторону деревни Макинское, что в 50 верстах юго-восточнее станицы Щучинская, и в станицу Котуркульская, а также в направлении на поселок Черноярский, что в 30 верстах южнее станицы Щучинская. Бандиты, оставшиеся в станице, были вылавливаемы и арестованы. Наши потери: 17 убитых, 25 раненых и один пропал без вести. Потери противника: убитых — до 150 трупов. Всех раненых противник успел вывезти в деревню Макинская. Наши трофеи: 8 русских винтовок, 7 Ватерли, 5 Гра, 17 бердан, 11 дробовиков, 23 пики, четыре ящика мяса. Оружие взято было с боя у бандитов, засевших по домам» .
Гордость берёт за этих отчаянных сверхчеловеков: в трофеях победителей огнестрельное оружие (включая дробовики и берданки) – 48 штук!
23 пики!!!
Всё, что нашли дома и применили против карателей бабы и старики. Вооружения хватило на 71 человека.
…Что было в руках ещё у 79 человек, ставших трупами вместе с 71 вооружёнными каз;чками и дед;ми, трудно себе представить…
Зато удалось конфисковать у бандитов аж 4 ящика мяса!
;
…17 красноармейцев, убитых из дробовиков бабами - за грабёж и в отчаянной попытке спасти свои жизни.
В ответ до 150 трупов – за сопротивление властям в условиях объявленного военного времени… Время другое, царя нет. А соотношение то же: примерно 1 к восьми. А потом: один к ста.
«Красный казак» Ф.П. Степанов, подавлявший это восстание, сообщал, что восставшие казаки «тысячами, как мужчины, так и женщины, с палками и трещётками лезут на пулемёты».
Люди! Копните ваши родословные! Даже никуда не ходите. Просто откройте комп и поройтесь в интернете. Вы очень сильно удивитесь активности своих предков.
Вот что нашёл я – всего за несколько часов, перед очередной дорогой в станицу Котуркульскую:
Два моих прапрадеда по папиной линии - Хорев Петр Тимофеевич (1868 - 1921) и Хорев Николай Тимофеевич (1873- 1921 гг.) - убиты красными при подавлении восстания. Сын Петра Тимофеевича также был зарублен красными (по устным рассказам его и других пацанов 15-16 лет отослали от греха подальше на заимку. Там их и нашли и не стали тратить патроны – порубили шашками).
На этом линия Петра пресеклась.
Убитый Николай лежал в хате, когда туда пришли – зачищать оставшихся – каратели. Мужество и хладнокровие моей двоюродной бабушки, Степановой Веры Николаевны, спасло это гнездо. Она стала кричать, что её муж – Степанов Илья Фёдорович – красноармеец, и вовремя успела достать и показать комиссару какие-то бумаги. Не тронули…
Но кто-то где-то отметил: остался жив и всё видел 8-летний сын Николая Иван. Будет помнить и отомстит за отца…
Иван подрос, встал на ноги (как тот, воспитанный выстрелом в голову и расстрелянный по выздоровлении Булатов И.)… Его арестовали в 1937. Расстрел. Пресеклась и эта линия.
Мой дед, Подкорытов Игнат Фёдорович, не планировал участвовать в классовых разборках. Вернувшись с Первой мировой, он женился на казачке из славного рода Тютиных. Родились две дочери–погодки: Стеша и Анна. А потом, весной 1921 года, их мать ушла из жизни.
Моя тётя Стеша – ей тогда было уже 3 годика – запомнила, что «у мамы пошла горлом кровь; натекло – полный тазик». Детям объяснили тогда, что их мама упала с полатей.
А я думаю, что род Тютиных уничтожили сознательно – всех взрослых, кого нашли. А Подкорытов остался с двумя дочерьми…
Через год он взял в жёны Хореву Арину Николаевну, лишившуюся в 1921 году двух самых дорогих ей мужчин: отца, Николая Тимофеевича, и мужа (о котором ничего не известно, о котором никто никогда ничего не говорил, даже имени не осталось, знали только, что он был; но тема была запретной).
Что было с моими прадедом и дедом по маминой линии в 1921 году – не знаю. Вероятно, что-то очень похожее. …Прятали пацанов на дальних выселках (деду моему, Портнягину Фёдору Дмитриевичу, было тогда 14 лет). А победители брали всех выскочивших из этой мясорубки, на тайный учёт…
Первым «пошёл» родственник моего деды Феди, то есть мой двоюродный прадед – Портнягин Дмитрий Иванович: сельпо, прииск Степняк, продавец. Расстрелян в 1932 году. Затем «пошёл» и мой родной дед – в так называемую «трудармию». Недостреляный в 1921 году и в 30-е годы Портнягин Фёдор Дмитриевич. Семья, пятеро детей, работа… И – трудармия.
Дед потерял там ногу – ампутировали обмороженную. Но выжил, вернулся в свою большую семью и они с бабой Марусей (Портнягиной (Григорьевой) Марией Ивановной) вырастили и поставили на ноги пятерых своих детей. Но жили почти всю жизнь за озером, подальше от деревни, в лесу. Бережёного Бог бережёт.
;
Вы удивитесь ещё больше, если проследите родословные победителей в той Гражданской. Но не вниз, а вверх, в наше время.
Победители продолжают побеждать!
А прошло почти столетие. Нет ни красных, ни белых. Есть Россия, живущая той же жизнью, что и в 1914 году.
Безусловно, есть свои Маяковские, Есенины и Шолоховы в нынешней России.
Это Шолохов стал автором известной крылатой фразы о войне и ненависти: «И если любовь к Родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагам всегда мы носим на кончиках штыков».
О Великой Отечественной писал.
Но – была и Гражданская, с гулявшей дикостью…
<…Когда говорят пушки – музы молчат… Не у нас, не в России, как это ни горько…>
Титаны поэзии, музыки и прозы услышаны нами через десятки лет – почти столетие…
И нет тех, кто не был услышан и не будет услышан никогда.
Слушайте землю!
Или слушайте хотя бы тех, кто живёт на этой земле.
…Еду. Колёса стучат. Я – на верхней любимой полке. Как будто снова возвращаюсь из колхоза домой, к маме и папе…
1.18. Тару давай!
После 20-22 чисел утр; стали совсем холодными. А после 25-го появился на траве иней. И маципурщики уже не оставляли вечерний задел на завтра. Картошка мёрзла. Уже грузчикам была отдана команда – не выходить с поля до последнего погруженного мешка.
Грузили в совсем темноте, когда браздарям давался отбой по причине плохой видимости.
Браздари потемн; начинали пропускать много картофельной мелочи. Приходилось тормозиться на подборке . Одно дело – подобрать три-четыре ведра со всего километрового гона. И совсем другое – 30-40 ведер. На такую подборочку нужна была уже не одна бригада, а три; а то и пол отряда уходило с основных гонов. Разумней было не допускать этих картофельных потерь и останавливать работы с концом светового дня.
Но мешки видны и на ощупь. И мешки с картохой ставятся в линию. А потому, без труда могут быть подсвечены фарами, убраны и спасены от ночных заморозков.
И бригады грузчиков приходят на ужин совсем поздно. И нет в эти вечера дискотек: ждут с грузчицкой вахты героев.
И в этой чрезвычайщине гоняет лишний раз, навстречу возвращающейся с работы «борозде», Телёнков нашу Бимку, везёт грузчицким бригадам перекус, чтоб не умерли и дошли, часов уже в одиннадцать, до столовой. Перекус нехитрый: хлеб, очень сладкий чай (углеводы) и остатки обедешней, чуть подогретой, сбросанной комьями большим половником в 20-литровый походный термос, пшённой каши.
Не все бойцы колхозной – грузчицкой – элиты кушают эти одонки.
Но на то у них и бригадиры, на то у бригадиров и связи с непорочным, но прикормленным и щедрым, когда надо, Аликом, чтобы обеспечивать именно в таких ситуациях работоспособность коллективов.
Грузчицкая ночная диета! Тушёнка!
;
Как и, что – остаётся там же – во мраке ночи. Это всего лишь легенды, передающиеся браздарями изустно, из поколение в поколение. Как и легенды о бродящем по полю мешке-Мерзавце, как и легенды о Васе-призраке, приходящем к общаге, стучащем в окна и просящем «водицы».
Ничего общего с действительностью. Что-то было, но…
Да, утонул как-то один из браздарей. В незапамятные времена. Но где? Вот в этом ручеёчке, который курица вброд перейдёт? Мимо которого каждое утро мы громыхаем по мосту (мост?! Вот ЭТОМУ – мост?!).
Да, кличут один из видов привозимых под картошку мешков «мерзавцем». Но не ходит же мешок по полю. Ночью. Братья! Сёстры! Вы же историки! Ну а биологи – тем более. Вы же атеисты-безбожники! Зачем вам эти суеверия?
Всё объяснимо! Обычный мешок – он мешок. В него входит 4 больших ведра картохи. Как и в стандартную мелкоячеистую – под картоху тоже – сетку. Мешки холщовые, иногда из очень грубой мешковины, а иногда, из мягонькой, как с льняной п;дмесью… А в целом – серединка-наполовинку. И выпускает их наша промышленность в основном стандартные. И новомодные – полипропиленовые – тоже стандартные. И вот среди этих беленьких часто попадаются немного укрупнённые мешочки.
Белый, большеразмерный мешок, в который входят не 4 ведра, а 6 (и даже немножко больше), называется мерзавцем.
Вот и всё!
Он не ходит! Он просто – мерзавец. Потому что есть и не беленькие на 6 вёдер мешки из мешковины. Их ещё может стерпеть грузчик солидных габаритов.
Из мешковины – Добрыни Никитичи иногда справляются и в одиночку.
Из мешковины – он не скользит при подъёме на плечо.
Из мешковины – и его можно аккуратно принять и перешвырнуть на место, предназначенное ему в кузовной укладке.
По этой же причине (мешковина) он не скользит в руках, в перчатках.
…У кого обрезиненные, с пупырышками на ладонной стороне – совсем хорошо…
А полипропиленовый шестивёдерный мерзавец – вот он и есть – это слово!
Здоровье, конечно, дело хорошее. И могутные парни н; спор в одиночку поднимут и доставят в кузов и мерзавца. Но это – работа. А не спор. Надо действовать с умом и коллективно. Мерзавец выскальзывает. Чистым хватом его не удержишь.
То есть, можно. Но велика вероятность и того, что скользнёт и чмокнется – сволочь! – обратно, в грязь. А это задержка. Надо снова…
Секунды. Но мешков сотни и сотни. Десятки мерзавцев…
Вдвоём удобнее и, в конечном итоге, быстрее. Там, где можно вдвоём – шестеро грузят (или четыре пары), двое принимают. Если 4 пары, то в кузове может добавляться третий элитный грузчик, на подхвате.
…Написал «на подхвате», но Вы не думайте, что это так – шаляй-валяй; это как раз элита и есть – от умного подхвата несущихся на уровни богатырской груди мешков, от координирующей работы, от сноровки и смекалки д;бра молодца зависит скорость, правильность, устойчивость укладки. В верховые разводящие попадают только «зубры» прошлогодних грузчицких «разливов».
…Видел я один раз перекошенную мешочную укладку на «ЗИЛке» – пришлось ребятам раскидывать аж верхних 3,5 ряда и всё поправлять. Но такое – видел только однажды…
Мерзавец надо взять в «полуобним», вдвоём. Не только кистями, но и обеспечив мешку возможность дополнительного соприкосновения. С притормаживающими его «выпадание» в случае выскальзывания руками (полуобним), грудью или животом.
Мерзавец немного тормозит погрузку.
…Секунды; но главное, что он сбивает ритм. И поэтому его не любят.
С остальными мешками грузчицкий конвейер работает виртуозно и быстро. Чаще – в п;рах. Так сноровистей. Но бывает, с удальства, 40-50 килограммовые мешочки швыряют, подбросив вначале на плечо, и в одиночку.
Жаль, что мы выхватываем только куски зрелища – когда повезёт застать за работой этих артистов в секунды своего водопоя – поверх кружки; или когда возвращаешься на родной гон с пустой тарой – вёдрами…
– Тару давай! – весёлый, понукающий девчачий клич.
– Тару давай!
Даю! Бегу!
...
2. Образование - это МОЙ бизнес!
2.1. «Лукомор»
«Луковый» колхоз пах по-другому. Пах луком. Сильно пах луком. И жарой. И нагретым металлом наших «сека-торов». И забытым в поле на старом гоне ведром со сгнившей луковой няшей, над которой вьётся мушиный рой.
А для меня – ещё проявителем и закрепителем от пальцев рук.
Августовский отряд был маленьким – человек 50. Гек-таров было тоже мало – на каждого по одному. Погода была не такая дождливая (хотя, тут неизвестно что лучше – дождь или пекло посреди огромного безветренного поля). Повара свои, родные. Порций добавки – сколько в тебя влезет.
Все входили в общежитие.
В общем, халява.
Из знакомых в «август-1981» поехал Андрей, одна из бригад грузчиков образца сентября–1980 в полном составе, Миша Карпеев и Седов. Поехал в этот раз в колхоз и Вадик – на должность художника-редактора стенгазеты. В состав полевых бригад он не входил, но в поле нам помо-гал, в охотку.
Я тоже был там при должности. Внештатный фотограф. Предполагалось, что я буду давать фотоматериалы и для местной многотиражки. Но, насколько я помню, всё ограничилось только парадными фотографиями местных доярок-ударниц. На ферме за это отряд получил 40-литровую флягу молока.
А потом эти фляги наш Завхоз просто покупал у них по какой-то нереально смешной цене.
Цены, и в самом деле, были запредельно низкие. В колхозной столовой глубокая, полная миска мяса бефст-роганов стоила 28 копеек. 22 копейки – гарнир на выбор. 15 копеек алюминиевая 400-граммовая кружка молока. 20 копеек – борщ с мясом. Мяса было столько же, сколько в миске бефстроганов. И это вызывало недоумение: почему такая уценка? Из-за воды и овощей?
Не помню, сколько стоили карамельки и печенья в ма-газинчике рядом с общагой. Но тоже – копейки...
А мне всё время хотелось сладкого. И после ночной смены, в которую я проявлял и печатал фотографии за несколько дней, я обязательно шёл покупать малодоступ-ные отряду вкусности – когда себе, а когда и на заказ.
Было такое правило у нашего командира – Гриши К.: дать фотографу выспаться, если он ночью печатал. И в поле – только с обеда. Причём, когда я работал, рядом, за стенкой, гремела и резвилась дискотека. В час ночи, чтобы уж совсем не заваливать завтрашнюю производительность труда, музыку выключали. К этому времени я успевал проявить и высушить все плёнки, отпечатать с них все фотографии. И оставалось только отглянцевать их на ста-рых, но мощных глянцевателях. На это уходило минут 40–50. И два или три последних «танцора диско» по каким-то своим – любовным, по большей части, – делам, колобро-дящие ещё в ночи, ложились спать одновременно со мной…
Гриша сказал мне сразу, с восточной интонацией муд-рости:
– Они отдыхают. Это их личное дело, когда ложиться. Они знают, что у меня подъём – в шесть. А ты работаешь. Поэтому: спи. И до обеда – свободен!
;
Вот как, примерно, проходил обычный колхозный (ав-густовский) день:
Я всегда просыпался за 5 минут до… Меня будили комиссаршины шаги. Ира П. шла в радиорубку объявлять подъём. И врубать пластинку «Верасов».
«Малиновки заслышав голосок…». Беззлобно, по-сентябрьски, выругавшись и полу-одевшись, я шёл на оправку и умывание.
…Солнце ещё не поднялось из-за облаков. Облака всегда узким кольцом опоясывали горизонт…
Утро холодило. От умывальника я возвращался в об-щагу.
Окна в общаге на ночь закрыты – от комаров. Дверь тоже закрывается на массивный крюк – от незваных гостей (маленький отряд – потенциально слабый отпор). Поэтому аромат после ночи в этом замкнутом пространстве – не дай бог! Но зато тепло. И можно посидеть до завтрака.
Сижу, пока не начинают возвращаться вставшие позже меня мужики. Встаю и иду в столовую. В белый барак с гордой надписью «Casino» над входом. Занимать очередь на свою бригаду.
;
Кроме традиционного деления на бригады, наша ком-пания образует ещё отдельную, неофициальную секту. Секта основана в первой в нашей жизни археологической экспедиции: Мишей Карпеевым и мной. Возможно, ей подошло бы название «Маленькие Радости». Но мы прин-ципиально против названий и устава. Войти в нашу секту и просто, и сложно. Так, по обоюдному – молчаливому –согласию учредителей в секту прямо в первый день кол-хоза был принят Дима Чачанидзе. Как особо тонкий цени-тель. Всего.
И не принят(молчаливо и единогласно) – Седов. За бездуховность и односторонность.
Завтраком наслаждается каждый по-своему.
Михаил гурманствует широким фронтом.
Я – нюхаю и поедаю хлеб.
А Дима Чачанидзе старается смаковать чай.
Завтрак заканчивается. Михаил встаёт со своей летней капроновой шляпы и произносит традиционную клаузулу: «Ну, мужики…Хорошо!». И мы выходим из столовой и ложимся на брёвна.
;
Утренняя линейка. Четыре жиденьких бригадки. Бри-гада грузчиков. Малолюдное августовское воинство – даже не вокруг, а сбоку от отрядного флага. Гриша и Ира – Командир и Комиссар – напутствуют кратко наш день. Гриша проводит всю линейку стоя. В остальное время дня, когда и если он на поле, его любимая восточная поза – на корточках. В этой позе – его главное отличие от всех других Командиров, сколько их было…
Я в строй не встаю: делаю вид, что фотографирую. Помимо требуемых официальных, возникают и неофици-альные снимки:
– отрядный флаг сквозь проволочную сетку забора;
– Валентин В. в кепке-восьмиклинке и со сверкающим золотым зубом на фоне нашего Casino – ; la персонаж фильмов о карточных шулерах;
– фото сортира, с прибитой Вадиком, любовно изго-товленной табличкой: «место отдыха»;
– душераздирающая фотография грузчиков, наказан-ных Гришей на полдня борозды; и не выдержавших, и уже на втором гоне вставших на все 4 конечности…
;
Командир говорит, что работаем плохо. Мужики хмы-кают. У них существуют справедливые сомнения по этому поводу. Им известна из достоверных источников (уходя-щих в ночные пьяные посиделки с приближёнными мест-ного отделенческого колхозного начальства) реальная производительность труда отряда – 150%. Она и не может быть меньшей. За 12-часовой рабочий день.
Но все понимают своего командира и не возражают: «плохо» – можем ещё хуже.
Весь срок мы продолжаем работать в своём темпе. Не снижая его ни в дождь, ни в слякоть. Наши 50 гектаров подходят к концу...
25 августа, на финише, я фотографирую посланные нам в помощь стройные ряды свежей абитуры – красной армии в составе 4-х из 10-ти приехавших бригад. Б;льшая часть «красноармейцев», ввиду нашей полной и безоговорочной победы над луком, после короткого совещания двух встретившихся Командиров, сразу отправлена на картофель.
Мы с благодарностью принимаем полудневную по-мощь. Но мы САМИ приканчиваем нынешний лук по-следним гоном .
Мы никому ничего не должны. Сентябрю – разби-раться только со своей картошкой!
;
А вообще борозда затягивает. Работаем все молча. Становится жарко. Все раздеваются. Я делаю несколько пляжных – рекламных для следующего колхоза – снимков. Улыбки в объектив, ещё минут десять машинального веселья. И снова – работа. До обеда ещё 2 часа…
И вот – обед. Умывальник далеко от столовой. Я к не-му и не иду. Сначала в столовую. Потом – в наш «клуб». Сюда собирается наша секта и хозяин помещения – Вадик. Это комиссарская, где он художничает, сочиняет и оформляет стенгазету.
Ещё он пишет памфлеты в столовскую книгу отзывов. Но это – неофициально и анонимно. Поскольку все пам-флеты направлены против Мощного Мужика Лякина – куратора отряда от деканата родного истфака. Основной посыл памфлетов: восхищение прекрасным аппетитом и другой околостоловской бурной деятельностью Богатыря Лякина и добрые советы этому Алёше Поповичу – уезжать домой и ждать там нашего возвращения.
Лякин, находясь при должности, обязан читать сто-ловскую книгу отзывов. Он читает, ржёт и никуда не едет. Зачем ему в душный город?
В комиссарскую допускается и Седов, так как он оживляет общую бесшабашно пляжную атмосферу своим постоянным чёрным безупречным (никогда – пузыри на коленках) трико.
Вадик любит смешно изображать Седова, режущим лук, чистящим на дежурстве картошку, пьющим из своей офицерской (папиной) фляжки воду.
Смешно даже Седову, но мысленно он возмущается тем, что он, как-никак, в поле пашет, а Вадик здесь себе картинки рисует…
И Седов предлагает сыграть в «дурака». Он не злой.
За стенкой комиссарской гудят доедающие, а нам, уже плотно поевшим, приятно чувствовать себя мыслящими интеллигентными людьми, перебирая карточные ходы.
Дух выше плоти.
;
После ещё 6 часов работы и после ужина мы снова собираемся в комиссарской. У Вадика наготове полный чайник и три кружки на пятерых. Печенье. Все тихо на-слаждаются. Приносят «Книгу отзывов». Вадик сообщает, что Мощный Мужик Лякин уехал в Свердловск и читает свой последний памфлет. Мы гордимся этой маленькой Вадюхиной победой. Хотя Михуил резонно отмечает: «Вернётся…».
Постепенно все расходятся, и остаёмся мы с Вадиком. Я проявляю плёнку и готовлю реактивы. Вадик со мной – из солидарности… Он помогает, чем может.
Сегодня дискотеки нет. Около 12-ти Вадик уходит спать.
Я печатаю. Готовые фотографии шлёпаются в 10-ти литровую кастрюлю с водой. На сегодня хватит. Глянце-вать – завтра. Всё – завтра.
Закрываю комиссарскую на амбарный замок. Иду в общагу.
Почему-то Седов всегда просыпается, когда я забира-юсь на свой «второй этаж». Сетка, что ли скрипит?
– Ну чо, сачок, отдыхаешь завтра?
– Ага.
– Сколько время?
– Не знаю…
Седов хочет сказать, что я прохиндей. Он немного за-видует. А я хочу ответить ему, что я за полдня делаю столько, сколько он за день.
Но мы с ним мирные люди.
И очень хочется спать…
(заинтересованным в том, что было дальше: пишите на адрес vip2003@rambler.ru Подкорытову Владимиру Ивановичу)
Свидетельство о публикации №221081300265