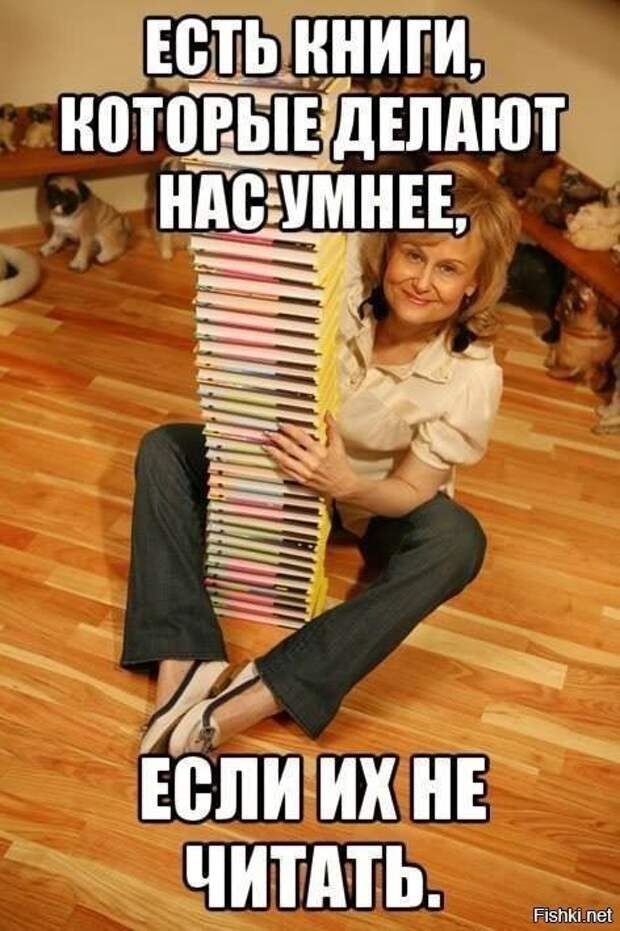Про книгу и фигу
Недавно знакомый компьютерщик Валентин рассказал мне поучительную историю: учительница задала задание школярам написать, о чём, по их мнению, некий писатель хотел сказать своим рассказом. История, знакомая ещё со времён школьного детства любого из нас: Катерина из «Грозы» А.Н. Островского – это для учителей луч света в тёмном царстве, а Григорий Александрович Печорин из «Героя нашего времени» М.Ю. Лермонтова – лишний человек, а Евгений Васильевич Базаров из так и недочитанного многими романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева – грубый нигилист, который отрицал всякие эстетические ценности, из-за чего целое поколение разночинцев получило прозвище «базаровщина».
В общем, ничто в нашем мире просвещения не ново. К счастью у этого некоего ученика дядей был тот самый писатель, по которому училка (сами поймёте из дальнейшего почему не учительница) заставила написать сочинение. И племянничек попросил его сказать, что конкретно по теме он хотел сообщить читателям. И тот честно ответил: то-то и то-то. И счастливый племяш радостно всё это и перенёс на бумагу.
Если кто-то когда-то читал замечательный фельетон короля фельетонов Власа Дорошевича «Это всегда так пишется», наверное, обогатил свои знания почерпнутыми оттуда сведениями. А именно:
«Ко всякому пишущему человеку часто обращаются чадолюбивые папеньки и маменьки с просьбой:
– Напишите ребёнку сочинение. Что вам стоит!
Но куда уж тут соваться! Когда Тургенев за сочинение, написанное для гимназиста, с трудом получил тройку с минусом. А Щедрину за сочинение, написанное для дочери, и вовсе поставили два:
– Не знаете русского языка!
Старик, говорят, даже объясняться поехал.
– Ну, уж этого-то вы, положим, говорить не смеете. Незнание русского языка! Да сочинение-то писал я!
И это, наверно, никого не смутило:
– Да, но не так написано!».
Следовательно, такой подкованный читатель легко угадает финал нашей притчи. Конечно же, наш хитромудрый школяр получил пару, потому что сама училка увидела в злополучном рассказе совершенно другое.
В принципе, всякий человек видит не только в литературе, но и в жизни всё иначе, нежели другие. И ничего странного и страшного в этом нет. Но проблема всё же есть, и она не в восприятии, а в психологии, в том числе и народной.
Вы не задумывались над любопытным фактом, почему лучшие учебники по русскому языку написаны армянами Бархударовым и Аванесовым, евреями Розенталем, Булаховским, Дымарским и Басиной (Гординой), немцем Лекантом, башкиркой Ахмеровой и т.д. Или над тем фактом, что глубинное содержание наших книг открывает для нас не просто еврей Михаил Казиник, а вдобавок ещё и не лингвист, а музыкант. Кстати, я, как и многие здравомыслящие люди, полностью согласен с его позицией, что современная школа формирует у ребёнка «клиповое мышление», поскольку он получает не связанные между собой разрозненные знания по разным предметам. Это тем более опасно для будущего человека, что это клиповое мышление развивают смартфоны и телевидение, ставшие инструментами массового оболванивания и дебилизации.
Беда наших граждан в том, что русская жизнь, а с нею и судьбы прочих народов страны, всегда проходили в экстремальных, кризисных условиях. Как будто одних природных нам было недостаточно! Потому не стоит удивляться, что всего одно лишь послевоенное поколение нашей страны гордилось тем, что их страна самая читающая, и гонялась за книжными новинками, но ныне это в невозвратном прошлом. Учтём также и тот грустный факт, что эстетическое воспитание пришло в Россию лишь при Петре Великом, а уничтоженная византийскими попами литература начала возрождаться по историческим меркам лишь позавчера – от Ломоносова с Пушкиным, т.е. с 18 века. Если кто-то не знает: Гомер творил ещё в 8 веке до христианского летоисчисления. Поэтому нужно отдать всё же нашим писателям и поэтам должное: они сделали огромный рывок, чтобы догнать мастеров Европы. Но лишь в 30-е годы 20-го века, при ненавистном многими интеллигентами Сталине, народ получил доступную грамотность и стал учиться читать книги. Очень малый срок, чтоб научиться понимать не только буквы, но и смысл.
Но вернёмся к Михаилу Казинику, которого многие называют Человеком Возрождения. Он не просто прочёл массу книг, но ещё и сохранил при этом не замыленный взгляд. И открывает людям глаза на привычные с детства произведения. Так, пушкинская сказка о «Рыбаке и рыбке» оказывается повестью не о жадной старухе, а о любящем и покорном своей любви к супруге мужичке. Кстати, супругами в стародавние годы называли пару лошадей или волов в упряжке – вместе и в беде, и в радости! Знаменитую басню И. А. Крылова «Ларчик» (между прочим, это Крылов ввёл прежде Пушкина простонародную речь в литературную) Михаил Семёнович объясняет без всякого научного изыска. И когда начинаешь всматриваться в суть текста, приходится согласиться: музыкант Казиник абсолютно прав, ведь Иван Андреевич, помчавшийся смотреть на очередной пожар, об этом говорит в самом начале:
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
К кому-то принесли от мастера Ларец.
Отделкой, чистотой Ларец в глаза кидался;
Ну, всякий Ларчиком прекрасным любовался.
Вот входит в комнату механики мудрец.
Взглянув на Ларчик, он сказал: «Ларец с секретом,
Так; он и без замка;
А я берусь открыть; да, да, уверен в этом;
Не смейтесь так исподтишка!
Я отыщу секрет и Ларчик вам открою:
В механике и я чего-нибудь да стою».
И здесь я напомню ещё одну народную пословицу: «Заставь дурака Богу молиться, так он лоб расшибёт». Её-то и имел в виду наш баснописец: «Где стоит только догадаться за дело взяться».
А что делает учёный дурень? Вместо простого и очевидного открывания он:
Вот за Ларец принялся он:
Вертит его со всех сторон
И голову свою ломает;
То гвоздик, то другой, то скобку пожимает.
Тут, глядя на него, иной
Качает головой;
Те шепчутся, а те смеются меж собой.
В ушах лишь только отдается:
«Не тут, не так, не там!» Механик пуще рвется.
Потел, потел; но, наконец, устал,
От Ларчика отстал
И, как открыть его, никак не догадался:
А Ларчик просто открывался.
Эту басню школьные учителя веками давали несчастным детям, не вникая в смысл крыловских слов: «А ларчик просто открывался». С логическим ударением на «открывался» – ну, не было у шкатулки никакого замка!
Одним из своих любимых писателей Михаил Семёнович называет Николая Семёновича. Для него Лесков наряду с Гоголем – лучшие писатели: «Настоятельно рекомендую для обогащения русского языка читать Лескова».
В самом деле, Лесков создаёт слова точно так же, как создают их дети, которые говорят не вазелин, а мазелин, потому что им не вазюкают кожу, а мажут. Кстати, его слово «складень» – т.е. складная икона закрепилось в нашем языке. Писатель мастерски переделывает в «Левше» иностранные слова точно так же, как переделывает их народ. Не одряхления стиля ради, как Солженицын, и не ради оригинальничания, как Вознесенский. Все эти «мелкоскопы», «Аболоны полведерские», «тугаменты», «публицейские», «пистоли» и прочие «перекрещенные» слова всем легко понятны, потому что созданы по законам русской лексики.
Вот о самом известном произведении замечательного писателя мы и поговорим. «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» с откровенной злобой встретили многие – и народники, и ретрограды. В ответ Лесков заявил, что «принизить русский народ или польстить ему» никак не входило в его намерения. И в самом деле – это одна из честных, не мифологизированных книг о русском народе. Точно также, кто читал его же книгу «Загон», те очень многое поймут и в русском крестьянском характере. Потому давайте вновь вчитаемся в сказ, чтобы убедиться, что Лесков не соврал ни единым словом, что русская жизнь выписана им честно и точно.
Как все помнят – если не по книге, то по мультику – речь идёт о том, как царю-освободителю Александру I коварные англичане преподнесли в подарок механическую блоху, которая умела танцевать, а в придачу «мелкоскоп», дабы смотреть. Но к счастью не дремал патриот Отечества атаман Платов:
«И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома своё не хуже есть,– и чем-нибудь отведёт».
После неожиданной кончины Александра на трон взошёл его брат Николай I. Тот долго не мог ума дать тому, что лежало в табакерке брата, пока её историю не поведал атаман Платов. А поскольку бравый Матвей Иванович был уверен, что наши мастера поухватистей будут, то и заявил царю:
«Ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть её русским пересмотрам в Туле или в Сестербеке, – тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали, — не могут ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не предвозвышались».
И новый император Платову же поручил передать англицкий механический презент тульским мастерам, с его наказом:
«Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфозорию, больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь сделают».
Правда, прежде, чем взять иноземную механику в работу, тульские мастеровые изрядно поотнекивались от задания, поскольку, как заметил ещё Грибоед: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь»:
«– Мы еще и сами не знаем, что учиним, а только будем на Бога надеяться, и авось слово царское ради нас в постыждении не будет.
Так и Платов умом виляет, и туляки тоже.
Платов вилял, вилял, да увидал, что туляка ему не перевилять, подал им табакерку с нимфозорией и говорит:
– Ну, нечего делать, пусть, – говорит, – будет по-вашему; я вас знаю, какие вы, ну, одначе, делать нечего, – я вам верю, но только смотрите, бриллиант чтобы не подменить и аглицкой тонкой работы не испортьте, да недолго возитесь, потому что я шибко езжу: двух недель не пройдет, как я с тихого Дона опять в Петербург поворочу, – тогда мне чтоб непременно было что государю показать».
Однако туляки явно переусердствовали: после их вмешательства железная «нимфозория» уже не могла, как раньше ножками перебирать, прыгать « и на одном лету прямое дансе и две верояции в сторону, потом в другую, и так в три верояции» кадриль танцевать. За что Левше, прихваченному атаманом для страховки, пришлось объяснять Николаю Павловичу, отчего никто не видит танцев блохи:
«Стали все подходить и смотреть: блоха действительно была на все ноги подкована на настоящие подковы, а левша доложил, что и это еще не все удивительное.
– Если бы, – говорит, – был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы, – говорит, – увидать, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту подковку делал.
– И твое имя тут есть? – спросил государь.
– Никак нет, – отвечает левша, – моего одного и нет.
– Почему же?
– А потому, – говорит, – что я мельче этих подковок работал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты, – там уже никакой мелкоскоп взять не может.
Государь спросил:
– Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?
А левша ответил:
– Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши».
В общем, всё как в народной песне про «Дубинушку»:
Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь,
Изобрёл за машиной машину.
А наш русский мужик, коль работать невмочь,
Так затянет родную дубину.
Тем не менее, Николай I решил отправить в Лондон ответку, мол, мы не то ещё могём! И в качестве курьера приложил левшу с блохой:
«…вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не удивительно».
Только вот второпях царские чиновники забыли о сущем пустяке:
«Ехали курьер с левшою очень скоро, так что от Петербурга до Лондона нигде отдыхать не останавливались, а только на каждой станции пояса на один значок еще уже перетягивали, чтобы кишки с легкими не перепутались».
Лишь по прибытию в столицу Британии туляку и удалось поесть перед приходом аглицких мастеров:
«Курьер их препроводил в номер, а оттуда в пищеприемную залу, где наш левша порядочно уже подрумянился, и говорит: «Вот он!».
Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как ровного себе – за руки. «Камрад, – говорят, – камрад – хороший мастер, – разговаривать с тобой со временем, после будем, а теперь выпьем за твоё благополучие…
…Они заметили, что он левой рукою крестится, и спрашивают у курьера:
– Что он — лютеранец или протестантист?
Курьер отвечает:
– Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры.
– А зачем же он левой рукой крестится?
Курьер сказал:
– Он – левша и все левой рукой делает.
Англичане еще более стали удивляться и начали накачивать вином и левшу и курьера и так целые три дня обходилися, а потом говорят: «Теперь довольно». По симфону воды с ерфиксом приняли и, совсем освежевши, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику знает?
Левша отвечает:
– Наша наука простая: по Псалтирю да по Полусоннику, а арифметики мы нимало не знаем.
Англичане переглянулись и говорят:
— Это удивительно.
А левша им отвечает:
— У нас это так повсеместно».
С этого всё и началось, а на обратном пути загулял наш левша по русской привычке до запоя с новоявленным «камрадом» – англицким полшкипером. По прибытию впавшего в белую горячку англичанина отправили в посланнический дом на Аглицкую набережную, где за него взялся лекарь, при этом приказавший:
« чтобы ему никто не мешал, по всему посольству приказ дан, чтобы никто чихать не смел».
А бедолагу Левшу отправили в квартал, то бишь в полицейский участок. А там ещё со времён Петра I считали себя главными защитниками имперских ценностей. Поэтому описанное Лесковым сугубо нашенское отношение к поступающим в эту контору, так и возмутило тогдашних патриотов:
«А Левшу свалили в квартале на пол и спрашивают: - Кто такой и откудова, и есть ли паспорт или какой другой тугамент? А он от болезни, от питья и от долгого колтыханья так ослабел, что ни слова не отвечает, а только стонет. Тогда его сейчас обыскали, пестрое платье с него сняли и часы с трепетиром, и деньги обрали, а самого пристав велел на встречном извозчике бесплатно в больницу отправить. Повел городовой Левшу на санки сажать, да долго ни одного встречника поймать не мог, потому извозчики от полицейских бегают. А Левша все время на холодном парате лежал; потом поймал городовой извозчика, только без теплой лисы, потому что они лису в санях в таком разе под себя прячут, чтобы у полицейских скорей ноги стыли. Везли Левшу так, непокрытого, да как с одного извозчика на другого станут пересаживать, всё роняют, а поднимать станут - ухи рвут, чтобы в память пришел. Привезли в одну больницу - не принимают без тугамента, привезли в другую - и там не принимают, и так в третью, и в четвертую - до самого утра его по всем отдаленным кривопуткам таскали и всё пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал городовому везти его в простонародную Обухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают. Тут велели расписку дать, а Левшу до разборки на полу в коридор посадить. А аглицкий полшкипер в это самое время на другой день встал, другую гуттаперчевую пилюлю в нутро проглотил, на легкий завтрак курицу с рысью съел, ерфиксом запил и говорит: - Где мой русский камрад? Я его искать пойду. Оделся и побежал».
Между прочим, этот полшкипер оказался засланным в наши пределы либералом и инагентом, поскольку он вздумал качать свои англицкие права нашенскому министру:
«Англичанин побежал к графу Клейнмихелю и зашумел:
– Разве так можно! У него, – говорит, – хоть и шуба овечкина, так душа человечкина.
Англичанина сейчас оттуда за это рассуждение вон, чтобы не смел поминать душу человечкину».
Что же касаемо нашего таланта мастерового, то в больнице его положили в коридоре на полу. Если вам «посчастливилось» попасть с COVID-19 в больницу, как мне и другим бедолагам, то вы скажите что за двести лет в нашей жизни мало что изменилось. Далее, если помнит кто памятливый, англичанин пробился к Платову, но тот от несчастного Левши открестился:
«…только не знаю, как ему в таком несчастном разе помочь; потому что я уже совсем отслужился и полную пуплекцию получил - теперь меня больше не уважают,- а ты беги скорее к коменданту Скобелеву, он в силах и тоже по этой части опытный, он что-нибудь сделает».
Видимо, комендант неплохо разбирался в запоях:
«Скобелев говорит: – Я эту болезнь понимаю, только немцы ее лечить не могут, а тут надо какого-нибудь доктора из духовного звания, потому что те в этих примерах выросли и помогать могут: я сейчас пошлю туда русского доктора Мартын-Сольского. Но только когда Мартын-Сольский приехал, Левша уже кончался, потому что у него затылок о парат раскололся, и он одно только мог внятно выговорить: – Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся. И с этою верностью Левша перекрестился и помер. Мартын-Сольский сейчас же поехал, об этом графу Чернышеву доложил, чтобы до государя довести, а граф Чернышев на него закричал:
– Знай,- говорит,– свое рвотное да слабительное, а не в свое дело не мешайся: в России на это генералы есть.
Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдашнее время как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены.
Тут Мартын-Сольский Чернышеву о левше и напомнил, а граф Чернышев и говорит:
– Пошел к черту, плезирная трубка, не в свое дело не мешайся, а не то я отопрусь, что никогда от тебя об этом не слыхал, – тебе же и достанется.
Мартын-Сольский подумал: «И вправду отопрется», – так и молчал.
А доведи они левшины слова в свое время до государя, – в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был».
Так о чём же эта повесть Лескова, если бы упомянутая нами училка заставила нас писать сочинение о левше? О талантливом мастеровом? Ведь сам Николай Семёнович по завершающей главе пишет:
«Собственное имя левши, подобно именам многих величайших гениев, навсегда утрачено для потомства; но как олицетворенный народною фантазиею миф он интересен, а его похождения могут служить воспоминанием эпохи, общий дух которой схвачен метко и верно».
Обратите внимание: в некоторых изданиях слово левша применяется как прилагательное, а не как существительное. В шестой главе о нём лишь сказано:
«…а оружейники три человека, самые искусные из них, один косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны»
По Лескову наш гениальный герой – всего лишь рядовой представитель талантливого, но замордованного русского народа. И в подтверждение этого писатель в следующей главе указывает на важный факт:
«Туляки, люди умные и сведущие в металлическом деле, известны также как первые знатоки в религии».
Следовательно, каким бы неординарным ни был наш левша, имя христианское у него было. Не называется оно ещё и потому, что эта история давно превратилась не только для туляков, но и для всех неординарных личностей, как пишет сам Лесков, в «эпос, и притом с очень «человечкиной душою».
И теперь становится понятным, что предназначался этот эпос не мастеровым, задавленным техническим прогрессом и непролазной нищетой, а тем, у кого есть время на чтение книг – так называемому правящему классу. Императорам и министрам, полицейским и врачам, всем, в ком остались милосердие и разум. Не случайно же о российской позорной и античеловечной системе говорит всего лишь обыкновенный моряк из Англии, народ которой первым в мире в 1688 году сверг абсолютную монархию, провозгласил Билль о правах и создал парламент.
И теперь всем становится ясно и понятно, что ежели читать настоящую отечественную классику, а не детективный ширпотреб Агрипин Донцовых, Марин Алексеевых-Марининых, Татьян Устиновых, и уж тем более не «дамские» романы каких-то Ясмин Сапфир и иже с ней, то многих дуростей и мерзостей в нашей жизни можно было бы избежать. Но, кажется, уже поздно пить боржоми, когда почки отпали.
3 октября 2022 г.
Свидетельство о публикации №222100301352