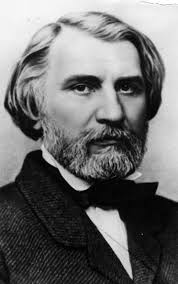За что мы любим Тургенева?
По праву можно сказать, что в русской литературе наивысшей точкой развития прозы является именно проза Ивана Сергеевича Тургенева. Как когда-то великий Пушкин, прикоснувшись своим поэтическим гением к самим звёздам, продемонстрировал достойный, можно сказать отеческий, пример русским прозаикам, которым суждено будет жить и созидать уже после его ухода в непознанную даль иного мира. Ибо проза – ученица и логичная последовательница поэзии. Этот неоспоримый закон имеет твёрдую и незыблемую основу, подобно законам физики или химии. Но вернёмся к самому аристократическому и изысканному прозаику России.
Тургенев прожил большую и насыщенную жизнь. По сути, за свои лета он сумел, как и многие значительные художники, прожить несколько жизней. Безусловно, речь идёт о жизненных стезях собственных, выдуманных героев, рождённых благодаря личному таланту и судьбе. И это не только микрокосм нигилиста Базарова или, скажем, наивного и трагичного Нежданова, но и неоднозначные художественные извилистые тропы Аси или крестьянской девушки из рассказа "Свидание", цикла рассказов "Записок охотника":
"Я постоял, поднял пучок васильков и вышел из рощи в поле. Солнце стояло низко на бледно-ясном небе, лучи его тоже как будто поблекли и похолодели: они не сияли, они разливались ровным, почти водянистым светом. До вечера оставалось не более получаса, а заря едва-едва зажигалась. Порывистый ветер быстро мчался мне навстречу через желтое, высохшее жнивьё; торопливо вздымаясь перед ним, стремились мимо, через дорогу, вдоль опушки, маленькие, покоробленные листья; сторона рощи, обращённая стеною в поле, вся дрожала и сверкала мелким сверканьем, четко, но не ярко; на красноватой траве, на былинках, на соломинках — всюду блестели и волновались бесчисленные нити осенних паутин. Я остановился... Мне стало грустно; сквозь невесёлую, хотя свежую улыбку увядающей природы, казалось, прокрадывался унылый страх недалекой зимы. Высоко надо мной, тяжело и резко рассекая воздух крылами, пролетел осторожный ворон, повернул голову, посмотрел на меня сбоку, взмыл и, отрывисто каркая, скрылся за лесом; большое стадо голубей резво пронеслось с гумна и, внезапно закружившись столбом, хлопотливо расселось по полю — признак осени! Кто-то проехал за обнажённым холмом, громко стуча пустой телегой... Я вернулся домой; но образ бедной Акулины долго не выходил из моей головы, и васильки её, давно увядшие, до сих пор хранятся у меня...".
Всех своих персонажей Иван Сергеевич чувствовал, понимал и сострадал им в чём-то, как и всякий родитель или Творец, печётся о своих детях, беспокоится за них, благословляет потомков, а порой и карает за нерадивость и своеволие.
Стилистика повествования Тургенева влюбляет, преображает и успокаивает. Ибо красота – всегда успокоение. Смело можно заявить, что регулярное чтение рассказов, повестей, романов – лучшая терапия для души. Слог данного классика демонстрирует всю амплитуду, гибкость, всё своеобразие, утончённую хрупкость, легкомысленное кокетство, вместе со столь гремящим масштабом и силой русского языка.
Чрезвычайно интересен и метод описания Ивана Сергеевича: на страницах прозы писателя читатель сталкивается и с увлекательным сюжетом, и с грандиозными, подчас гениальными по степени филологической и художественной оригинальности, описаниями природы, и весьма часто с лёгким дуновением философского размышления в конце того или иного произведения, которое в свою очередь явно провоцирует в сердце впитывающего жадно строки облагораживающую задумчивость и душевное очищение. Быть может, это и есть действо редкого Катарсиса, о чудодейственном явлении которого нас предупреждали ещё древние?
"А осенний, ясный, немножко холодный, утром морозный день, когда берёза, словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на бледно-голубом небе, когда низкое солнце уж не греет, но блестит ярче летнего, небольшая осиновая роща вся сверкает насквозь, словно ей весело и легко стоять голой, изморозь еще белеет на дне долин, а свежий ветер тихонько шевелит и гонит упавшие покоробленные листья, — когда по реке радостно мчатся синие волны, мерно вздымая рассеянных гусей и уток; вдали мельница стучит, полузакрытая вербами, и, пестрея в светлом воздухе, голуби быстро кружатся над ней...
<…>
Но вот вы собрались в отъезжее поле, в степь. Верст десять пробирались вы по просёлочным дорогам — вот, наконец, большая. Мимо бесконечных обозов, мимо постоялых двориков с шипящим самоваром под навесом, раскрытыми настежь воротами и колодезем, от одного села до другого, через необозримые поля, вдоль зелёных конопляников, долго, долго едете вы. Сороки перелетают с ракиты на ракиту; бабы, с длинными граблями в руках, бредут в поле; прохожий человек в поношенном нанковом кафтане, с котомкой за плечами, плетётся усталым шагом; грузная помещичья карета, запряжённая шестериком рослых и разбитых лошадей, плывёт вам навстречу. Из окна торчит угол подушки, а на запятках, на кульке, придерживаясь за верёвочку, сидит боком лакей в шинели, забрызганный до самых бровей. Вот уездный городок с деревянными кривыми домишками, бесконечными заборами, купеческими необитаемыми каменными строениями, старинным мостом над глубоким оврагом... Далее, далее!.. Пошли степные места. Глянешь с горы — какой вид! Круглые, низкие холмы, распаханные и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами; заросшие кустами овраги вьются между ними; продолговатыми островами разбросаны небольшие рощи; от деревни до деревни бегут узкие дорожки; церкви белеют; между лозниками сверкает речка, в четырёх местах перехваченная плотинами; далеко в поле гуськом торчат драхвы; старенький господский дом со своими службами, фруктовым садом и гумном приютился к небольшому пруду. Но далее, далее едете вы. Холмы всё мельче и мельче, дерева почти не видать. Вот она наконец — безграничная, необозримая степь! А в зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, дышать морозным, острым воздухом, невольно щуриться от ослепительного мелкого сверканья мягкого снега, любоваться зелёным цветом неба над красноватым лесом!.. А первые весенние дни, когда кругом всё блестит и обрушается, сквозь тяжелый пар талого снега уже пахнет согретой землёй, на проталинках, под косым лучом солнца, доверчиво поют жаворонки, и, с весёлым шумом и рёвом, из оврага в овраг клубятся потоки... Однако пора кончить. Кстати заговорил я о весне: весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль... Прощайте, читатель; желаю вам постоянного благополучия".
Отрывки из рассказа "Лес и степь", цикла рассказов "Записки охотника".
Проза Тургенева изобилует упоминаниями разных видов птиц, цветов, заслуженно указывая на поразительную эрудицию писателя. А как привлекательно, неспешно, стройно и колоритно многократно описан процесс охоты! Как точно передано волнующее и бодрое настроение охотника, увлечённого не столько добычей, сколько миловидностью и очаровательностью окружающей природы: неба, леса, степного ветра и летнего солнца! Тургеневу от Бога была дана способность, как и подобает великому писателю, передавать то, что чувствует и переживает обыватель. Не столь важно, в какой именно жизненной механике, действии в конкретный момент находится этот самый обыкновенный человек: охотится ли за утками, влюбляется ли, забывая собственные обеты, в условную "Одинцову", или, наконец, самоотверженно стреляется, разочаровавшись в своих идеях.
Творчество "Великана с серебряной головой", как называл Тургенева французский писатель Ги де Мопассан, напоминает крупный яркий букет, собранный из разных свежих, омытых утренней росой, цветов. Последующим поколениям он оставил ещё и поэтическое наследие. Писатель рождал удивительные по мелодичности и форме стихи в молодые годы. Можно вспомнить хотя бы стихотворение "В дороге", которое к слову сказать, было положено в основу романса "Утро туманное":
"Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.
Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
Первые встречи, последние встречи,
Тихого голоса звуки любимые.
Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное далёкое,
Слушая ропот колес непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое."
К тому моменту, когда земной путь Ивана Сергеевича начал клониться к концу, смиренно тихо и нежно, как некогда копна речных камышей безропотно склоняется под волей ветра, классик подарил жизнь сборнику стихотворений в прозе, под названием "Senilia". Как сладко и оживляюще бьёт родник поэтической силы в этих стихах! Какая мудрость и философичность скрывается в этих, на первый взгляд, небольших и незамысловатых творениях! Не лишним будет заметить, что весь колоссальный метафизический объём этих стихотворений в прозе переживается уже после прочтения и это понимание перечёркивает напрочь первичное легковерное впечатление от них.
Говоря о Тургеневе, не хочется заканчивать. Напротив: мы обязаны дать продолжение его судьбе, которая, без сомнения, не прервалась тогда, в 1883-м году, под Парижем, в скромном и уютном городке Буживаль. А лучшее продолжение земного пути, как известно, - непринуждённый и свободный взмах крыла самого искусства…
"Какая ничтожная малость может иногда перестроить всего человека!
Полный раздумья, шёл я однажды по большой дороге.
Тяжкие предчувствия стесняли мою грудь; унылость овладевала мною.
Я поднял голову… Передо мною, между двух рядов высоких тополей, стрелою уходила вдаль дорога.
И через неё, через эту самую дорогу, в десяти шагах от меня, вся раззолоченная ярким летним солнцем, прыгала гуськом целая семейка воробьёв, прыгала бойко, забавно, самонадеянно!
Особенно один из них так и надсаживал бочком, выпуча зоб и дерзко чирикая, словно и чёрт ему не брат! Завоеватель — и полно!
А между тем высоко на небе кружил ястреб, которому, быть может, суждено сожрать именно этого самого завоевателя.
Я поглядел, рассмеялся, встряхнулся — и грустные думы тотчас отлетели прочь: отвагу, удаль, охоту к жизни почувствовал я.
И пускай надо мной кружит мой ястреб…
— Мы еще повоюем, чёрт возьми!"
"Мы ещё повоюем!", сборник стихотворений в прозе "Senilia". 1879 год.
Свидетельство о публикации №223032901201