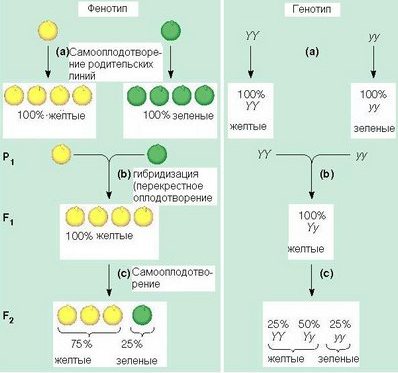Г. Мендель. Опыты о гибридизации растений
неследственный закон Менделя
ПУБЛИКАЦИЯ И НАЧАЛЬНЫЕ ОТКЛИКИ
Работа, фундаментальная для всей современной генетики, была написана как доклад к заседанию Брюннского союза естествоиспытателей, этакого провинциального кружка научных дилетантов, которых в Европе было тогда пруд пруди. И на заседании этого Общества или союза она и была зачитана в 1865 году дважды: 8 февраля и на женский праздник 8 марта, который тогда еще не праздновался. Работа, если верить местной прессе, была принята с неуемным восторгом:
"На вчерашнем заседании Ферейна, снова привлекшем многочисленную публику, профессор Г. Мендель прочитал продолжительную лекцию, имеющую особый интерес для ботаников, -- о растительных гибридах, полученных путем искусственного опыления родственных видов, каковое осуществлялось путем переноса пыльцы с тычинок на пестики... Восторженный интерес слушателей показал, что предмет лекции был оценен очень высоко и сама лекция была желанна".
Можно ли в это поверить? Работа Менделя занимает всего несколько страничек, и прочитать ее просто механически не стоит особого труда. Написана она гладким, хорошим немецким языком, и с этой стороны препятствий для ее освоения вроде бы нет. Однако в работе не было ни единой жиринки. Написана она была строго и безупречно логично. Но это-то и делало и делает ее до сих пор для тех, кто находится не в теме, совершенно невоспринимаемой. "Чтобы понять Менделя, отвечал мне по этому поводу знакомый биолог, профессор Алтайского университета, нужно быть полностью в теме, а так лучше читать по генетике научно-популярные брошюрки. Я уже много лет занимаюсь биологией и время от времени перечитываю 'Опыты'. Вещь, доложу тебе, нелегкая. На сон грядущий лучше ее не читать".
И это была мне кажется первая ошибка Менделя -- обратиться Urbi et Orbi, причем с первого захода, со строго специализированной статьей, которая и сегодняшним-то специалистам дается с трудом.
Тем не менее, как и водится, статья была напечатана в трудах этого Verein'а, а оттуда попала в многочисленные библиографии ботанических работ. Так в авторитетнейшей монографии Фоке 1881 года, которую обязательно хоть раз в жизни держал в своих руках любой уважающий себя ботаник, имя Менделя упоминается 15 раз. Сам Мендель не был лохом и разослал "Вестник Брюннского Ферейна" со своей статьей в 120 журналов. Имя его таким образом было прочно занесено на скрижали науки. Вот она сила научных публикаций!
Занесено-то, занесено, а вот прожариться в этих лучах ни при жизни, ни долгие годы после смерти ему толком не было дано.
И здесь он совершил свою вторую ошибку, которую можно смело поставить в кавычки. "Ошибку" -- вот так. Ибо если в первой ошибке он был виноват сам, то вторую можно смело назвать трагической. Он не принадлежал ни к какой научной школе. У него не было ни коллег, ни друзей, если не считать доброжелательных приятелей из брюннского Ферейна, где было три десятка ученых -- и все они по-дружески считали себя великими, ни учителей, ни учеников. То есть никого, кто бы проталкивал и подпихивал его к славе. Он был одинок, ученый с улицы, дилетант, вызывавший снисходительные улыбки со стороны профессионалов.
Из 120 посланных им журналов, 117 так и остались стоять на полках неразрезанными (тогда печатные издания, да и книги поступали не так как сейчас, где можно листать одну страницу за другой, а в виде сброшюрованных тетрадок по 16-32 страницы каждая, которые перед чтением нужно было разрезать: существовали даже специальные ножи для разрезки книг и журналов). То есть никто даже не взглянул на "Опыты..."
Правда, одним из взглянувших был русский ученый с немецкой фамилией, некто Шмальгаузен. Этот Шмальгаузен в своей магистерской диссертации 1874 года "О растительных помесях. Наблюдения из Санкт-Петербургской флоры", то есть еще при жизни Менделя, составил библиографический обзор современной ему литературы по вопросу, в котором не только значилось имя Менделя, но и была дана развернутая характеристика его "Опытов".
Причем характеристика не просто доброжелательная. Отзыв содержал глубокую и проницательную оценку труда Менделя. Но дело в том, что тогда Шмальгаузен был не членом-корреспондентом наук и одним из отцов палеоботаники, а звали его еще никак и был он никем. В 1875 г, правда, диссертацию Шмальгаузена опубликовали в авторитетнейшем берлинском научном издательстве. Однако рецензенты сильно ее сократили, и под сокращение попал и его отзыв об "Опытах".
СПОР О ПРИОРИТЕТЕ
Так что Мендель оставался в запасниках. Слава пришла к нему лишь в 1902 году. Но отнюдь не как дань его памяти или как звезда, которая озаряет научные пути-перепуться последователям. Он оказался невольным козырем в некрасивой научной борьбе. Один из молодых тогда биологов П. Корренс, который изучал наследственность у мохообразных, пришел к абсолютно тем же выводам, что и Мендель. Абсолютно ничего не зная об этом, он радостно побежал доложить всему миру о своем открытии. Но первоначально решил все же проверить: а, может, кто-нибудь уже тоже работает в этом направлении.
Ба! И оказалось, что то же самое соотношение 1:3 между рецессивными и доминативными признаками уже установил... нет сначала не Мендель. А другой биолог -- де Фриз -- который опередил Корренса буквально на несколько недель. Раздосадованный Корренс -- ведь его открытие было не одномоментной вспышкой, а стоило ему тысяч опытов и нескольких лет трудов -- стал рыться по библиографическим спискам. И вот тут-то эти сохранившиеся скрижали истории и пригодились для черного дела.
Они доставили из тьмы забвения на свет божий имя Менделя. Корренс схватил один из неразрезанных номером "Вестника Брюннского Ферейна", и оказалось, что богемский монах сыграл шутку не только с ним, а и с де Фризом, а попутно и с английским биологом Чермаком, который в тиши лабораторий вывел тот же закон. И пошло, поехало. Корренс обвинил де Фриза ни много, ни мало, как в плагиате, поскольку в одной из ранних работ последнего была ссылка на "Опыты", а в сообщении 1900 г для Comptes Rendues, где и была дана четкая формулировка генетических законов, именем богемского монаха даже и не пахло.
Спор, сдул де ли Фриз у Менделя или нет, до сих пор будоражит научное общество. Хотя ей богу! То что Мендель попал в один из библиографических списков статьи злополучного де Фриза, где о наследственности не было ни звука, ни о чем не говорит. Будто неизвестно, что ученые ставят в конце своих трудов эти списки гвалтом, чаще всего берут их готовыми из предыдущих источников, добавляя несколько своих, действительно ими проработанных материалов. Если бы ученые знакомились со всем тем, что они цитируют или на что ссылаются, им работать бы было некогда: они только бы и делали, что изучали друг друга. И тем более, что первые идеи о наследственности, правда, в мутной и непроясненной для самого себя форме де Фриз высказал еще в своей работе 1889 года, когда он, по всей видимости (иначе бы он уже тогда сформулировал знаменитый этот закон), еще не был знаком с менделевой статьей.
Поэтому гораздо интереснее другой вопрос. Относятся ли "Опыты гибридизации растений" действительно к классическим трудам? То есть к таким, которые сколько ни читай через сколько лет всегда есть место для генерирования новых идей и для вычитывания такого, что миллионы проштудировавших их до этого глаз так и не заметили. Сам-то я в биологии ни бум-бум, и поэтому интересно было бы найти ответ от знающих и понимающих в этом деле людей
МИНИАТЮРЫ О НАУКЕ
http://proza.ru/2023/03/21/327
Свидетельство о публикации №223081500137
Виктор Бабинцев 15.08.2023 09:16 • Заявить о нарушении