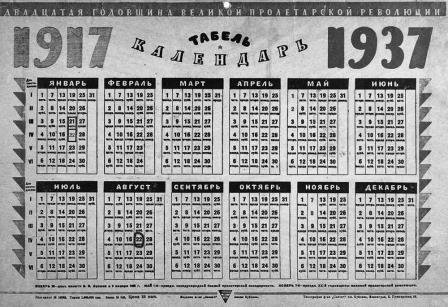Один из числа тех.. , или папин подарок! с 32 - 42
ПРОДОЛЖЕНИЕ...
с 32 - 42 главы
32 глава. "И НАСТУПИТ РАССВЕТ.., или ЖИЗНЬ С НАЧАЛА".
Жизнь не стояла на месте. Жизнь продолжалась. Шел 1946 год.
Нина Борисовна снова привезла продукты из Долинки, Административного центра Карлага, на своей старой лошаденке по кличке «Тая». Она хоть и получила освобождение, но вот уже пятый месяц продолжала работать в лагере, но уже, как вольнонаемная. Ведь на свободу жены ЧСИР выходили формально, в реальности фактически оставались в лагере. Начальству было нужно отчитаться о выполнении пятилетнего плана на лагерной ткацкой фабрике, и поэтому женщин не спешили отпускать домой. Но освобожденным женам в зоне жить было нельзя, а рядом с лагерем жилых поселков не было. Вокруг была голая степь. И администрация лагеря нашла довольно оригинальный выход. Она перенесла колючую проволоку и вышки с охранниками вглубь зоны, и часть бараков оказалась вне зоны. В них и поселили освобожденных женщин. Теперь они были вроде свободные, а на работу на фабрику ходили в зону, но уже как вольнонаемные. А Нина Борисовна продолжала работать по хозяйственной части, все так же отвечая за доставку молока и хлеба в лагерную зону.
И не было дня, что бы она не мечтала о том, как снова обнимет своего сыночка Вадика и маму. Но мечты пока, оставались мечтами. По Советским законам, Нина Борисовна Граник не имела права не то что жить в Москве, она не имела права даже въезжать в столицу, как и в другие областные города нашей страны. Она разгружала продукты и думала: «Господи! Ну когда же наступит рассвет? И мгла рассеется…» И вдруг услышала:
- Здравствуйте, Нина! А я вас ждал…
Нина подняла голову и увидела высокого мужчину, одетого в военную форму. Это был Искияев Мани Намати, который приезжал в Долинку по делам снабжения, и испытывал к Нине Борисовне явную симпатию. За своими мыслями и мечтами, она не заметила, как он тихо к ней подошел. А Мани расстегнул верхние пуговицы шинели и вытащил из-за пазухи маленькую желтую веточки мимозы, и протянул ей:
- Это вам, держите!
- Здравствуйте, Мани, - тихо произнесла Нина, - Зачем это? – грустно спросила она, и стала продолжать выгружать бидоны с молоком. А Мани с природной ему восточной вежливостью, начал ей помогать. Нина конечно не могла не заметить, что он на нее всегда как-то по особенному смотрел и даже немного смущался. Вот и теперь, было видно, что эта мимоза в его руке появилась не напрасно, он явно хочет что-то ей сказать:
- Нина, скоро заканчивается моя командировка. Я уезжаю домой в Ташкент. Выходите за меня замуж. Я давно вас приметил. Женщина вы положительная во всех отношениях, лишнего слова не скажите. Мне такая жена и нужна.
От услышанного Нина Борисовна пришла в полное замешательство. Она стояла, смотрела и не знала, что сказать. А Мани смотрел на нее и продолжал говорить:
- Я не люблю, когда женщина много говорит. Вы не такая, вы природная интеллигентка, - сказал он и пристально посмотрел на нее.
- А как же любовь? - спросила Нина Борисовна.
- Главное доверие. Я вам доверяю. Вы мне доверяете, и я это вижу. А остальное….., - и он замолчал, а потом вздохнул, и добавил, - Став моей законной женой, вы сможете изменить свою жизнь. Вам здесь не место. Соглашайтесь.
- Я все равно никогда не смогу полюбить вас, так, как любила своего мужа.
- А я и не требую. Достаточно уважения и заботы, - тяжело вздохнув ответил Мани.
- Так это вы решили о себе, а не обо мне. А, что вы еще решили? – с легким укором сказала она.
- А то, что вы, Нина, можете и не согласиться.
- Все очень сложно. Мы не на танцплощадке в Москве. Мы в лагере.
- Ваш срок закончился, - с радостью говорил он, - Вы свободный человек!
- Да, официально мой срок закончился, но я должна жить здесь, как и многие другие женщины на вольном поселении.
- Ниночка, можно и по-другому.
- Вы смеетесь…
- Выходите за меня замуж. И мы уедем жить в Ташкент.
- Зачем вам это? – не понимала Нина Борисовна.
- Нравитесь вы мне очень…Хорошая вы, воспитанная. Подумайте. И дайте знать, - сказал он и поспешил в административное здание, положив веточку мимозы на бидон.
А Нина Борисовна молча смотрела ему в след, нюхала мимозу и думала: «Пахнет весной и свободой!», и еще - «Что делать?» Эти мысли до позднего вечера не давали ей покоя. «Кого спросить? С кем посоветоваться?» - пульсировало в ее голове.
- Что с тобой Нина? На тебе лица нет…, - поинтересовалась ее соседка, старая поседевшая цыганка Рада, которая жила вместе с Ниной на вольном поселении, в одном бараке.
- Мани сегодня сделал мне предложение, а я не знаю…сомневаюсь, - шепотом, что бы никто не услышал сказала она и резко замолчала. Цыганка поближе подошла к Нине и заглянула ей в глаза:
- Ангела ждешь? Так ведь среди мужиков ангелов-то не бывает. Да и мы, женщины, не ангелы.
- Я мужа забыть не могу. Я его до сих пор люблю. И как жить с нелюбимым, я не знаю.
- А ты, Ниночка, на доброе слово не скупись. Доброе слово всегда до сердца дойдет. Вот и будете жить в мире и согласии.
- Поймет ли сын меня? Вот о чем я думаю…- сказала Нина и тяжело вздохнула.
- Конечно поймет. По другому и быть не может. Будешь жить в Ташкенте, и он лишний раз к тебе приедет, – сказала Рада и словно поставила точку в этом вопросе, и перемешав замызганную и потертую колоду карт, добавила, - Не оглядывайся в прошлое – думай о будущем! Иди Нина замуж. Начни все с начала… И помни, что за темною мглою, всегда наступит рассвет!
Эти слова тронули душу Нины Борисовны, и она решила начать все, с чистого листа. Она вспомнила, как именно Рада, несколько лет назад, предсказала ей по ладони: - «Сейчас, Нина, ты мучаешься, а вот вторая половина жизни у тебя, будет благополучная и счастливая». Вспомнив эти слова, она решила принять предложение Мани.
Свадьба состоялась в Ташкенте 31 мая 1946 года. Вторым мужем Нины Борисовны Граник стал Искияев (Аминов) Мани Намати, ташкентский служащий. А она стала его женой - Ниной Искияевой. Так в одночасье изменилась ее жизнь, и она оказалась в Ташкенте.
Но кем был для Нины ее второй муж? Да видимо, пропуском в нормальную жизнь, без колючей проволоки и охранников с собаками. Хорошо ли, плохо ли, но это замужество помогло ей устроиться в Ташкенте, сменить справку об освобождении на «чистый паспорт» - так раньше говорили, когда в паспорте не указывалось, что человек отбывал срок в заключении, и самое главное – подарил ей дочь и долгожданную свободу!
33 глава. "ГОЛОДНЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ, или КУРС НА ВЫЖИВАНИЕ!"
В 1946 году в стране, с продовольствием, сложилась неблагоприятная ситуация. Дело в том, что послевоенное сельское хозяйство находилось в плачевном состоянии. Многие деревни и села, полностью уничтожила война. А большая часть мужского населения погибла на фронте и кругом работали одни бабы, да ребятишки. Не на чем было пахать, сеять и убирать. Сорок шестой год вдобавок оказался еще и засушливым годом! Засуха не позволила собрать хороший урожай, и зерна было собрано гораздо меньше, чем планировалось. Послевоенный кризис советской экономики привел к снижению и без того невысокого уровня жизни людей и поставил их на грань выживания.
Заработную плату рабочим снизили почти вдвое, а всех сельских жителей государство сняло с продовольственного пайка. Им предлагалось выживать исключительно за счёт собственного подсобного хозяйства. Вместе с тем, крестьяне были вынуждены платить страшные налоги и подписываться на облигации госзайма. В стране начался голод. И запланированная в 1946 году отмена продовольственных карточек, была перенесена на следующий 1947 год.
В те голодные послевоенные, я помню, что самым страшным событием была потеря карточек. Карточки не восстанавливались и без них нужно было как-то жить целый месяц, чтобы в начале другого получить новые. А милиция обращения граждан об утрате карточек, не рассматривала. И талоны на хлеб и продовольственные карточки стали главной наживой, тех кто промышлял воровством.
И все же послевоенную Москву ждало два больших праздника – 800-летие города и 70-летие Иосифа Сталина. Оба они были отпразднованы торжественно, но без шика и блеска. И оба праздника широко освещали главные столичные газеты – «Правда», «Известия», «Труд» и др. Так же 19 марта 1946 года наш товарищ И. В. Сталин, кроме постов Генерального секретаря ВКП(б) и Верховного главнокомандующего вооруженными войсками СССР, занял пост председателя Совета Министров СССР. И об этом так же широко писалось в газетах и объявлялось по радио.
Наряду с этими событиями в послевоенной Москве, в магазинах все же стали появляться первые простые изделия ширпотреба: сковородки, кастрюли, чайники, майки, рубашки, ситцевые женские халаты – это были первые проблески мирной жизни. Все эти вещи, пока «выбрасывали» на прилавки магазинов в мизерных количествах, и их моментально раскупали.
Не спасала от голода даже коммерческая торговля, хоть цены на продовольственные товары и были снижены в феврале 46-го, практически наполовину. Но у людей просто не было денег.
Мы же с бабушкой, а она еще не работала, чтобы не умереть с голоду, активно продавали наши книги из папиной библиотеки. К середине сорок шестого, было продано почти все полное собрание «Издательства Academia». Это были весьма качественные книги с иллюстрациями. И, несмотря на безденежье москвичей, желающих купить у нас книги было немало. Вот такой был послевоенный парадокс.
А по карточкам мы практически ничего не получали. Нам конечно выдавали на хлебные талоны, как иждивенцам по 250 граммов хлеба. Но этой пайкой ты сыт не будешь. И нужно было хоть какие-то продукты покупать, если не в магазине, то хоть на рынке. Но в сорок шестом из-за неурожая и на рынках было пусто. А если колхозники и привозили что-то со своих участков на продажу, то цены были сумасшедшие.
В Москве карточки были хлебные, продовольственные и промтоварные. Причем выбрать можно было только один из трех вариантов продовольственной карточки. В продуктовой карточке были талоны на определенное количество граммов отдельных видов продуктов питания (мясо, рыба, макароны, крупу, жиры и др.) Но на деле было все иначе.
У нас были карточки хлебные и продуктовые. Хлебные мы отоваривали каждый день, или через день, иногда даже раз в два дня. А на продуктовые месячные карточки (на мясные талоны), выдавали яичный порошок, американские консервы, либо мясо крабов в железных банках. Их особенно было много - хоть завались! И крабы в банках пирамидами стояли в магазинах, но их никто не брал. Считалось, что это ненужный продукт. Иногда на мясные талоны можно было приобрести бульонные кости, тогда у нас был настоящий праздник. Бабушка готовила суп на мясном бульоне, в огромной кастрюле. И нам его хватало почти на неделю. Так мы и перебивались…
А ближе к концу 46-го бабушка устроилась работать по вольному найму, к родителям одного из моих одноклассников. Она стала помощником по хозяйству в семье Шаловых. Это была очень хорошая и интеллигентная семья. Отец, хозяин семейства, вернулся с фронта, был полковником – артиллеристом. Служил в Польских частях, командированный от нашего руководства, в дальнобойной артиллерии. Он был первоклассным специалистом, орденоносцем, и по возвращению с фронта, его тут же назначили Начальником Главного Управления Наркомата легкой промышленности, что располагался на Мясницкой улице. Их сын – Володя Шалов, и стал моим лучшим другом на долгие годы. Мы вместе гуляли и учились, вместе приходили из школы к Володе домой, где нас встречала моя бабушка, и конечно чем-то обязательно кормила.
Помню, что после Победы из Германии, наши демобилизованные солдаты начали привозить разные трофейные вещи: технику, фотоаппараты, радиоприемники, женское белье и другое. Весь этот дефицит продавался на Коптевском рынке, который находился в старом районе на севере Москвы. Тогда рынок был колхозным и представлял собой площадку под открытым небом, на которой и шла торговля. В те послевоенные годы – это был великий Коптевский рынок – недорогой и многолюдный. Но мы с бабушкой туда не ходили. На рынок мы ходили с Володей Шаловым. Ведь мой приятель был заядлым радиолюбителем, и мы с ним на рынке покупали радиодетали. Часами мы могли бродить по рядам в поисках нужных деталей, и мне это не надоедало. Напротив – мне все очень нравилось. И все было интересно!
• Голод в СССР 1946—1947 — массовый голод в СССР после окончания Великой Отечественной войны. В то же время с 16 сентября 1946 года Правительством СССР были установлены денежные компенсации населению в 100—110 рублей для средне - и низкодоходных категорий граждан (называвшиеся в народе «хлебной надбавкой»), Совет министров СССР 9 ноября 1946 г. принял постановление «О развертывании кооперативной торговли продовольствием и промышленными товарами и об увеличении производства продовольствия и товаров широкого народного потребления кооперативными организациями», чтобы улучшить положение граждан. Рыночная торговля занимала второе место по объёму товарооборота продовольственными товарами после снабжения по карточкам. (Материал из Википедии)
34 глава. "ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА!"
Закончился учебный год сорок шестого. Я окончил пятый класс с отличием и перешел в шестой. Начались долгожданные летние каникулы. Первым событием июня стало мое крещение. Да, да, именно – Крещение! Только моей бабушке могла прийти в голову такая светлая мысль – крестить пионера! Но пережив аресты родителей, эвакуацию, войну, она решила, что именно Бог и мой ангел хранитель, станут оберегать меня по жизни. Мы конечно рисковали. В школе могли узнать, и тогда первое, что я бы получил – это выговор. Второе - меня могли исключить из пионеров. Но все обошлось. Крестили меня летом в 1946 году, в церкви Богоявления в Елохове (ныне Елоховская церковь на Бауманской). Я окунался в купели и был весьма удивлен, что вместе со мной, крестилось очень много взрослых людей.
Помню, как после крещения ко мне подошел батюшка, отвел меня в сторону и тихо спросил:
- Скажи, отрок, а что ты знаешь про храм, в котором тебя сегодня крестили?
- Ничего, я ведь пионер, и в церкви первый раз, - признался я.
- Пионер – это хорошо. А вот послушай…, - и батюшка рассказал мне, что Елоховский кафедральный собор в Москве храм существовал еще с 30-х годов. Он не прекращал действовать даже после Октябрьской революции при Советской власти, несмотря на то, что в 1935 году в здании собора хотели открыть кинотеатр, а в 1936 его хотели снести «в связи с реконструкцией Елоховской площади». Но к счастью этого не произошло. И собор стал главной церковью страны, где служили службы патриархи, митрополиты, епископы. Во время войны собор был заминирован, чтобы фашисты не смогли над ним надругаться, если войдут в Москву. В первые дни нападения фашистами на Советский Союз, был проведен молебен о победе над врагами. Народ пришел со всей Москвы! Тогда же православные были призваны защитить свое Отечество. Также, во время войны здесь собирали пожертвования для обороны Москвы и других нужд, потому что благотворительность всегда была важным делом нашего храма. А в тяжелые годы – особенно!
Я слушал не перебивая и с интересом. А потом батюшка перекрестил меня и сказал: «Ну, иди с Богом! И помни о своем новом рождении. Только всем рассказывать об этом не обязательно….» Сказал, благословил и исчез за резными дверями Елоховского алтаря. Я оглянулся и увидел не далеко стоявшую бабушку, она подошла ко мне и улыбаясь прошептала:
- Поздравляю, деточка! - и мы отправились домой.
А время не стояло на месте, и ближе к концу года 1946 года в нашей семье произошли перемены. Восемнадцатого сентября моя мама родила дочку, и теперь у меня появилась младшая сестра Зина. Жизнь продолжалась. Моя мать воспитывала дочь и с 1947 года работала в узбекском музыкальном театре имени Мукими, а мы по-прежнему оставались в Москве. Я учился, бабушка работала. Шло время.
И где-то в этот же период нашей жизни, как из ниоткуда, как из забытья и долгого молчания, к нам с бабушкой в гости пришли наши родственники по линии папы. Именно те, которые в 1937 голу, после ареста моего отца, отвернулись от нас и прекратили общаться. Прошло почти десять лет, и вот они снова, как и тогда, когда праздновали мой день рождения, стоят на пороге – моя двоюродная тетя Евгения Мироновна и ее муж, мой дядя Леонид Исаакович Потиевские.
- Здравствуйте, Екатерина Лукьяновна…Это мы… Можно? – с замиранием в сердце произнесла Евгения Мироновна, но увидев улыбающуюся бабушку, перешагнула через порог. Они обнялись и заплакали.
- Здравствуйте, пропащие…, - без капли обиды и упрека, ласково сказала бабушка, - Вот ведь какая нечаянная радость! Проходите, будем пить чай!
- Мы пришли узнать живы ли вы? Вернулись ли из эвакуации? И нужна ли вам помощь? В Москве-то ведь голодно…
- Живы с Божией помощью…А вы почему без Володи? – поинтересовалась бабушка.
- А Володеньки больше с нами нет, - ответил Леонид Исаакович, и в комнате воцарилась гробовая тишина. Было слышно, как на кухне с ревом грохотали примусы, кто-то разговаривал по телефону в коридоре, звонко кричали ребята во дворе… Я невольно вспомнил свой день рождения, и как мне, четырехлетнему мальчику, мой троюродный брат Володя Потиевский подарил «Полный набор химикатов» для опытов «юному химику». Ох, и смеялись над ним взрослые…Как же это было давно. А теперь говорят, что его нет…Как это?
- С 21 июня на 22-е 1941 года, мы вместе с Володей были у него на выпускном балу в школе. Вечер был чудесный…, - с горечью и грустью начала свой рассказ Евгения Мироновна, - Володя строил планы, как все его одноклассники, куда будет поступать. Они гуляли до рассвета. А в двенадцать часов дня мы узнали, что началась война. Буквально через неделю, в последних числах июня, наш сын одел солдатскую гимнастерку…, - и тетя Женя закрыла лицо руками.
- Через месяц мы получили конверт с коротким сообщением, буквально пять слов: «Ваш сын пропал без вести…» И наша жизнь разделилась на до…., и после…., - тяжело продолжил рассказывать дядя Лёня, - Поначалу ждали и надеялись. Но мы не знали где он воевал, куда его отправили, что произошло? Ничего…А немцы тогда пёрли вперед со страшной силой. И потери были колоссальные. Вот был человек, а вот его и нет… И спросить не у кого.
- Так, вот, теперь и живем вдвоем уже почти пять лет, - теребя платочек в руках продолжила тетя Женя, - В начале войны мы были эвакуированы с Наркоматом боеприпасов на Урал в Челябинск. И пережили и холод, и голод, и потерю сына…Хотя это пережить невозможно.
- Да… Вот и нашу семью война не обошла стороною, - качая головою прошептала бабушка, - Крепитесь мои хорошие, и помните, что у вас есть мы. Ведь и мы с Вадиком много пережили: о его отце, твоем двоюродном брате – Абраме Михайловиче, до сих пор ничего не знаем. Да и Ниночка, моя дочь, освободилась из лагеря только в декабре 1945 года.
- Бедная Нина… сколько же ей пришлось пережить. Спасибо вам, что вы есть! Разрешите вас навещать и немного вам, Екатерина Лукьяновна, помогать растить нашего племянника, нашего Вадика, - сказал Леонид Исаакович.
- Что ж, мы не против! – ответила бабушка, и они стали решать, что мне необходимо купить на новый учебный год. И учитывая, что в магазинах ничего не было, и все было сплошным дефицитом, а я как назло из всего вырос, а денег нам хватало едва на продукты, то их предложение было, как никогда кстати. А потом весь вечер бабушка рассказывала, как мы жили в эвакуации, как ждали писем от мамы из Карлага, и как радовались ее освобождению.
Позже Потиевские сдержали свое обещание, и в 1947 году, купили мне новый школьный костюм. Также отдали многие вещи моего троюродного брата, которые я с удовольствием одевал. Помню, как я долго носил его демисезонное пальто, такое серое в рубчик. И вообще, мои тетя и дядя стали постоянно присутствовать в нашей, и особенно в моей жизни. И всячески нам помогать. Вот так горе, вновь объединило нашу семью.
Тем временем, к концу 1940-х сделано было многое. Москва потихоньку отстраивалась. В городе восстанавливалось производство гражданских товаров и Москва подтвердила свой статус столицы СССР. На прилавках постепенно появлялись предметы широкого спроса, дефицит которых в первые послевоенные годы так расстраивал жителей столицы. В 1947-м наконец-то отменили продуктовые карточки и провели денежную реформу. А потом регулярно понижали цены. В общем, жизнь налаживалась и можно было жить, пусть и без шика. А перед нами открывали свои двери клубы и кинотеатры, библиотеки, парки отдыха и стадионы. Энтузиазм был главной приметой того времени. Все боролись за звание «лучшего»: «лучший продавец», «лучший строитель», «лучший тракторист», «лучший шахтер» «лучший дворник». Даже в школе мы боролись за звание: «лучший пионер», «лучший класс», «лучший председатель совета отряда» и т.д.
• В СССР карточное распределение продовольствия было введено с июля 1941 года, отменено в декабре 1947 года. Одновременно была проведена денежная реформа в форме деноминации с конфискацией. В ходе реформы обмен наличных денег проводился в течение одной недели, в отдалённых районах Крайнего Севера — в течение двух недель. Материал из Википедии.)
35 глава. "ПОСЛЕВОЕННЫЙ ТАШКЕНТ! или ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА!"
Произошедшая денежная реформа и отмена карточной системы в 1947 году, дала возможность людям снова ездить по всей стране, не опасаясь за неотоваренные продуктовые карточки по месту жительства. И в 1948 году мы с бабушкой впервые решили поехать к маме в Ташкент.
Поезда туда ходили долго и очень медленно. И все было довольно сложно. Но разве удержишь мать – бабушку Екатерину Лукьяновну, которая решила, что нужно ехать к дочке – моей маме. Тем более, что после освобождения, мама стала писать нам чаще, и письма приходили от нее регулярно – одно письмо в неделю. Мы переписывались три года, прежде чем смогли впервые увидеться после последней нашей встречи в Сегежлаге, накануне войны. Мама прислала нам деньги из Ташкента на билеты «туда и обратно», бабушка забронировала билеты, и мы начали собираться. Это мамин второй муж Мани Намати оплатил нам дорогу, так как с уважением относился к маминым родственникам, то есть к нам.
Из Москвы в Ташкент мы ехали почти четверо суток. Билеты взяли в жесткий вагон в плацкарт, и ехали уже четко на тех местах, которые были указаны на билетах. В гости к маме, мы отправились в середине июня, когда у меня в школе начались летние каникулы, а вернулись в начале августа. Это наше первое путешествие из Москвы в Ташкент, я запомнил на всю жизнь. А город нас встретил радушно и гостеприимно. И получилось настоящее пятидневное путешествие и незабываемая встреча с мамой и сестренкой.
Прибыли мы в Ташкент уставшие, но счастливые. На пыльном и грязном перроне встречала нас мама. Мы бросились друг на друга, обнимались, целовались и даже немного плакали. Но это были слезы радости:
- Вадим, сынок! Как ты вырос! Тебя и не узнать. Длинный и худой! – повторяла мама снова и снова, обнимая и целуя меня.
- Да, я ведь пионер и окончил седьмой класс! – гордо отвечал я матери.
- Мам…, а как его в пионеры-то приняли? С такими обстоятельствами? – не понимая, спросила моя мама бабушку.
- Ниночка, а никто ничего не знает, и не спрашивает. Официально, я его опекун вот уже десять лет. А когда вернулись из эвакуации в Москву, то еще шла война, и лишних вопросов никто не задавал, да и мы сами, ничего не рассказывали. Говорили, как и раньше : «отец умер, мать уехала».
- Понятно… Повезло тебе сынок. Бабушка спасла тебя, - ласково посмотрев на меня сказала мама.
- Я его…, а он меня… спас, - вздыхая сказала бабушка, -Трудно представить, как бы я выжила, если бы не Вадик.
- Да… Но теперь мы все вместе, и это счастье! Едемте скорее домой, - сказала мама и взяв чемоданы, мы пошли по перрону.
Очень странно, но я совершенно не помню вокзал. Даже внешний вид его не сохранился в моей памяти. А вот кого я хорошо запомнил, так это ушастого и кричащего осла! Да, да, именно на местном ишаке мы и поехали с вокзала домой к маме. Дело в том, что в послевоенном Ташкенте, запряженные ишаки в тележки – это было основное средство передвижения. В тележке могли запросто разместиться три или четыре человека, поэтому мы легко все поместились. Мама жила в Ташкенте в старом городе, в районе Комсомольского озера на улице Беш-Агач, по которой ходил трамвай состоящий всего из одного вагона, по одноколейному пути. Это от вокзала недалеко, и мы быстро туда доехали. Я помню одни до бесконечности длинные глиняные заборы, пыль, грязь, высокие тополя и зелень, только за заборами во дворах.
А вот и мамин дом. Мы вошли во внутрь и обалдели… Пол был земляной, стены глинобитные и никаких обоев, а потолки высокие и тоже глиняные. Все это нехитрое жилище было из самана (глина с соломой высушенная на солнце). Комната была довольно большая, с окнами, которые все выходили во двор.
Во дворе была пристройка, кухня, и низкая кирпичная, обмазанная глиной печь – тандыр, в ней местные жители пекли лепешки, самсу… Но во дворе у мамы лепешки никто не пек, хоть и печь была. Мы их попросту покупали. И аромат горячей узбекской лепешки забыть невозможно. Ведь в послевоенной голодной Москве, мы хлеба-то вдоволь не ели, а тут – настоящие лепешки! Это было объедение!
Но вот, то, что по настоящему меня удивило с непривычки в ташкентском жилище , так это восточный – туалет! Обычная пристройка в углу двора без крыши, с дыркой по середине, чтоб сидеть на корточках, а у стенки – ведро, полное круглых глиняных камней. После первого посещения этого уединенного места я пришел к маме и спросил:
- Мам.., а зачем в туалете, камни-то лежат?
- Понимаешь ли, Вадик! Местные жители их используют вместо бумаги, - ответила мама.
- Как это? – недоумевал я, - Разве это удобно?
- Не знаю сынок..., - ответила мама, и мы громко рассмеялись! Потому что нам это было не понятно, хотя обычаи народов у всех свои, и их нужно уважать. И если у русских в туалетах на гвоздике висели обрывки газет или листки из школьных тетрадей, то у узбеков, вот, камни использовались для этой нужды… Интересно и смешно! И я стал тоже притаскивать с собой что-то попривычнее для этого ответственного дела. А камни так и оставались стоять в ведре.
А еще, просыпаясь утром, я мог спокойно обнаружить у себя в постели скорпиона. Надо признаться, что в Ташкенте, это было нормальным явлением и жители на них не обращали внимания, мне же было страшно и не приятно.
Так шел день за днем… Моя младшая сестренка Зинка, была маленькой и горластой. Она постоянно орала, и ей постоянно было что-то надо. И моя мама, и моя бабушка, крутились вокруг нее, как заводные целый день. Я же, что бы не путаться под ногами, и не мешаться, мчался купаться на Комсомольское озеро, где и проводил время с утра и до вечера.
Пейзаж города, по улицам которого я ходил, меня конечно поражал. Все улицы послевоенного Ташкента представляли из себя глинобитные извилины безумного лабиринта, где с раннего утра под звяканье бидонов выпевал густой голос молочницы: «Моль-лё-коу! Кислий-пресный моль-лё-коу!»…Ей вторил другой голос: «Ляпье-шка! Голячий ляпье-шка!» Чуть позже раздавалось шарканье калош, и звучал зычный голос старьевщика. А в полдень появлялись стекольщик и точильщик – каждый со своей поклажей, и тоже что-то выкрикивали. Ближе к вечеру, в лучах уходящего солнца, приезжал старый узбек на тележке, запряженной осликом: - «Джя-аренный-кок-руз!» И местные ребятишки мчались по домам выклянчивать у родителей гривенник на белый рассыпчатый шар жаренной кукурузы. И мама с бабушкой постоянно покупали для Зинки коровье молоко, а мне эту сладкую и очень сытную кукурузу.
А еще я помню восточный базар. Яркий, шумный, большой. Запах патоки и пряностей наполнял воздух. А сколько там продавалось фруктов! В Москве, я никогда не видел такого изобилия. Знаменитая толкучка, так называли восточный базар в Ташкенте, был на Тезяковой даче. Вроде был такой купец до революции – Тезяков. На «Тезяковку» ходил десятый трамвай, по воскресеньям набитый до беспредела, когда тебя вносят и выносят из трамвая на чьих-то плечах. Поэтому меня никогда не пускали туда одного, и мы с бабушкой ездили на Тезяковкую толкучку, исключительно в будние дни, за мясом, фруктами и зеленью.
Маминого второго мужа Мани Намати, в течении того времени, что мы жили в Ташкенте, видели от силы три раза. Он много и долго работал, уезжал в длительные командировки, и редко бывал дома. Кем работал мамин второй муж, я точно не знаю. Слышал только, что он был каким-то большим начальником по снабжению. Однажды, мы все были приглашены в гости к его родителям, где собрались и его ближайшие родственники. Нас достойно встретили, угощали, но все же чувствовался их холод и безразличие к моей маме. Было видно, что они не одобряли выбор своего сына. Собственно они и не скрывали того, что на русской ему не стоило жениться: «она все равно нам чужая, хоть теперь и твоя жена» - говорили они ему.
Сначала, я не понимал, зачем мама вышла замуж за этого дядьку? Зачем появилась эта Зинка? Ну, разве ей меня и бабушки мало? Но чем больше я находился в Ташкенте, тем больше понимал, что это мамино стремление к женскому счастью, ответ всем тем и тому, что у нее отняли, и на то, что ей пришлось пережить. Она словно говорила: «А я буду счастливой!» Мне было уже четырнадцать, и я все прекрасно понимал. Ведь дети и подростки, гораздо проницательнее взрослых, которые прошли аресты, ссылки и лагеря.
А моя мама в 1948 году, когда мы к ней приехали, уже работала концертмейстером в Государственном театре оперы и балета имени Алишера Навои. Не часто, но она меня все же брала с собой на работу. Помню, как я сидел в оркестровой яме и смотрел какой-то музыкальный спектакль, увы, но названия не помню. Мне дали большой табурет, и сказали: «Сиди, смотри, но только - ни звука!» И я весь спектакль, как зачарованный смотрел на сцену, не проронив ни одного слова. Более того, я боялся даже громко дышать. Но опера в двух действиях, которую я смотрел впервые, мне очень понравилась. И сидящая за роялем мама, мне тоже очень нравилась.
Хотя я слышал, что, люди которые вернулись от туда… сильно меняются. Я же, при встрече с мамой ничего не заметил. Единственное, что бросилось в глаза, это то, что мама редко улыбалась. Когда мне было четыре с половиной года, я помню ее постоянно смеющейся и всегда улыбающейся. Теперь она больше молчала. Но не смотря ни на что, она не сломалась, а стала серьезной и сдержанной. И лишь маленькая Зинка, делала ее уязвимой, и в ней снова оживала та мама, та женщина, которую я помню с детства. Она не жаловалась, и ничего не рассказывала о пережитом в лагере, словно ничего и не было. Она как будто вычеркнула эти восемь лет лагерей, восемь лет разлуки со мной и с бабушкой. И начала все с начала.
Помню, как однажды, придя с озера я услышал ее разговор с бабушкой:
- Ниночка, дочка, в 1939 году мы получили от тебя коротенькое письмо. Как тебе его удалось отправить? – спрашивала бабушка.
- О! Это было сложно… Мы, осужденные и отчаявшиеся женщины ЧСИР, которых гнали по этапу неизвестно куда, наши письма написанные огрызком химического карандаша на крошечных клочках бумаги, выбрасывали из окон теплушек на рельсы. С надеждой, что кто-нибудь их подберет, прочитает и по адресу на записке, отправит домой нашим близким. Но гарантий никакой не было…
- Так и получилось. Твое письмо положили в наш почтовый ящик. Это был простой серый конверт, на котором был только наш домашний адрес. А в нем коротенькая записка от тебя.
- Да, точно. Это я писала….
- Помоги Господи тем людям, которые сделали такое благое дело, - со слезами на глазах произнесла бабушка, и увидев меня, тут же сменила тему разговора. И они защебетали о том, как приготовить настоящий узбекский плов. Я же, все понял и ничего не стал спрашивать, ведь это уже было в прошлом, и жизнь продолжалась…
Незаметно пролетело время. И мы вернулись с бабушкой из Ташкента в Москву. И жизнь покатилась по обычному сценарию. Бабушка работала кассиром в Домниковских банях, а я продолжал учиться в школе, переходя из одного класса в другой… Взрослея и набираясь ума в настоящем мужском коллективе.
36 глава. "ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ!"
У каждого человека школьные годы – это радость открытий и свершений! А для нас, мальчишек на чью долю выпали и бомбежки, и голод, и эвакуация, и потеря близких – особая часть нашей послевоенной жизни.
Помню, как сдав одиннадцать экзаменов за седьмой класс, а в то время именно столько и сдавали - мы перешли в восьмой класс. Но тут произошла перегруппировка. Вместо трех седьмых классов осталось два восьмых. И я, как и несколько моих друзей оказались в восьмом «А». Новый коллектив сложился довольно быстро! Нам дали нового классного руководителя. Ею стала учительница немецкого языка Елена Григорьевна Арзуманова. За наш класс она болела всей душой и знала все о каждом из нас.
Преподавая ненавистный немецкий язык, она сделал так, что вскоре, мы его полюбили и он стал нашим любимым предметом. В десятом классе мы так навострились во всех правилах этого языка (а их, как известно не мало), что нам, по словам Елены Григорьевны, не хватало лишь двух-недельной поездки в ГДР, что бы отточить свои знания в «атмосфере языка».
Химию у нас преподавал Николай Георгиевич Соловьев – автор «Учебника неорганической химии» для средней школы. По характеру наш химик, был довольно крут и даже бывал злопамятен, если его сильно разозлить. Помню, как после конфликта с ним, бедный Юлик Юсфин вынужден был в десятом классе пересдавать химию за девятый, чтобы получить золотую медаль, - по остальным предметам у него были круглые пятёрки.
А вот математику в восьмых – десятых классах преподавала нам Софья Александровна Вокач, и свой предмет она знала блестяще! Это была строгая, независимая и принципиальная женщина. Она ходила всегда с короткой стрижкой и в туфлях на низком каблуке. Помню, что в тогдашней школьной программе основы тригонометрии проходили в третей и четвертой четвертях десятого класса. Мы же начали знакомится с тригонометрией уже в первой четверти восьмого класса, а к концу десятого щелкали как орешки сложнейшие примеры и задачи.
Но нашим любимцем и самым уважаемым преподавателем был директор нашей школы № 265 - Николай Семенович Лукин. Это был человек с абсолютным авторитетом как среди учеников, так и среди учителей. В десятом классе он преподавал нам психологию и логику – были тогда в программе такие интересные предметы. Николай Семенович мог задать нам сочинение на тему «Что я думаю о своих учителях» - и у нас была стопроцентная уверенность, что об этом никто не узнает.
Однажды, мы с моим дружком Володькой Шаловым, напроказничали на уроке истории. В те годы мы с ним особенно увлекались разными опытами по радио и электричеству. Нас так и называли – «специалисты-радиолюбители». Мы пристроили под партами два зуммера и их попеременным гудением довели учителя Александра Николаевича, до истерики. Тот выскочил из класса и через несколько минут вернулся с директором. В классе тут же пронеслось: - Ну, радиолюбители, держитесь!» Мы же с Володькой успели уничтожить все следы своего хитроумного изобретения, и с самыми невинными лицами сидели за партами. Николай Семенович сначала стал успокаивать историка: - «Александр Николаевич, не переживайте и идите отдыхать. Я сам доведу за вас урок». Кода тот вышел из класса и шаги его затихли в коридоре, директор подошел к нам. У меня все внутри оборвалось. У Володьки из кармана предательски торчал конец провода. Директор тяжелым взглядом оглядел весь класс и сказал:
- У вас совесть есть? Он же участник войны, разве можно играть на его нервах…
Мы все молчали. Конечно нам было очень стыдно. Но после этого случая наши отношения, как не странно, изменились в лучшую сторону. Нам запомнилось, что он нас не выдал. И за это мы его стали уважать еще больше.
А спустя годы, наш директор обычной средней школы Николай Семенович Лукин, получил ученую степень кандидата педагогических наук. И создание блестящего коллектива учителей в нашей школе № 265, несомненно было его личной заслугой.
Я же в 1951 году закончил школу с серебряной медалью, не дотянув немного до золотой. Но таким как я, в то время, золотые медали было не принято давать. И я от всего сердца радовался своему заслуженному серебру! А школьные годы у всех складываются по разному. Но для каждого они по-своему дороги. И нельзя понять, почему человек стал тем или иным, если не заглянуть в годы детства и юности.
А время стремительно летело вперед! И после окончания школы трое человек из нашего десятого «А» поступили в Московский институт стали и сплавов (МИСиС). Это был я, Юрка Каменский и Юлик Юсфин. Так мы и прошагали вместе, с первого до последнего курса, плечо к плечу до защиты дипломов.
37 глава. "СМЕРТЬ СТАЛИНА.., или В ПРЕДДВЕРИИ 56-го!"
Все это было потом, а пока на дворе стоял 1953 год. И наша троица Каменский, Юсфин и я – Граник, грызли гранит науки в институте стали и сплавов (МИСиС) на втором курсе. В нашей студенческой группе оказались одни мужчины - двадцать два человека, ведь чисто мужской была и наша профессия. Обычные десятиклассники, как мы, и демобилизованные из армии, намного старше нас мужики, бывшие фронтовики и военнослужащие. Я думаю, что годы учебы в мужской школе и в мужской институтской группе наложили определенный отпечаток на формирование наших характеров. Во всяком случае, понятие мужской дружбы, товарищеской спайки и взаимовыручки ценилось у нас высоко и в школе, и в институте. Дисциплина в группе была железная и занятия практически никто и никогда не пропускал. И даже в тот печальный день…6 марта пятьдесят третьего… Наша группа была в полном составе…
Помню мой день, как всегда начался обычно. Зазвенел будильник, я лениво потянулся в кровати во весь свой рост, и открыл глаза. Из окна падал тусклый серый мартовский свет. Я лежал и ждал, когда заиграет радио. И вот ровно в 6.00 утра зазвучал гимн! Я встал и начал одеваться. Все как всегда. Пора умываться, завтракать и ехать в институт. Открылась дверь и вошла бабушка:
- Вадик, деточка, ты встал? – тихо спросила она.
- Ну, какая я тебе деточка? Мне уже девятнадцать! -- успел я ответить, и мы замерли. Бой курантов и голос Левитана зазвучал с душераздирающим трагизмом:
«Говорит Москва. От Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совета Министров Союза ССР и Президиума Верховного Совета СССР ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза.
Дорогие товарищи и друзья! Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Председатель Совета Министров Союза ССР и Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.
Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя Коммунистической партии и советского народа - Иосифа Виссарионовича Сталина»
Как вскопанные мы прослушали сообщение. Я молча сел на кровать. Стояла звенящая тишина. Кто-то постучал в дверь, и вошла соседка держась за сердце:
- Вы слышали? Сталин умер! Горе-то какое…. Как же мы без Сталина? - слёзы текли по ее лицу.
Да, несомненно мы слышали… И несомненно для всей страны, и всего народа, произошедшее было настоящим горем. Но сказать, что мы ничего не знали, я не могу. Еще 4 марта нас, Советских граждан известили о болезни генерального секретаря. В газетах и по радио сообщили о его состоянии здоровья. Тем временем, как потом мы узнали, Сталину становилось все хуже. И страну начали готовить к его смерти. В регулярно передаваемых по радио каждые несколько часов бюллетенях о его здоровье, не скрывалось крайне тяжелое и практически безнадежное состояние нашего вождя. И с замиранием сердца мы прослушивали эти сообщения в институте, дома, на улицах и из громко говорителей, понимая и осознавая всю неизбежность случившегося.
Сталина же вживую фактически никто не видел, если не считать тех двух-трех минут, в течение которых москвичи могли взглянуть на него во время первомайской или ноябрьской демонстрации. Помню, как в конце первого курса в 1952 году, после первомайской демонстрации, мы спросили старшекурсников, которые шли в праздничной колонне от нашего института по Красной площади:
- Парни, Сталина видели?
- Да! Конечно! – с гордостью, хором ответили они.
- А какой он?! - интересовались и не успокаивались мы.
- Э…….такой, - повисло в воздухе, - В серой шинели…рукой махал с трибуны мавзолея, - туманно и очень расплывчато ответили нам старшекурсники. Но сама радость от участия в общем параде, на котором присутствовали они и он, - Сталин – уже было огромным событием! Поэтому все были горды и счастливы. А по настоящему, вождя всех народов люди знали исключительно по портретам, висевшим повсюду, и по фотографиям с трубкой. С детства мы росли в такой атмосфере: «великий Сталин», «Сталин - это Ленин сегодня», «вождь трудящихся всего мира», «отец и учитель». Это была данность, и так сложилось, что во главе нашего народа стоял, как нам говорили – мудрый и гениальный вождь. Это нам внушали и пропагандировали.
Помню, как у нас в школе ребята из младших классов, пели на концертах песню о Сталине, на слова А. Суркова, музыку М. Блантер:
«Сталин - наша слава боевая,
Сталин - нашей юности полет.
С песнями борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет»…
И дальше - «Сталинской улыбкой согрета, радуется наша детвора. Сталинским обильным урожаем, ширятся колхозные поля». Так же каждый день мы слышали, как концерты по заявкам радиослушателей неизменно начинались - по их просьбе, разумеется, - с песни И. Дунаевского и М. Инюшкина: «О Сталине мудром, родном и любимом чудесные песни слагает народ». Жизнь без Сталина казалась просто немыслимой. Кругом был он…
И вот - Сталина умер, и вот – Сталина нет. Что нас ждет? Как мы будем жить? Кто вместо него? Что будет со страной? Все растеряны…Страх и непонимание. И это для всех было главным.
Я же к личности Сталина относился спокойно и сдержанно. В моем отношении к нашему вождю, в мои девятнадцать, у меня не было ни восхищения, ни осуждения. Я его принимал, как реальный факт, и не более.
О чем думала моя бабушка – я не знал. Она молчала сначала, она молчала и потом. И тогда, я её спросил:
- Баб, Кать… Слушай, ну может быть нам на похороны пойти?
- Ты знаешь, нет.., я не пойду. И тебе может быть не стоит ходить..., - твердо ответила она.
- Тебе что, его не жалко? – поинтересовался я.
- Жалко…, ведь человек умер, - и она сказала это с такой печалью и болью, что больше я не решился о чем-либо её спрашивать.
В нашей коммунальной квартире стояла гробовая, и даже звенящая тишина. Никто не митинговал и ничего не обсуждал. Лишь изредка появлялись в коридоре и на кухне женщины, заплаканные и с сильным запахом валерианы. А как же не плакать? Умер ведь Сталин, и как нам говорили: «Самый дорогой человек, - это кто? Дедушка Ленин, и отец родной – Сталин!» Поэтому и плакали. Вся страна плакала.
С такой же звенящей тишиной я столкнулся и в институте. Когда приехал 6 марта на занятия, то в холле уже висел огромный портрет вождя с черной траурной лентой, а под ним - букет красных гвоздик. И студенты, и преподаватели молча стояли у портрета, и так же молча расходились по аудиториям. Лишь чьи-то всхлипывания нарушали эту жуткую тишину, и напоминали о всеобщем и всенародном горе. Но занятия в тот день отменены не были, и шли по расписанию.
А дальше, события развивались еще с большим трагизмом… В этот же день – 6 марта, гроб с телом Сталина для прощания был выставлен в Колонном зале Дома союзов. Маршрут желающих проститься с вождем, пролегал по Бульварному кольцу через Трубную площадь к Пушкинской площади, и далее по Пушкинской и Горьковской улицам (ныне улицы Большая Дмитровка и Тверская) к Колонному залу на Охотном ряду.
И случилось непоправимое… 7 марта двери Колонного зала были закрыты для обычных людей. Проститься с вождем пропускали только официальных лиц и делегации. Народ же, что бы попасть в Колонный зал, был вынужден ждать своей очереди целые сутки в гигантской очереди. И в воскресенье вечером 8 марта (Международный женский день, который впервые не отмечался) наплыв людей настолько увеличился, что произошла катастрофа! В районе Трубной площади возникла давка, и погибли тысячи людей.
Помню, как вечером я приехал из института, завернул к нам во двор на Домниковке, и дойдя до подъезда увидел собравшихся соседей, которые что-то горячо обсуждали:
- Вы слыхали, что произошло на Трубной площади? Говорят там столько людей полегло…
- Да не может быть… как такое могло произойти?
- Мало ему…так он и теперь не успокоился, с собой забрал столько народу…, - с горечью и досадой буркнул какой-то мужчина стоявший со всеми вместе, поднял воротник своего пальто, вжал голову и поспешил удалиться со двора.
Мы же, от услышанного, остались стоять как вкопанные. А вместе с нами стояли и слушали в своей неизменной позиции «ушки на макушке», и наши блюстители порядка – дворники.
- Кто это…? Вы его знаете? К кому приходил? – опираясь о свою большую метлу начала выспрашивать и дознаваться наша дворничиха. Но соседи лишь пожимали плечами:
- Первый раз видим…
- Да, кто его знает….?
- К кому-то приходил…
И все сразу стали расходиться. А дворничиха все кричала и кричала: «К кому? В какую квартиру?», но ее вопросы так и повисли в воздухе без ответа. Мне совсем стало не по себе и я отправился скорее домой. Поднимаясь по лестнице я думал: «Только бы никто из нашей группы туда не ходил!»
И так случилось, что никто из моих друзей, однокурсников, бывших одноклассников и просто хороших знакомых, не пошел на Трубную площадь. И все остались живы!
А уже через четыре месяца после похорон нашего вождя, товарищ Берия – друг и соратник Сталина, был объявлен шпионом, врагом народа. Арест Берия в конце июня 1953-го, стал громом среди ясного неба... Но прежде страна вновь пережила новое потрясение и испытания:
27 марта 1953 года был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии», благодаря которому на свободу вышли более одного миллиона заключенных…». В результате наша страна на долгие месяцы погрузилась в криминальный хаос...
Вы даже и представить себе не можете, что началось! Именно Лаврентий Берия, стал инициатором амнистии, убедив все правительство, что «из 2,5 миллионов заключенных ГУЛАГа лишь 220 тысяч человек являются особо опасными государственными преступниками». И остальных «не опасных», якобы, целесообразно было бы отпустить на волю, увеличив тем самым количество рабочих рук. Однако на политзаключенных, таких как моя мать, увы, но амнистия не распространялась. И на свободу вышла вся уголовная шушера – воры, мошенники, насильники, которые в свое время загремели за решетку на долгий срок. И давно соскучились по «настоящему делу».
Именно поэтому, весной-летом 1953 года весь этот поток криминальных «получеловеков» устремился в Москву, Ленинград, и другие города - в «хлебные» места, где проживали обеспеченные горожане. Наша Домниковка, улица, которая берет, как я уже рассказывал, свое начало от Садового кольца и заканчивается в районе трех вокзалов, в одночасье перестала быть спокойной. То и дело мы узнавали, что кого-то ограбили, зарезали, сбросили с электрички или с поезда. Ходить в одиночку по Домниковке по вечерам стало небезопасно. Потому что вести о погибших от рук бандитов, об убитых сотрудниках милиции с трех вокзалов - Ленинградского, Казанского и Ярославского, куда продолжали прибывать каждый день рецидивисты, вмиг разносились по всей округе. Порой было страшно даже нос на улицу показывать. Власти безусловно приняли меры… Но беды в то лето было много.
В каком-то смысле, именно эти события и сыграли свою трагическую роль для Берии, и это поразило людей еще больше, чем смерть Сталина. В декабре 1953 года сообщили о расстреле Берия. Никто еще не подозревал, что это был этап и первый шаг на пути к 1956 году, к развенчанию культа самого Сталина, и к огромным переменам…
В моей жизни кардинальные перемены тоже произошли в преддверии Нового 1956 года! Вообще, надо сказать, что именно уходящий старый год, для меня стал годом принятия важных решений, моего личностного становления, и взросления. 31 декабря 1955 года – я женился! В ЗАГС, который располагался недалеко от станции метро Автозаводская в Москве, мы с моей избранницей Галей, приехали на трамвае почти перед самым закрытием:
- Молодые люди, а вы куда? ЗАГС закрывается.., - сообщили нам.
- Жениться! – смеясь и хором, ответили мы с Галиной.
- Вы попозже не могли? Конец рабочего дня, на носу Новый год, - начала перечислять работница ЗАГСа.
- В том-то и дело, что Новый год! Вот мы и решили совместить два праздника! – на перебой начали мы объяснять, а женщина только качала головой и мило улыбалась.
- Ах, молодость…! Ну, что с вами делать? Давайте ваши паспорта….
И в 18.00 по московскому времени, нас расписали, вручив нам наш первый документ – «свидетельство о браке». Моей женой стала Галина Виннер, студентка Московского института стали и сплавов, где мы с ней вместе учились в параллельных группах и работали в комитете комсомола.
Свадьбу праздновали у моих родственников, двоюродной сестры моего отца Евгении Мироновны и Леонида Исааковича Потиевских, которые радушно распахнули двери соей квартиры. На нашей скромной свадьбе была моя бабушка Кити, родители Галины, Потиевские, подруга жены и два моих закадычных друга – Володя Шалов и Юрий Юсфин. Тетя Женя с бабушкой накрыли стол, и под крики «Горько!» мы практически встретили Новый 1956 год!
• Пугающие цифры Уголовная преступность в 1953 году по сравнению с предыдущим выросла более чем в 2 раза: с 153 199 до 347 134 правонарушений. К примеру, если в 1952 году в Ленинграде были зафиксированы 5945 преступлений, то в 1953 году их число выросло уже до 8065. В Москве количество криминогенных случаев увеличилось на 75%. (Источник: Амнистия 1953 года: самые шокирующие факты, © Русская Семерка russian7.ru)
38 глава. "XX СЪЕЗД ПАРТИИ..., или ВЕТЕР ПЕРЕМЕН…"
Шел 1956 год... Страна стояла на пороге перемен. С ареста моего отца прошло уже почти двадцать лет, а мы так ничего о нем еще и не знали…
В этом году я заканчивал институт по довольно редкой специальности: «Специальные металлы и сплавы для специальных отраслей техники». Москвичам хорошо знакомо большое современное здание Московского института стали и сплавов, возвышающееся в самом начале Ленинградского проспекта, неподалеку от станции метро «Октябрьская». Рядом с этим зданием из стекла и бетона как-то потерялось примыкающее к нему старинное пятиэтажное строение бывшей Московской горной академии, в стенах которого протекали мои пять студенческих лет. В наше время Горной академии уже не существовало – она распалась на три института. Каждый день толпа студентов, по утрам вливавшаяся через открытые ворота в большой широкий двор, затем делилась на три потока: прямо шли студенты горного института, влево уходили студенты нефтяного института, а правое крыло здания принимало нас, будущих металлургов. Наискосок вправо была большая арка, через нее вела дорога в отдельно стоящий лабораторный корпус.
В конце мая 56-го не покладая рук, я работал в институтской лаборатории на кафедре «Редких металлов и сплавов» над дипломной работой, по исследованию физико-химических свойств нового материала. И у меня не было ни одной свободной минуты.
Тут то и произошло событие, о котором я не могу не рассказать, потому что в СССР на долгие годы вперед начала действовать программа перемен под девизом «хрущевская оттепель». В стране 14 февраля 1956 года грянул XX съезд Коммунистической партии, который изменил взгляд советских граждан на многие вещи и события. А 25 февраля на закрытом заседании ХХ съезда КПСС прозвучал доклад Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях»:
«Сталин партию уничтожил. Не марксист он. Все святое стер, что есть в человеке, все своим капризам подчинял. Надо наметить линию, отвести Сталину свое место, почистить плакаты, литературу, взять Маркса, Ленина, усилить обстрел культа личности…» - из доклада Н.И. Хрущева.
На тот момент – это был секретный доклад Никиты Сергеевича, и его не сразу донесли до народа, а постепенно, только тогда, когда информация проскочила по волне «Голос Америки». И всем стало ясно, что больше скрывать нечего…
Помню, как где-то в последних числах мая в институте, на общем собрании, где присутствовали исключительно члены партии и комсомольцы, нам зачитывали основные тезисы из доклада Хрущева в котором он осуждал «культ личности Сталина». Я примчался из лаборатории запыхавшийся, и сразу заметил какая в зале стояла тишина, что если бы в тот момент пролетела муха, то было бы слышно, как она жужжит. Люди, которые верили в Сталина и кого не тронули репрессии, как мою семью, в услышанное не поверили и были просто в шоке. Они с удивлением переглядывались, пожимали плечами и качали головой. Но все же многие считали доклад справедливым и правильным. Народ разделился…
Я же отнесся к услышанному по-другому….скорее положительно, но как всегда спокойно и без лишних эмоций. Школа моей бабушки: - «Молчи, лишнего не говори и не высказывайся…» работала во мне, как хорошо отлаженный механизм. Все свои мыли, сомнения и другие эмоции я нес домой, туда, где можно было не опасаясь открыто говорить. Но опять же, только со своей бабушкой. А тогда…
В докладе была озвучена новая точка зрения на недавнее прошлое страны, с перечислением многочисленных фактов преступлений второй половины 1930-х - начала 1950-х, вина за которые возлагалась на Сталина. В докладе была также поднята проблема реабилитации партийных и военных деятелей, репрессированных при Сталине.
«Из ста тридцати девяти членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранных на XVII съезде, 70 % были арестованы и расстреляны. Число арестов и обвинений в контрреволюционных преступлениях выросло в 1937-м по сравнению с предыдущим годом более чем в десять раз. К этому времени после полного политического разгрома троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев Сталин полагал, что может теперь сам вершить все дела, а остальные нужны ему как статисты, всех других он держал в таком положении, что они должны были только слушать и восхвалять его». - из доклада Н.И. Хрущева.
С институтской трибуны впервые, мы услышали слова, которые раньше опасались произносить даже шепотом. В докладе Хрущев также обвинил Сталина в фальсификации уголовных дел 1937-м, пытках и истязаниях заключенных во время следствия, о грубых ошибках, допущенных накануне Великой Отечественной войны, и крупных поражениях армии в первые месяцы. Он рассуждал о сомнительных обстоятельствах убийства Кирова и намекал на то, что Сталин мог быть причастен к преступлению…и о многом другом, что поразило всех нас.
«Сталин был человек очень мнительный с болезненной подозрительностью, в чем мы убедились, работая вместе с ним. Везде и всюду видел врагов, шпионов. Имея неограниченную власть, допускал жестокий произвол, подавлял человека морально и физически. Создалась такая обстановка, при которой никто не мог проявить свою волю. Когда Сталин говорил, что такого-то надо арестовать, то следовало принимать на веру, что это враг народа». -из доклада Н.И. Хрущева.
Каждый зачитанный нам тезис из доклада Хрущева, хлестко бил по самолюбию тех, кто в это во все не верил, и получал молчаливое одобрение от тех, кто как я испытал все невзгоды репрессий.
Собрание закончилось. Молча весь студенческий народ разошелся по аудиториям. Отправились и мы, с моей женой Галей, я к своим приостановленным опытам, а она к своей дипломной работе. Ведь мы защищали дипломы в один год, и моя дипломная работа особенно требовала исключительной точности, и не терпела погрешности.
Придя домой из института, мы с Галиной подробно рассказали бабушке о произошедшем. Но из «народной молвы» она уже все знала. Однако внимательно и не перебивая нас выслушала, и с облегчением сказала:
- Правда все же есть на земле… Я знала, что справедливость восторжествует!
В письмах из Ташкента моя мама писала, что положительно оценивает доклад Хрущева и считает его своевременным и правильным. Мы с бабушкой стали внимательно следить за происходящим, читать множество газет и журналов, чтобы разбираться что к чему, и не пропустить что-то очень важное. Ведь у нас появилась надежда на реабилитацию мамы, и конечно отца, которого вот уже почти двадцать лет с нами не было. И что с ним случилось, мы тоже не знали. Но мы твердо верили, что он не виновен, и очень хотели вернуть ему его честное имя, даже если и посмертно.
• XX съезд Коммунистической партии Советского Союза состоялся в зале заседаний Верховного Совета РСФСР в Москве 14—25 февраля 1956 года. Наиболее известен осуждением культа личности и, косвенно, идеологического наследия Сталина. Главные события, сделавшие съезд знаменитым, произошли в последний день работы, 25 февраля, на закрытом утреннем заседании Н. С. Хрущёв выступил с закрытым докладом «О культе личности и его последствиях», который был посвящён осуждению культа личности И. В. Сталина. (Материал из Википедии – свободной энциклопедии)
39 глава. "ХРУЩЕВСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ.., или «ПАСПОРТ СВОБОДЫ!»"
1959 год в Москве – замечательное время «хрущёвской оттепели»! Наконец-то советские люди вдохнули воздух свободы полной грудью. Из всех окон звучала известная песня советских пионеров Владимира Георгиевича Шмидтгофа и Исаака Осиповича Дунаевского - «Эх, хорошо в стране советской жить! Эх, хорошо страной любимым быть!», как лозунг конца 50-х!
В это время в Москву из Ташкента каждое лето, приезжала Нина Борисовна со своей дочерью Зиной, погостить на два месяца к матери – Екатерине Лукьяновне и сыну Вадиму. И уже останавливалась не у своего братана Виктора Борисовича Красовского, как раньше, а на родной Домниковке, уже никого не боясь, и ничего не опасаясь.
Ведь это было уже другое время и другая Москва. Это было время, когда стояли толпы людей у входа на выставку достижений народного хозяйства. И время гигантских зигзагообразных очередей, в которых приходилось ждать часами, чтобы увидеть тела двух вождей мирового пролетариата – Ленина и Сталина.
Это было время, когда квас был разливным и его продавали прямо на улице из больших оранжево-коричневых бочек на колесах, на которых красовалась надпись - «Хлебный квас». Автоматы с газировкой стояли, как бравые солдаты на каждом углу магазинов и в парках столицы, а московское мороженое пломбир в шоколаде на палочке было главным лакомством москвичей. Уличная торговля книгами шла так бойко, что спокойно можно было сказать, что Москва – самый читающий город!
А еще это было время первых реабилитаций невинно осужденных людей в далеком 1937-ом. После ХХ съезда КПСС (февраль 1956 г.) процесс реабилитации жертв по политическим обвинениям 1930-х-1940-х - начала 1950-х годов стал проходить более интенсивно и был значительно упрощен. Но сказать, что народ ринулся оформлять реабилитации - нельзя. В стране этот процесс осуществлялся постепенно. Хотя мощный толчок реабилитации и дал доклад Хрущева посвященный «культу личности» Сталина.
В марте 56-го были созданы новые комиссии – на этот раз под эгидой Президиума Верховного Совета СССР. Они за полгода рассмотрели дела почти 177 тысяч человек, в том числе 81 тысячи человек, находившихся в лагерях. Параллельно с работой комиссий, активно процессом реабилитации занимались прокуратура и суды.
Но Нина Борисовна Искияева-Граник не спешила подавать документы на реабилитацию. Проживавшая в то время в Ташкенте, и работавшая в Ташкентской Государственной консерватории, в Ташкентском Государственном Академическом театре оперы и балета имени Алишера Навои – концертмейстером, и еще в музыкальном училище имени Хамсы – педагогом, она ждала удобного момента.
В Ташкенте, как и во всей стране уже знали о первых реабилитированных, но Нина считала, что ей еще не время этим заниматься. Она остерегалась действовать и выждала время. На работе о том, что она отбывала восемь лет в лагере, как член семьи изменника родина, она никогда и никому не рассказывала. Напротив, она была всегда весела и приветлива, мила и доброжелательна, готовая в любую минуту прийти на помощь. Никто и представить себе не мог, сколько этой интеллигентной, образованной, с хорошими манерами женщине, пришлось пережить и испытать. Шло время…
Нина Борисовна постоянно следила за всеми публикациями в газетах на эту тему. Ведь в Ташкент все новости доходили с опозданием. И поэтому она все узнавала через свою маму – Екатерину Лукьяновну. И в 1959 году Нина Борисовна решила обратиться в вышестоящие органы по вопросу реабилитации.
Но для этого нужно было ехать в Москву. И решено было совместить полезное с приятным, - сделать все дела в летние каникулы. И маму повидать, и сына навестить, и дочке Москву показать, и сделать неотложные и важные дела. Как всегда Нина с дочкой везли в Москву родственникам целые чемоданы фруктов: ароматные узбекские дыни и помидоры, сладкие персики и сливы. Бабушка Кити встретила свою внучку с радостью. А Нина Борисовна занялась своими неотложными делами.
И вот она стоит перед кабинетом военной прокуратуры, и обдумывает каждое слово, что скажет.
- Проходите…, - услышала она, открыла дверь и вошла в кабинет. За столом застеленным темно зеленым сукном, сидел военный следователь в строгом костюме, и что-то писал. Увидев Нину Борисовну, он кивнул головой и предложил ей сеть на стул. Но Нина осталась стоять.
- Здравствуйте, я по вопросу реабилитации…, - и она кратко рассказала свою историю. Человек не перебивая выслушал ее, отложил бумаги в сторону, и вдруг задал вопрос:
- А вы сами-то, чувствуете себя виноватой в чем-нибудь?
-За собой, я чувствую вину только в одном…, - сказала Нина Борисовна и на мгновение замолчала, а потом вздохнула и мужественно продолжила, - Что при трудоустройстве на работу в Ташкенте, я никому не рассказала о своем прошлом, и в анкете не указала, что отбывала восемь лет в исправительно-трудовых лагерях, как член семьи изменника родины.
- И правильно сделали, – услышала Нина и от изумления застыла на месте.
- Как это? А я думала, что это мой единственный грех…
- Это ваше единственно правильное решение. Вы спасли себя, вы спасли свою маленькую дочь и взрослого сына, потому что мог быть повторный арест. И тогда в лагерь вас отправили бы прямо с маленькой дочкой. Ведь вы не имели права на «чистый паспорт», как и проживать в Ташкенте, а только в области, не ближе чем за сто километров.
От услышанного у Нины Борисовны похолодело все внутри и сильно за пульсировала кровь в висках. Военный следователь заметил её испуг, и сказал:
- Успокойтесь. Все позади. Выпейте воды и идите с заявлением, в котором изложите все, что вы мне только что рассказали, к секретарю. Зарегистрируйте его и обязательно ждите вызова. Вас пригласят в Москву для получения документов.
- А когда это будет?
- После вашего заявления начнется юридическая реабилитация вас и вашего мужа – то есть процесс пересмотра следственных дел, - спокойно начал разъяснять следователь Нине Борисовне, - После чего вам выдадут «реабилитационную справку»; - официальный документ, удостоверяющий вашу невиновность и вашего мужа – А.М. Граника, ранее подвергшегося репрессии. Все понятно? Идите, пишите и ждите…
И 13 июля 1959 года Нина Борисовна Искияева-Граник написала заявление на реабилитацию:
«Главному военному прокурору от Граник Нины Борисовны (ныне Искияевой) родившейся 1905г., в г. Таганроге, русская. Проживающая в г. Ташкенте, по ул. Новой 3, кв45.
Заявление.
21 августа 1937г. в Москве, по Домниковской улице 6.кв16, был арестован мой муж Граник Абрам Михайлович, работавший в Наркомате Земледелия СССР.
21 декабря 1937г. была арестована я, как член семьи изменника родины, была изолирована в трудовые-исправительные лагеря сроком на 8 лет.
Я твердо убеждена в невиновности моего мужа, я прожила с ним 10 лет и знаю его как человека преданного партии и той работе на которую его посылали. Прошу пересмотреть мое дело и реабилитировать меня.
Н. Граник (Искияева)
13 июля 1959г. г. Москва»
И заявление с пометкой «Срочно запросить дело…» отправилось в работу…
Незаметно пролетело лето. Пора ехать домой. Но не успела Нина Борисовна вернуться с дочкой в Ташкент, как в сентябре ей пришел вызов из Москвы. И оформив на работе в срочном порядке трехдневный отпуск за свой счет, она отправилась в столицу. В Москве, осенью 1959, Нина Борисовна была совсем недолго, но эта короткая командировка стала самым важным событием для неё за последние двадцать лет!
Военным трибуналом московского военного округа, было установлено, что Н.Б. Граник была подвержена внесудебной репрессии, в связи с тем, что ее муж был осужден Военной Коллегией Верховного суда СССР за контрреволюционные преступления. И дело Нины Борисовны за отсутствием состава преступления было решено прекратить, т.к., ее супруг А.М. Граник, уже был реабилитирован посмертно. И ей на руки были выданы документы:
«Военный Трибунал Московского военного округа
9 сентября 1959г
№ н-1191
Москва Арбат – 37
Справка
Дело по обвинению Граник Нины Борисовны, 1905 года рождения, до ареста 21 декабря 1937 года работавшей пианисткой Мосгосэстрады и клуба Центрального Универмага Наркомвнуторга в г. Москве пересмотрено военным Трибуналом Московского военного округа, 3 сентября 1959 года.
Постановление от 9 февраля 1938 года в отношении Граник Н.Б. отменено и дело по ней прекращено за отсутствием состава преступления.
Зам. Председателя военного Трибунала
МВО полковник юстиции – Н. Гуринов
(гербовая печать военного Трибунала Московского военного округа)»
Для Нины Борисовны, эта справка о реабилитации стала настоящим «паспортом свободы», пропуском в светлое будущее, где нет обвинений, насилия, запретов, упреков и колючей проволоки. Вот оковы и спали! Но почему нет такой долгожданной радости? Может потому что груз пережитого еще давил, да и из памяти ничего не сотрешь. Невольно всплыли воспоминания, как темными холодными вечерами в Карлаге она, как и все другие женщины ждала, что вот-вот в барак кто-нибудь войдет и скажет: «Товарищи женщины, извините. Произошла ошибка и вы все не виновны…», но этого не происходило.
И вот теперь она стоит на улице и крепко сжимает маленькую дамскую сумочку – портмоне, где лежат два самых дорогих документа – справки о реабилитации её (от 9 сентября 1959 года № н-1191), и её мужа (от 28 сентября 1959 года №4н-2197/59), но домой идти не спешит. Нина смотрела на кремлевские звезды на Спасской башне и думала, что у нее есть еще одно очень важное дело, которое она не может не сделать. Очень давно, еще в 1953 году, когда умер Сталин, она дала себе слово, что как только её реабилитируют, она обязательно сходит в Мавзолей посмотреть на того человека, который по её мнению у нее отобрал счастье и восемь лет жизни – восемь лет свободы. И вот её реабилитировали, но как попасть в Мавзолей, миную километровую очередь? А очередь к Мавзолею действительно была чудовищная, и заканчивалась где-то в глубине Александровского сада, уже за Красной площадью, и так было всегда в советские годы. Люди со всего Советского союза приезжали и стояли по несколько часов, что бы попасть на минуту в Мавзолей и взглянуть на вождей пролетариата – Ленина и Сталина. У Нины Борисовны этого времени не было. Ей нужно было возвращаться в Ташкент.
И тогда Нина Борисовна обратилась за помощью к своим знакомым и друзьям. Ей нужен был специальный «Билет на посещение мавзолея В.И. Ленина и И.В. Сталина», имея который она могла попасть в Мавзолей без очереди. В конце 50-х, это очень практиковалось. Помог близкий друг и коллега Нины Борисовны по Ташкентской консерватории – Юрий Александрович Петров, известный дирижёр. Его приемный сын – Юрий Алексеев в то время работал директором Московского ипподрома, и безусловно имел возможность доставать дефицит, в том числе и разные билеты. Именно он, и достал приглашение на посещение Мавзолея, и Нина отправилась туда через специальный вход, где проходили все официальные лица и иностранные делегации.
И вот она в Мавзолеи. Холодно…Мрачно…Грустно…И ощущение, что здесь, под гранитными сводами, сосредоточилось все невидимое ЗЛО человечества. Нина Борисовна поспешила уйти. Она уходила с Красной площади осознавая, что поставила жирную точку в прошлом навсегда, и теперь ей хотелось жить, как никогда! Она с радостью возвращалась домой в Ташкент. На душе было легко и спокойно, словно с плеч свалился какой-то невидимый тяжелый груз. Дома ждала её дочь Зина. И накупив в Москве дочке ее любимых конфет, она спешила туда, где её любили, где она была нужна.
- Мама! – звонко закричала Зиночка и бросилась обнимать и целовать Нину, - А что ты мне привезла?
- Твои любимые конфеты – карамельки «Мечта» и суфле в шоколаде «Южная ночь»…, сладкоежка ты моя!
И Нина стала выкладывать из чемодана большие кульки с конфетами, мандаринами, и рассказывать, как съездила, кого видела, что передала бабушка Кити. Зине было интересно все:
- Мамочка, а еще где ты была в Москве, расскажи! – спрашивала и спрашивала Нину Борисовну её двенадцати летняя дочь.
- Знаешь доченька, в Москве я сделала одно очень важные дела, - серьезным голосом, вдруг ответила Нина Борисовна, и перестала разбирать гостинца.
- Какие? – интересовалась Зиночка.
- Получила важные документы, которые ждала восемь лет…
- И все? А еще что? – не успокаивалась девочка.
- Я ходила в Мавзолей посмотреть на того человека который отнял у меня эти восемь лет свободы…, - с грустью и досадой ответила Нина Борисовна.
В этот момент и Зиночка перестала шуршать фантиками от конфет, потому что заметила, как изменилось лицо матери. Ведь она была уже взрослой девочкой и о многом знала, и все понимала. Зина молча смотрела, а потом тихо произнесла:
- На Сталина…? Мам…, а зачем же ты плакала, когда он умер? Я же помню…, я тогда в детский садик ходила, и нам не разрешали играть и шуметь. Мы ходили на цыпочках, а наша нянечка вытирая слезы говорила: «Тихо деточки, Сталин умер…» - не понимала Зина.
- Я боялась, что к власти придет человек с которым будет еще хуже…, вот и плакала,- ответила Нина дочке.
- Понятно…А зачем в Мавзолей пошла?
- Посмотреть на Сталина, - повторила Нина Борисовна.
- Посмотрела?
- Да…, посмотрела и подумала: «Вот ты хотел всех нас сгноить в лагерях, а мы все живы! И будем жить!»
Позже Нина Борисовна написала заявление с просьбой вернуть ей конфискованные фотографии и компенсировать материальные убытки. И спустя какое-то время она получила пакет с фотографиями, и материальную компенсацию. Так же, 9 октября 1959 года ей пришла официальная бумага в которой извещалось:
«Свидетельство о смерти
№П. ТЮ – 061571
Гражданин Граник Абрам Михайлович умер 28 января 1937 года, о чем в книге записей актов гражданского состояния о смерти 1959 года октября месяца 5 числа произведена соответствующая запись за №203. Место смерти город Ташкент, район Октябрьский.
Место регистрации Уз ССР Октябрьского района ЗАГС г. Ташкент
9 октября 1959 года. Заведующий бюро записей актов гражданского состояния
Подпись… Гербовая печать… Загс г. Ташкент»»
Возник вопрос - откуда взялось такое непонятное официальное «свидетельство о смерти А.М. Граника»? Было понятно, что этот документ не отражает достоверность ситуации. И вопросов стало еще больше: «Где он похоронен?» и «Почему место смерти Ташкент?» Ведь арест и следствие проводились в Москве. Налицо была не состыковка и не доработка, но это было нормальным явлением для тех лет конца 50-х, и они встречались сплошь и рядом. Судя по тому, как велась отчетность в 30-е годы (везде и в НКВД тоже!) и насколько она могла соответствовать или не соответствовать действительности, на самом деле могло быть что угодно. Человек мог быть расстрелян, мог умереть по болезни, но не попасть как умерший в отчетность. И поэтому спустя двадцать лет, родственникам часто вручались просто отписки («свидетельство о смерти!») по их месту жительства, как Нине Борисовне в Ташкенте. Конторы, которые занимались выдачей документов посмертно реабилитированных, были завалены заявлениями, и попросту не справлялись, так как розысково-поисковую работу по каждому заявлению вести было некому, хоть этот процесс и был упрощен.
К концу 1961 года энергия реабилитационного процесса выдохлась. Политические задачи реабилитации, которые ставил перед собой Хрущев, в значительной степени были выполнены: стране и миру был продемонстрирован новый курс власти, решительно (по мнению Хрущева) разорвавший со сталинской репрессивной политикой. Символическим заключением этого этапа стал вынос тела Сталина из Мавзолея по решению ХХII Съезда КПСС от 30 октября 1961 г.
Так, постепенно и не спеша в годы «хрущёвской оттепели», в дом Граников вошла долгожданная реабилитация родителей Вадика. Обвинения со всех были сняты, но оставались вопросы. По-прежнему было не понятно и не известно - «За что? Почему? Что он – Абрам Михайлович Граник такого сделал? В чем его вина?» Но об этом еще предстояло узнать…
Шло время…
40 глава. "ОСОБЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК…"
Жизнь не стояла на месте. Один год, своим чередом сменял другой. На дворе уже был 1975 год… Новые пятилетки, новые лозунги: «Пятилетке качества – рабочую гарантию!», «Свети, как путеводная звезда, союз науки и труда!», «Наш девиз - эффективность, качество, темпы!» и «Даём сверх плана!» Да, мы жили в окружении лозунгов, кумачовых знамен и всеобщего перевыполнения плана. Но не смотря на лозунги, которые всегда куда-то нас призывали, а народ на них уже не обращал внимания, я пожалуй, скажу, что 70-е были самым безоблачным, самым «золотым» временем.
9 мая наша страна отпраздновала 30-летие Победы, и тогда это был один праздник для всех со слезами на глазах. В стране все кипело стройками, главной из которых была Байкало-Амурская магистраль. В апреле 1974 года БАМ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой и теперь туда отправлялись массы молодых людей, на все голоса распевая ставшую уже почти народной, песню группы «Самоцветы» на музыку З. Гринмана, слова В. Петрова - «Строим БАМ»:
Рельсы упрямо режут тайгу,
дерзко и прямо в зной и пургу,
Веселей, ребята, выпало нам
строить путь железный, а короче - БАМ.
Скалы и чащи - всё он пройдёт,
наш работящий, смелый народ,
Веселей, ребята, выпало нам
строить путь железный, а короче - БАМ.
В это светлое время «застоя» в стране, в нашей семье произошло большое событие. Мой самый главный человек, моя бабушка Катя или Кити, как ласково называли ее у нас в семье - праздновала свой юбилей – 90 лет!
Моя бабушка - Екатерина Лукьяновна Красовская (Анненкова) родилась 2 ноября в 1885 году в Таганроге, в крепкой многодетной семье. В то время на российском престоле правил великий Александр Александрович – Александр III. Шли годы, моя бабушка росла и взрослела. И когда ей в 1894 году исполнилось девять лет, она узнала, что на российский престол взошел сын Александра III - Николай Александрович. И юность бабушка Катя встретила в период правления Николай II.
В свои восемнадцать лет, в 1903 в Таганроге она вышла замуж за уездного таганрогского дворянина, судебного пристава - Красовского Бориса Дмитриевича, и ее жизнь потекла по семейным канонам. А в 1905 году, когда в России после «Кровавого воскресенья - 9 января 1905» грянула первая русская революция, родилась ее старшая дочь – Нина Борисовна Красовская (моя мама). В 1907 родился сын Дмитрий Борисович Красовский, а 1909 родился третий сын – Виктор Борисович Красовский.
В этот период в 1910 году семья переезжает в Хасавьюрт, где и живет до 1920 года. В стране уже на тот момент произошла Октябрьская Социалистическая революция и власть сменилась. На смену Николаю II (последний российский царь), пришел Владимир Ульянов Ленин - главный организатор и руководитель революции 1917 года, первый председатель Совета народных комиссаров (правительства) РСФСР. Именно в 1920 году в семье произошла трагедия. Бабушкин муж – Борис Дмитриевич поехал в командировку и пропал без вести. Как потом стало известно, умер по дороге от тифа, и она овдовела.
В этот момент, когда бабушка жила и содержала одна троих детей, а дети страшно болели, в стране шла гражданская война. Она едва сводила концы с концами. Тогда-то в ее жизни и произошла судьбоносная встреча. Она знакомиться с знаменитым доктором медицины Вольфсоном, и позже со всеми детьми уезжает во Владикавказ, под опеку Вольфсонов. В 1927 году, когда руководителем Советского государства уже был Иосиф Виссарионович Сталин, бабушка второй раз выходит замуж, и живет во Владикавказе. В 1929 году она начинает работать актрисой в театре оперы и драмы во Владикавказе. А в 1933 году, когда я родился, по приглашению моих родителей бабушка приезжает в Харьков и снова вдовеет. Весной 1936 мы все переезжаем в Москву. А 1937 в стране начался «красный террор» и моих родителей арестовывают. Отца приговаривают к расстрелу, как врага народа, а мою маму (бабушкину дочь Нину Борисовну) отправляют в лагерь. И в начале 1938 года оформив все документы, бабушка становится моим официальным опекуном. В 1941 году началась Великая Отечественная война и бабушка со мной уезжает в Пензенскую область в село Большой Вьяс, где мы и жили с ней почти три года в эвакуации. Весной 1944 мы вернулись в Москву. Великую Победу она празднует на Красной площади. События 1953, когда умер Генеральный секретарь Советского Союза – товарищ Сталин, и к власти пришел великий реформатор – Никита Сергеевич Хрущев, бабушка также встретила в Москве. И вот на дворе 1975 год! Моя бабушка родившаяся в дореволюционной России, на изломе огромных перемен, пережившая гражданскую войну, репрессии, войну с фашизмом, эвакуацию и послевоенные голодные годы, сегодня твердо стояла в строю и была всеми любима, и уважаема.
Помню, что на свой юбилей, в свои 90 лет, бабушка наготовила разной вкуснятины. Во первых, она приготовила свою фирменную вишневую наливку, вкусней которой я никогда не пробовал. Во вторых, сварила потрясающий холодец, в-третьих, запекла целый противень мяса по своему старинному рецепту, и в- четвертых испекла свои сладкие коронные пироги - «пышку» с запеченной монеткой на счастье и «кучерявый». Ее конек – неуемная жажда к жизни, проявлялся всегда и во всем!
Гостей на юбилеи у бабушки собралось почти двадцать человек. Принимали мы всех у меня в трех комнатной квартире на Ленинградском шоссе. Собрались все! И друзья, и внуки, и даже две правнучки, мои дочки - Ира и Лариса (кроме моей жены Гали, которая умерла в 1974 году, и я стал вдовцом)! Приехали ее старинные подруги, с которыми она нет, нет да и пропускала по рюмочке хорошего армянского коньяка за преферансом. Это были те самые подруги, с которыми ей много довелось пережить в послевоенные голодные годы. И вот теперь они все за праздничным столом, а во главе наша Кити, юбилярша - бабушка Катя. В ее честь много поднималось тостов, которые плавно переходили в воспоминая. Но я помню один, который прозвучал в нашу честь от именинницы:
- Сегодня мне 90! Я прожила очень тяжелую жизнь. Я пережила двух царей, пережила Керенского. А уж сколько генсеков я пережила, их пересчитать невозможно… Вот их нет, а я живу, и вы все со мной. И дай вам Бог всем здоровья! – торжественно произнесла она и все присутствующие за столом громко захлопали в ладоши. Да, моя бабушка была особенным человеком!
Страна набирала обороты… Шел 1980 год. Прошла «Олимпиада – 80», и мы все готовились отмечать 95 лет бабушки Кати. Но за месяц до своего большого юбилея, когда уже давно у власти стоял Леонид Ильич Брежнев (Генеральный секретарь КПСС СССР), моя бабушка - Екатерина Лукьяновна Красовская (Анненкова) умерла, 1 октября 1980 года.
Кем была для меня бабушка, - да всем! И мамой по совместительству, и бабушкой, и другом, и товарищем, и наставником, да попросту – ангелом хранителем! Она научила меня жить и ничего не боясь всегда идти вперед, потому что сама ничего не боялась. Она была мудрым человеком, и эту житейскую мудрость, как могла передавала мне. Рядом с ней я сформировался и стал тем, кем я есть сейчас. Рядом с ней я узнал, что такое любовь и забота, рядом с ней я понял цену жизни. И пусть она не дожила до того светлого дня, когда я узнаю всю правду о своих родителях, узнаю что же случилось с моим отцом, и почему его арестовали, но она сделала все, что бы я никогда не стал сиротой!
41 глава. "КАК ВСЕ БЫЛО ДАЛЬШЕ... "
Лихие 90-е годы! Время кардинальных перемен для нашей страны. Время брутальных парней в малиновых пиджаках с золотыми цепями толщиной с палец, разгул преступности и бандитских разборок. Привычный мир разрушался. Время было тяжелое и голодное. Но мы надеялись на то, что новая политическая система сделает нашу страну лучше. Пусть не сегодня – пусть завтра… Помню, что мы с радостью принимали все новое, кричавшее с экранов телевизоров и выплескивающееся из газет, потому, что оно не было надоевшим старым. И это, наполняло нашу жизнь неизведанным смыслом.
Тогда, когда нашим государством правили уже не цари, не Генсеки, а Президенты, я как и весь народ пережил эпоху «гласности», «перестройки» и распад СССР в 1991 году. Рухнула Советская власть, власть во времена которой так беспощадно расправилась с моим отцом, матерью и миллионами других невинных граждан.
Именно в это странное для страны и людей время, 13 августа 1990 года Президент Советского Союза Михаил Горбачев издал Указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов». А спустя какое-то время 16 декабря 1991 года и 30 марта 1992 года Президиум Верховного Совета РФ утвердил соответственно комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий и Положение о ней.
Однако наша семья, с 1959 года, когда моя мать Н.Б. Граник (Искияева) получила официальные документы на себя и на моего отца А.М. Граника о их реабилитации, по 90-е больше никуда не обращались, и естественно никаких бумаг мы не получали.
В стране тем временем 12 июня 1991 года состоялись первые выборы президента России, и первый Президент СССР М. Горбачев уступил бразды правления Б. Ельцину, ставшему первым и последним Президентом РСФСР.
А тогда, 23 апреля 1996 году Президент России Борис Ельцин принял Указ №602 «О дополнительных мерах по реабилитации жертв политических репрессий…», позволяющий признавать репрессированными и при отсутствии документов – на основании судебного решения. Именно этот указ открывал новые возможности, как для меня, так и для многих других людей кто не понаслышке знал, что такое репрессии.
И в 1996 году 13 марта я был признан пострадавшим от политических репрессий с соответствующими льготами. Льгот предоставлялось много, но кроме дотации на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд по железной дороге один раз в год, я ничем не воспользовался.
При получении этих документов, мне предлагали ознакомиться с делом моего отца. Но тогда я не захотел ворошить прошлое. Попросту я боялся увидеть в деле отца материалы доносов и не хотел знать, кто совершил эту подлость. Но позже выяснилось, что доносов никаких не было. А было совсем по-другому… Однако, на тот момент я был занят работой, ведь я работал в Московском Научно – Исследовательском Институте Приборной Автоматики начальником технического управления, и своей семьей. В моей жизни вновь произошли изменения. В 1986 году я второй раз женился, и в 1987 – у меня родился сын Кирилл. Старшие дочки выросли. Лариса вышла замуж, и в 1997 году подарила мне первого внука Дениса. Ирина стала журналисткой и с головой ушла в работу.
Время неумолимо мчалось вперед…
42 глава. "ДЕЛО, ОДНО - НА ВСЕХ.., или НИКТО НЕ ВИНОВАТ!"
90-е ушли в прошлое! Вот уже и двадцать первый век - новое тысячелетие, которое я встретил работающим пенсионером!
В моей жизни произошло много нового. Я давно стал дедом. У меня четверо прекрасных внуков – Денис, Даниил, Дэвид и маленькая Кира. И с этой позиции, на произошедшее в далеком 1937-ом, я посмотрел под другим углом зрения. Внуки подрастают и хотят знать историю своей семьи. Но, что я им расскажу про их прадедушку? Как объясню, что с ним случилось, когда сам толком ничего не знаю.
Последний подарок моего отца – яркие рисунки про обезьянку Макарку – внукам очень понравились, но ответить на их вопросы о прадедушке, я не смог. А новому поколению ребят 21-го века, поколению гаджетов и смартфонов, заряженных на аккаунты, смайлики, «лички» и «посты», детям высоких компьютерных технологий – очень важно грамотно и правильно рассказывать, разъяснять, объяснять и доносить то, что было в веке прошлом, что бы однажды, прошлое не настало в настоящем. Наши дети и внуки должны знать историю нашей страны, своей семьи, даже если она трагическая.
Поэтому, став официально с 1 сентября 2015 года не работающим пенсионером, я пересмотрел свою точку зрения, и захотел узнать всю правду о моих родителях. По-прежнему было не ясно, что такого должен был сделать мой отец А.М. Граник, чтобы его расстреляли? И в чем его вина?
Долгие годы я думал, что отец был арестован в связи с голодомором на Украине, который был в 30-е годы. Ведь в то время, с ноября 1932 года, он как раз работал в Наркомате земледелия Украины в городе Харькове II-м заместителем Наркома по снабжению, но дело оказалось совсем не в этом…
Собрав все нужные документы, я обратился к руководителю Центрального Архива федеральной службы безопасности. Ведь архивы рассекретили и многие люди, как и я стали приходить и смотреть дела репрессированных родственников. И через месяц мне разрешили ознакомиться сначала с делом отца, а потом и матери:
«…Уважаемый Вадим Абрамович!
Ваше обращение от 02.03. 2018г. рассмотрено.
Сообщаем, что Центральный архив ФСБ России готов ознакомить Вас с несекретными материалами архивного уголовного дела на Граника Абрама Михайловича в читальном зале ЦА ФСБ России по адресу: г. Москва, Кузнецкий мост, д.22.
Одновременно сообщаем, что ряд документов из указанного дела проходят процедуру рассекречивания, после окончания которой Вы будете уведомлены о порядке ознакомления с делом.
Заместитель начальника архива – А.И. Шишкин…»
Сначала, ознакомившись с первичными архивными документами, было ничего не понятно. Но постепенно начала выстраиваться картина произошедшего в далеком 1937-ом. Я внимательно изучил как копию допроса моего отца, так и копии допросов других арестованных: Дуката, Одинцова и Лучанинова. Эти фамилии были упомянуты в деле отца, и причем сослуживцем его был только один Одинцов, других товарищей мой отец не знал. Эту вышеперечисленную троицу арестовали гораздо раньше отца, как участников антисоветской организации правых в Азово-Черноморском крае, где и работал мой отец с 1934 года. Картина прошлого медленно начала проясняться и выстраиваться. Но буду рассказывать по порядку…
Первым, 14 августа 1936 гола, был арестован Юлий Иванович Дукат – работник НКВД Азово-Черноморского края. Его фамилия фигурировала в докладе Ежова, и в связи с этим он был незамедлительно взят под стражу. После его показаний, в начале 1937-го, арестовали начальника земельного управления Азово – Черноморского края Александра Васильевича Одинцова (с которым работал мой отец), и который в следствии допросов назвал еще несколько фамилий и дело закрутилось…Одинцов якобы сказал, что участниками организации были: Лучанинов (его арестовали третьим), Берковский, Кухаркин, Сечкин, Желдаков, Андриянчкенко и также сказал, что о существовании и работе организации правых в Крайзу будто бы было известно руководящему работнику крайкома партии Богатыревичу.
Сразу после допроса Одинцова, по этому списку начались аресты. Но пока в этом злополучном списке еще не звучала фамилия моего отца – А.М. Граника. Каждый вновь арестованный, по цепочке называл все новые и новые фамилии, кого знал и о ком слышал. Так в итоге был раскрыт «страшный заговор правых», а люди попросту оговорили себя и других. Только в протоколе допроса отца я насчитал более 15 ранее арестованных и далее расстрелянных человек. К вышеперечисленным фамилиям добавились: Николаенко, Ипполитов, Лященко, Китаев, Марченко, Кухарчук, Косилов и Лобов. И все они занимали руководящие посты в Азово-Черноморском крае. Из них никто не был виноват. Потом их реабилитировали посмертно, но все они, включая моего отца были вынуждены тогда, признать свою вину и подписать признание. И получается, что у них было одно дело на всех…, как и судьба – одна на всех.
Постепенно очередь дошла и до моего отца А.М. Граника, который был арестован 22 августа 1937 года в Москве, почти самым последним из числа тех…, кто уже вовсю давал показания, а многих уже не было в живых.
Я знал, что в ноябре 1932 года при формировании Украинского Наркомата во главе с Наркомом Одинцовым, мой отец был назначен одним из заместителей Наркомзема Украины по снабжению. В связи с этим, в протоколе допроса отца написано, что он якобы был завербован в 1934 году Одинцовым, и дал согласие на участие во вредительской деятельности правых. А дальше, все, как «по маслу…»
Я читал протокол допроса отца от 16 октября 1937 года, как настоящий детектив! Удивляясь и поражаясь, как блестяще все выстроено, и какие талантливые люди: писатели, сочинители, сценаристы и редакторы в 1937-ом работали в НКВД.
Протокол был идеально напечатан на машинке. Вспоминая то время, я точно знаю, что все документы в те годы писались в большинстве случаев от руки, и были рукописными. Так откуда взялся идеально отредактированный и грамотно составленный протокол допроса? Ведь в нем я не нашел ни одной орфографической ошибки: вопрос – ответ, знаки препинания на местах и стилистически грамотно построенные предложения. Ни одного исправления и описки. Из протокол допроса Граника А.М. от 15 октября 1937 года:
«Вопрос: Вы не все показали о своей вредительской деятельности.
Ответ: Я сказал все. Больше никакой вредительской деятельности я не вел.
Вопрос: А будучи до ареста управляющим конторой «Хлопкоснабжения» вы по этой линии вредительской работы не вели?
Ответ: Нет, не вел. На этом участке работы я был безупречен…»
Вопросы по обвинению следовали один за другим. И не признавая себя виновным или признавая себя виновным в одном, отец тут же получал новые и новые вопросы:
Вопрос: Вы показали только о вредительской работе в Крайзу. А разве в периферийных аппаратах Крайзу вредительской работы не велось?
Ответ: Мне известно только о вредительской работе в Северо-Донском Окр. Зем. Управлении.
Вопрос: Дайте об этом показания.
Ответ: Вредительскую работу в Северо-Донском Окрзу, как мне известно, со слов Одинцова, возглавлял и вел завидущий Окрзу Косилов, которого инструктировал сам Одинцов выезжая несколько раз в Миллерово…»
И все четко и грамотно, как многочисленные вопросы, так и развернутые ответы отца. Образцово-показательный протокол допроса, после которого человека остается лишь расстрелять. И поэтому, я умышленно привожу как пример, лишь те отдельные фрагменты и цитаты из допроса, которые не введут в заблуждение не подготовленного читателя, но картину происходящего покажут.
Безусловно, протокол допроса был приготовлен заранее и дан на подпись моему отцу, как и другим обвиняемым. Только вот подпись отца не на всех страницах разборчива, а на некоторых видно, что подписано это… обессилившей и дрожащей рукой, уставшего от допросов человека. И я понял, сколько же испытал унижений и физической боли мой отец, ведь он был один из числа тех…., к кому, как и к нему не стеснялись применялись спецсредства. Хотя в его личном деле я не нашел этой отметки. Но что скрывать – всех репрессированных жестоко избивали, и это страшный факт, которого не скроешь! Их избивали только за то, что они были арестованы, как враги народа. А были они ими, или не были, никого это не интересовало.
К ним применялось физическое воздействие в выбивании из них нужной информации, и нужной для их дела «правды». В НКВД побои были обычным рабочим процессом. Подробнее ознакомившись с архивными документами я узнал, что делалось это с официального разрешения самого товарища Сталина:
«Документ №8….»
Шифротелеграмма И.В. Сталина секретарям обкомов, крайкомов и руководству НКВД—УНКВД о применении мер физического воздействия в отношении "врагов народа"
10.01.1939… 26/ш…
ЦК ВКП стало известно, что секретари обкомов — крайкомов, проверяя работников УНКВД, ставят им в вину применение физического воздействия к арестованным как нечто преступное. ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б). При этом было указано, что физическое воздействие допускается как исключение, и притом в отношении лишь таких явных врагов народа, которые, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются выдать заговорщиков, месяцами не дают показаний, стараются затормозить разоблачение оставшихся на воле заговорщиков, — следовательно, продолжают борьбу с Советской властью также и в тюрьме. Опыт показал, что такая установка дала свои результаты, намного ускорив дело разоблачения врагов народа…
Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН
АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 6. Л. 145—146. Подлинник. Машинопись…»
Теперь никому не секрет, как в те годы выбивались признания. Люди попросту оговаривали себя, как и мой отец. А прямых доказательств его вины в деле, я так и не нашел. Отец, арестованный практически последним, на самом деле не мог ничего возразить и доказать свою, как не причастность, так и не виновность. Потому что почти всех фигурантов по «делу правых в Азово-Черноморском Крайзу» расстреляли, и очную ставку было делать не с кем. Да и обвиняемых никто не слушал. Все решалось без суда, так называемыми «тройками», в «упрощенном» судопроизводстве. Время беззакония и беспредела. Из протокола допроса от 15 октября 1937 года:
«Вопрос: За время работы в Москве, после ухода из Азово-Черноморского крайзу, вы с Одинцовым связь продолжали поддерживать?
Ответ: В начале 1936 года (конец апреля) я по отзыву Наркома земледелия СССР Чернова ушел из Азово-Черноморского крайзу и приехал в Москву, где я раньше работал много лет. После этого я никаких встреч ни с Одинцовым, ни с кем либо из перечисленных выше участников антисоветской организации не имел. Переписки также ни с кем не имел…»
Однако, отца обвинили в антисоветской террористической, диверсионно-вредительской деятельности организации правых в Азово – Черноморском районе с 1932 – 1936 годы, а в то время это было страшное обвинение. И осудили по трем стандартным статьям: ст. 58-7, 58-8 и 58-11 УК РСФСР, без доказательно приговорив 28 ноября 1937 года к расстрелу с конфискацией имущества.. С точки зрения «безупречного» протокола допроса – он был виновен, а по существу - это было хорошо сфабрикованное дело.
Ведь отцу и всем ранее арестованным: Одинцову, Лучанинову и Дукату (Я ознакомился с их протоколами допросов), вменяли одни и те же обвинения, как под копирку. А именно: «Вредительская деятельность в снабжении МТС денежными средствами, запасными деталями и горючим. Вредительская деятельность в кадровой политике - это срыв планов по подготовке механизаторских кадров: трактористов и комбайнеров. Срыв планов по ремонту тракторов и моторов. Срыв планов посевных – умышленно выводили из строя трактора и комбайны...»
Также, плюс к этим обвинениям, им всем вменялось еще одно страшное: «Намерение и организация покушения на товарища Сталина». Но мой отец этот пункт статьи 58-8 не подписал (даже под давлением), о других обвиняемых мне не известно.
В подтверждение вышесказанного в деле моего отца есть одна очень важная бумага. Это Заключение из Военной коллегии Верховного суда от 13 августа 1959 года, в котором говорится:
«На предварительном следствии и в судебном заседании Граник виновным себя признал. Кроме того, его обвинение основывалось на показаниях арестованных по другим делам Одинцова («вербовщик»), Лучанинова и Дуката.
Произведенной дополнительной проверкой установлено, что Граник был осужден необоснованно. Одинцов, Лучанинов и Дукат в настоящее время реабилитированы (л.д. 46-48)…»
Кроме того, были реабилитированы и другие лица, с которыми мой отец якобы был связан по антисоветской деятельности. В этом случаи обвинения моего отца в принадлежности к антисоветской организации являются несостоятельными, как и обвинение его в террористической и вредительской деятельности, так как каких-либо доказательств этого обвинения, кроме показаний самих арестованных, в деле не имеется. И приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 28 ноября 1937 года в отношении моего отца – А.М. Граника, был отменен и дело его было прекращено за отсутствием состава преступления. Да и в Определении – это документ от 24 сентября 1959 года, говорится тоже самое. Именно на основании Заключения и Определения - мой отец был реабилитирован посмертно в 1959 году.
Так, спустя восемьдесят один год, мне открылась вся правда о моем отце: за что его арестовали и за что расстреляли. И теперь я горд, что могу спокойно рассказать моим внукам кто был их прадедушка, и что с ним случилось. А главное, что он был всегда честным человеком и трудился на благо своей Родины.
А в деле моего отца есть еще один документ, из которого мы узнали, что он был захоронен в общей могиле в Коммунарке (в Подмосковье, а не в Ташкенте). В те годы в этом поселке существовал спец полигон НКВД, где и хоронили осужденных по политическим статьям УК.
27 октября 2018 года на бывшем спецобъекте НКВД «Коммунарка» была открыта Стена Памяти. Теперь на установленном мемориале выбиты имена и фамилии тех, кто покоится здесь навечно. Один из числа тех…, кто увековечен в этом огромном бесконечном списке, и мой отец – Абрам Михайлович Граник.
А в период со 2 сентября 1937 года по 24 ноября 1941 года на территории «Коммунарки» были захоронены 6609 человек. Все эти имена, выявленные по расстрельным актам в Центральном архиве ФСБ, помещены ныне на Стену Памяти.
В завершении своего рассказа, я не исключаю, что может спустя годы, еще откроются новые факты и обстоятельства по делу моего отца и других людей, для которых стало «Одно дело – одним на всех…», и чья жизнь стала уже частью истории нашей страны!
ЭПИЛОГ…
Говорят, что в жизни все не так, как в книгах. Но оглядываясь назад в прошлое, я убеждаюсь, что часто в нашей жизни происходят события, описание которых не встретишь в хорошей литературе.
Так было и со мной. Мечтая в детстве о том, что я стану непременно путешественником, я и не полагал, что моя мечта сбудется буквально. Я не только буду путешествовать по разным городам и странам, но даже буду ездить работать в других городах нашей необъятной страны.
И вот однажды, возвращаясь на поезде из Санкт-Петербурга, где я был в рабочей командировке, я познакомился с журналисткой. Всю ночь, а мы ехали с ней в одном купе, мы разговаривали. И в беседе, я рассказал ей, о том, что мой репрессированный отец оставил мне в далеком 1937 году интересный подарок – папку с рисунками. Девушка заинтересовалась и попросила ей показать эти рисунки. По приезду в Москву мы обменялись телефонами и вскоре прозвенел звонок:
- Вадим Абрамович, а это я, ваша попутчица! Вы обещали показать рисунки отца…
- Что ж, обещал, значит покажу…- ответил я, и мы назначили встречу, которая не могла не произойти, она тоже ведь была судьбоносной.
- А ведь ваш отец наверняка думал сидя в камере, что не дорисовал один рисунок…, - рассматривая, предположила журналистка.
- Возможно, но что мы теперь можем сделать?
- А у меня есть идея! Что если написать стихи к рисункам и издать детской книжкой! – предложила она.
- Но один же рисунок не дорисован? Как быть? – не понимал я.
- А нужно последний рисунок оставить не раскрашенным. Ну как в детских разукрашках. Тогда каждый ребенок сможет сам его раскрасить! Вот и сбудется мечта вашего отца! И лучшей благодарности ему, мы и не сможем придумать.
- Да, вот ведь как бывает… Он сделал подарок мне, а мы делаем подарок ему! – с радостью сказал я.
Теперь получается, что папино увлечение рисовать в свободное от работы время – это настоящая память о нем и последний подарок мне, всей нашей семье и всем, всем детям! Его рисунки бесценны. Им больше восьмидесяти лет, а они не утратили своей яркости и чувственности. Глядя на них, понимаешь каким творческим человеком был мой отец! И как он меня любил.
И не смотря на все жизненные перипетии, через что мне пришлось пройти, я счастливый человек. Я ни разу не испытал трудностей в жизни с точки зрения как происхождения, так и репрессированных родителей. То ли это было везение, то ли это… судьба. Скорее всего - везение! Но главное мое везение – это последний папин подарок, который стал настоящим свидетельством его жизни, моей жизни и его творчества!
Свидетельство о публикации №224062201524
Зинаида Русанова
Зинаида Русанова 20.07.2024 23:16 • Заявить о нарушении
Александра Мурашева 21.07.2024 14:10 Заявить о нарушении