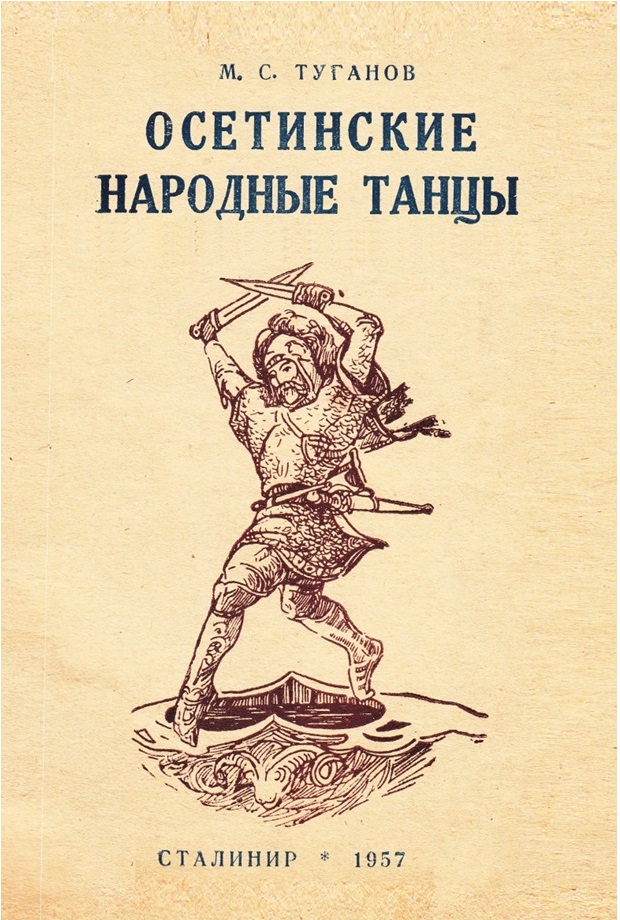Махарбек Туганов - Осетинские народные танцы
ОБ АКТУАЛЬНОСТИ РАБОТЫ МАХАРБЕКА ТУГАНОВА
«ОСЕТИНСКИЕ НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ»
Нужно сразу признать, что Махарбек Туганов сумел первым вынести "танцевальную" информацию посреддством графических зарисовок, пусть даже в очень малом объеме написанной им небольшой брошюрки. За это ему большое спасибо.
Важно отмеить тот факт, что знатоки-практики народного осетинского танца в лице ветеранов 1го и 2го поколения госансамбля Северной Осетии, а имненно, Виктор Дзеранов, Батырбек Сопоев, Наталья Тогузова, Марина Кесаева, Заурбек Битаров, Ахшарбек Сланов и др.), сами в детстве и юности были участниками танцевального народного действа под названием хъазт.
Ветераны утверждали, что информацию о особенностях осетинской танцевальной культуры обычно передавали из уст в уста, при этом, на практике старшие поколения показывали младшим не только каноны манеры исполнения, но и каноны манеры поведения, которые должен был чтить каждый участник, встававший в танцевальное действо хъазт.
В каждом населенном пункте проживали авторитетные знатоки, которые, являясь в статус знатоков-хранителей этих устоев и традиций, могли совмещать статус распорядителя танцев (чегъре) пока им позволял возраст и здоровье.
СПОРЫ О ТОМ, МОЖНО ЛИ МАХАРБЕКА ТУГАНОВА
НАЗВАТЬ, ХОТЯ БЫ ЗНАТОКОМ ОСЕТИНСКОГО ТАНЦА.
Вначале, важно учесть, что Махарбек Туганов не был хореографом постановщиком народного танца даже на любительском уровне, тем более, не имел никакого отношения к сценическому формату танцевального искусства. Кроме того, Махарбек Туганов не являлся профессиональным фольклористом и не являлся даже собирателем, потому что только единожды в 1894 году в возрасте 13 лет зафиксировал информацию об увиденных танцах, хороводах, шествиях и др., которые организовали сельчане не известно какого села, потому что Махарбек Туганов не удосужился указать.
Так же важно обратить внимание на факт, что Махарбек Туганов сам признается в своей брошюре выпущенной издательством «Сталинир» 1957 года на странице №3, о том, что занимался сбором танцевального материала совершенно не специально, т.е. без целевого намерения, а всего-навсего фиксировал увиденное попутно с основным сбором материалов по народному творчеству.
Грамотные и образованные специалисты 60-х и 70-х годов ХХ века, откровенно высказывали свое мнение о том, что тексты и даже зарисовки Махарбека Туганова, не представляют собой ценности из-за отсутствия в них описания назначения и смысловой основы упомянутых танцев, а также Махарбек Туганов не указал даже базового переченя элементов лексики, на который должен опираться каждый народный танец даже в быту. Материал Махарбека Туганова по народному танцу, опубликованный в 1957 года так и не приобрел своей популярности в среде профессиональных хореографов, потому что, размышления Махарбека Туганова не являются достаточно глубокими и фундаментальными.
Грамотных и взвешенных рассуждений Махарбека Туганова, относително народного осетинского танца, не могло быть в принципе, потому что Махарбек Туганов в 13 лет (Туганов, родился в 1881 году, а записал элементы народного творчества в 1894 году)в силу своего юного возраста, не мог углядеть в смысловой основе более тонкие аспекты культуры гендерных танцевальных взаимоотношений.
Тот хореограф, кто захочет следовать в своей постановочной работе описаниям Махарбека Туганова, то этому хореографу не представится возможность элементарно построить композицию танца, так как, у Махарбека Туганова нет той информативной базы, на основе которой, постановщик может сформировать хореографический текст элементы лексики, тех важных составных частей, необходимых при создании хореографических произведений на сцене в народно-сценическом или фольклорном танце (что не является одним и тем же). Даже, если хореограф решиться на такое, то любое его сочинение станет лишь домыслами и предположениями.
ПОВЕДЕНИЕ МАХАРБЕКА ТУГАНОВА В ОТНОШЕНИИ
ПЕДАГОГОВ ПО НАРОДНОМУ ТАНЦУ.
Очень некорректными восприняли втераны откровения Махарбека Туганова на странице №41, в которых, Туганов, по сути и по факту являвшийся очень сырым теоретиком, вдруг попытался пристыдить уважаемого знатока-практика Заурбека Бирагова. Того самого Заурбека Бирагова, который по воспоминаниям периода 40-х годов, ветеранов К.Хадикова и Х.Томаева, полностью посвятил себя обучению навыкам осетинского народного танца «с нуля». И менно Заурбек Бирагов стремися вовлекать в народный танец в основном неопытные разновозрастные массы и помогал двум профессиональным коллективам Северной и Южной Осетии.
Так вот, Туганов пишет на стр. 41, что «Когда я в 1938-39 году предложил танцорам Бираговского ансамбля исполнить в зале один лишь круг на носках – не нашлось ни одного танцора, начиная с самого Бирагова, который бы мог выполнить это задание». А теперь внимание, у любого здравомыслящего человека возникнет вопрос, а на основании какого такого своего статуса или полномочий Махарбек Туганов позволить себе, чтобы его задание вдруг взялся выполнять Заурбек Бирагов? Видимо, Махарбек Туганов проигнорировал тот факт, что Бирагов взял на тот период массовую работу с начинающими, а также обучяал артистов из художественной самодеятельности, которые должны были войти в состав ГАПМиП Северной Осетии, и, наверное, Заурбек Бирагов не предполагал, что какой-то неуч в народном танце будет потом его Заурбека Бирагова прилюдно чрезе выпущенную брошюру пытаться стыдить.
Мало ли, какие могли быть причины у самого Заурбека Бирагова чтобы не идти на поводу у МуТуганова и не вставать на носки перед вошедшим в зал Махарбеком Тугановым. Для Бирагова ни с какой стороны Махарбек Туганов не был авторитетом в народной танцевальной культуре. Откуда нам теперь знать, может причиной была элементарная личная неприязнь к той заносчивой выходке Махарбека Туганова. Кроме того, по материалам Х.П. Варзиева:
- «… опрашиваемые мной жители Даргавского и Куртатинского ущелий, которым в 1962 году было уже от 80 и более лет, рассказывали о том, что даже по воспоминаниям их дедов, ни один танец, который находился в составе обряда или самостоятельного действа, не требовал длительного пребывания в положении "на носках", но чтобы хоть как-то это нахождение положение "на носках" облегчить, еще в конце 18 века, в участок пальцев ичиг, заранее подкладывали паклю или отходы начесанной шерсти».
А вот, что продолжает писать Махарбек Туганов на стр.№42: «Многие современные танцоры подкладывают вату в обувь во время танца. Подобный прием в старых танцах не допускался». Что значит, не допускался? На каком основании были такие безаппеляционные выводы у Махарбека Туганова? Для чего необходимы были такие преувеличения? К огромному сожалению, таких инфантильных мифических преувеличений в работах Туганова предостаточно... А вот, по воспоминаниям Х.П. Варзиева, датированных 1965 годом (курсовая работа студента балетмейстерского отделения ГИТИСа): «… не каждый внешне стройный юноша мог без боли или хотя бы с удобством стоять и тем более передвигаться на полупальцах (носках). Причиной могло быть не только элементарное плоскостопие и врожденные особенности внутрисуставной подвижности голеностопного сустава, но также строение стопы и пальцев.
Основаная часть специалистов Северной Осетии в 60-х и 70-х годах посчитала достаточно некорректным высказывания Махарбека Туганова, который попытался своей работе придать изыскательский формат и привлек к написанию рецензии профессионального танцовщика В.Хетагурова.
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРАЖЕНО В РАБОТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРИСТА.
Если говорить профессиональных деталях, при фольклористической записи танцев, то к ним однозначно нужно отнести фиксацию психологических портретов персонажей любого народного танцевального действа, их намерения и мотивацию. И самое важное - обоснование кульминации и развязки народного танцевального действа со всеми используемыми атрибутами движений, поз, позиций рук и ракурсов перемещения по танцевальной площадке. Потому что в народе, каждый вздох и каждый чих, имели свой определенный смысл.
В связи с вышесказанным, наверное, нельзя предъявлять особых претензий к Махарбеку Туганову, за то, что, он отразил увиденное так, как мог воспринять в своем незрелом 13летнем возрасте, чтобы понимать психологическую подоплеку гендерных отношений. Вот пример того, как описывает танцевальное действо Махарбек Туганов:
- «В 1890-1900-х годах в Осетии появился своеобразный танец — «Танец с плеткой». Трудно сказать, чем было вызвано его появление на свет, но описать его следует: 1. Девица и парень делали один круг самого обыкновенного Зилга кафта (собиратель не должен склонять название). 2. Посреди круга ставился стул, на который, опустив голову, садилась девица. 3. Парень, которому давали в руки плеть, танцуя кружился вокруг девицы, нанося ей время от времени легкие (а иногда и звучные) удары плетью то по одному, то по другому плечу. Проделав кругов пять или шесть, мужчина останавливался. Девица вставала со стула и получала в руки плеть. 4. Теперь парень занимал место на стуле, а девица, кружась, наносила также удары, отвечая на полученные удары в той же мере. 5. Танцоры чередовались с плетью раза по два и, сделав круг, заканчивали танец. 6. Затем выходила следующая пара и т.д.
Опять же нужно напомнить о том, что не только Махарбек Туганов, но и любой 13летний подросток вряд ли сможет распознать многослойность таких однопарных (дуэтных) гендерных танцев или сможет догадаться об их смысловом гендерном прочтении. Поэтому, сегодня почти отсутствует информация, позволяющая распознать причину создания такого народного танцевального действа. Это лишь предположения. Возникают простейшие вопросы:
1. Допустимый возраст участников пары.
2. Участники пары должны быть незамужними (как в хонга, зилга и симд)
3. Участники пары могут быть смешанными (один женатый, а другая незамужняя и наоборот)
4. Какая разница в возрасте между участниками должна быть допущена.
И многие другие вопросы.
А при отсутствии достаточной информации о смысловой нагрузке танцевального общения и их культурологической основы, невозможно иметь полное представление о мотивации и намерении участников танцевально действа.
Соответственно, попытка перевести эти танцевальные сюжеты, составленные по внешним описаниям авторов, неподкрепленным достаточной информацией, в условия современного танцевального быта (хъазт) и тем более в хореографическое искусство не имеет смысла. Такая затея будет обречена на неуспех, так как не будет донесена до наблюдателей и участников хъазт народная достоверность атмосферы общения.
При всем, при том, благодаря пусть даже «сырой» и невнятной, с точки зрения драматургии, поверхностной работе Махарбека Туганова, появилась возможность не тратить время на поиск уже им прописанного, а бросить все силы на выяснение когда-то им самим не понятого (в силу возраста) и соответственно, неизученного.
Касательно несовершенной формы зарисовки Тугановым схемы танцев, также нельзя к нему предъявлять претензии, так как он не был осведомлен, как нужно профессионально заносить на бумагу рисунки элементов композиционного плана с ракурсчами освоения танцевальной площадки, а также обозначением хореографической лексики и хронометража танца.И все-таки нужно быть объективными и отдать должное Махарбеку Туганову, как художнику и поблагодарить за применение хоть каких-то рисунков, которых до него никто в Осетии не применял.
Относительно его стремления идеализировать танцы на носках и моменты в других танцах, хочется сказать, что это замечательно, так как такое стремление отражает его патриотические проявления, которые наверняка имели свой однозначный созидательный характер.
Свидетельство о публикации №225082600058