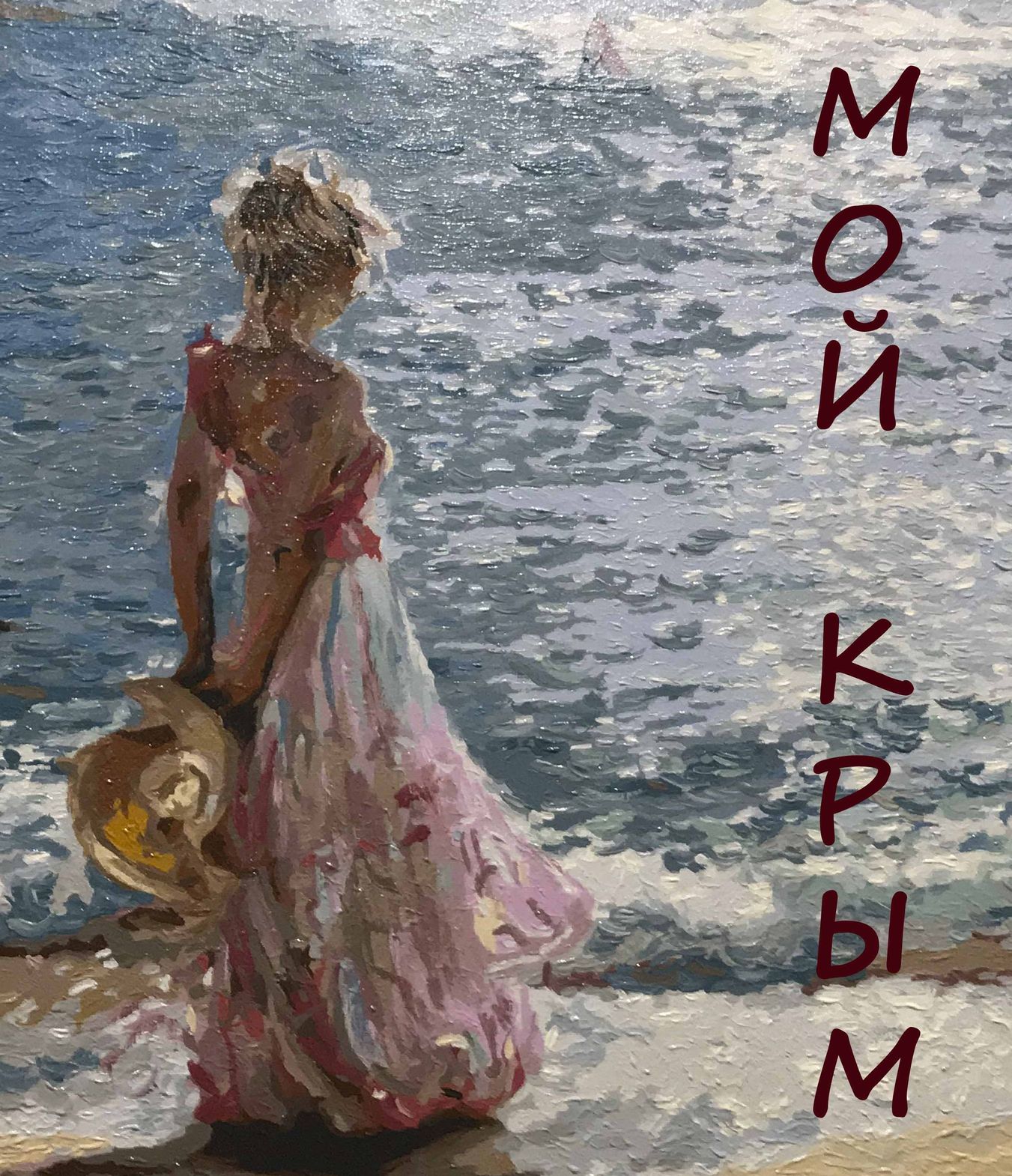Мой Крым. Повесть в трех частях
Часть первая
…
«Пограничник повторяет свой вопрос:
- Крым чей?
Я поднимаю глаза на его скривившееся в усмешке лицо, смотрю в молодые, вроде не глупые, разноцветные, почти как у меня, глаза и упрямо твержу:
- Мой, чей же еще…»
Просыпаюсь в холодном поту, не дождавшись реакции парня…
…
Крым был в моей жизни с самого раннего детства и не только в моей…
Впервые в Крым я попала в нежном возрасте. Уже в год и четыре месяца я, веселая и счастливая, протирала голой попкой евпаторийский песок и плавала в море на надувном круге-уточке.
Помнить я этого не могу, но фотографии и мамины рассказы надежнее памяти.
…
В Евпатории жила наша дальняя родственница – баба Люся Пятаченко. Её муж лежал в госпитале, и после войны они решили здесь остаться. Жили на улице Кирова. Во время войны санатории, стоящие на ней, разбомбили, остался один, который и был приспособлен под госпиталь. А на развалинах потом еще долго подрывались подростки, которые и в то время искали приключений.
Остался на улице нетронутым Большой ботанический сад, основанный еще до войны. Тогда Евпаторию активно превращали в детский курорт, но не хватало зеленых насаждений – так и возник посреди степи зеленый оазис.
А на Кирова после войны начали строить халупы из ракушечника без каких-либо удобств, в одной из которых поселилась наша родственница с мужем. Сюда и начала ездить моя мама в пятидесятые для восстановления послевоенного здоровья. Вначале со своей мамой, моей бабушкой, позже уже самостоятельно, с подругами или компанией.
Однажды за ними увязалась младшая дочь соседей по коммуналке, уж больно хотелось ей на море, а денег у семьи не было. Так и путешествовала на третьей полке зайцем, к счастью, никем не обнаруженная.
…
В студенческие годы мама с подругой ставили палатку во дворе дома, потому что Пятаченко и соседка тетя Таня сдавали в сезон все, что можно было сдавать, чтобы заработать хоть какую-то копеечку.
Там же мама познакомилась с тети Таниной дочкой, Ирой, ровесницей, с которой долго и основательно дружили. После школы и училища Ира уехала работать на Севера, после выслуженных «северных» лет обосновалась в Брянске, но ближе к девяностым снова вернулась в Крым, потому что внучке по состоянию здоровья прописали морской климат. Их тогда уже переселили с улицы Кирова, из самого центра, за железную дорогу в новые дома.
Мы встретились абсолютно случайно в середине девяностых во время отпуска на каком-то городском мероприятии, и мама с подругой через столько лет узнали друг друга…
…
Однажды произошел небольшой инцидент, запечатлевшийся в моей памяти и на голове, но не испортивший отношение к Евпатории.
Ребенком я была послушным, но активным. То есть, если оставить на лавочке, никуда не уйду, но и сидеть на месте не обещаю. Мама отправилась стоять в очереди за черешней, а я мирно играла неподалеку - вокруг санатории-дворцы, цветы, лепнина.
Красота, одним словом…
И вдруг окрестные здравницы оглушил детский крик, что само по себе было вызывающим событием, потому что, играя, дети в то время вели себя прилично. Я, прыгая на ступеньках красивой, с гипсовыми балясинами, лестницы, сорвалась и пересчитала их количество своей лобной костью. Скорая приехала быстро, но медики не знали, кого первым реанимировать – меня, громко подающую признаки жизни, или мою выдержанную маму, впавшую в глубокий обморок.
Мы, уже в этом столетии, как-то проходили мимо больницы, в которую нас отвезли. За сорок лет там практически ничего не изменилось…
Голову зашили (она у меня крепкая), оставив на память шрамы, которые с возрастом затянулись, а мы продолжили отдыхать…
…
В детстве я очень боялась Пятаченко, она была похожа на бабу Ягу, то ли по генетическим причинам, то ли из-за тяжелой жизни. Еще и одевалась во все темное. Поэтому, увидев ее, я начинала плакать. К счастью, у нее мы перестали останавливаться, потому что жить совсем без удобств целый месяц с маленьким ребенком было сложно.
Нам часто составляли компанию мамины подруги с детьми, поэтому снимали на всех большую комнату, что позволяло и в деньгах экономить, и нам, детям, не скучно. А вечерами дружной компанией ходили на переговорный пункт, чтобы сообщить оставшимся домочадцам о своих курортных буднях.
…
Но однажды мы познакомились с любимыми Соловьевыми.
Ехали в поезде вместе с семьей из Козельска, тоже мама с дочкой. Мы, ровесницы, в поезде сдружились со Светой, мама с тетей Машей нашли общие темы для разговоров, решили вместе поискать жилье.
Жилье искать не пришлось, на евпаторийском вокзале нас встретили две веселые женщины-татарки, которым хозяйка наказала привести москвичей для заселения. Обычно этим занимался ее муж, но в тот день он был занят, пришлось отправить своих же жильцов…
Так мы попали на Партизанскую, где и остались на долгие 20 с лишним лет.
Подружились со всеми обитателями, на правах знающих город, показали все пляжи и места для купания отдыхающим. Женщины, нас встретившие, загорали на ступенях набережной Старого города, даже не предполагая, что совсем недалеко, на Новом пляже, есть песок. Туда и тетя Маша со Светой ездили на трамвае.
…
У нас же был неизменный на все времена евпаторийский маршрут.
Утром мы садились на трамвай, ехали почти до Мойнак, завтракали в столовой, там же покупали кефир, булочки и что-то из фруктов на обед, и шли мимо лимана на свой любимый широченный и длиннющий (в то время) песчаный пляж с дюнами. Там проводили время до четырех часов дня и отправлялись в обратный путь пешком через весь город, по Курзалу в Старый город, по дороге ужиная.
Там же я тренировалась в школьные годы, чтобы не терять фигурнокатательную форму.
Мама намазывала мне шишки на локтях и коленях целебной мойнакской грязью, чтобы потом смыть это почти горячей рапой из лимана. И вздрёмывали под оливками во время сильной жары.
…
Мама рассказывала, что во времена студенчества они с подружкой в целях экономии даже под этими оливами готовили еду на привезенной керосинке. Ведь нужно было уложиться вместе с жильем в 1 рубль в день.
Отсюда же с Мойнак, мама притащила домой два больших необработанных камня-ракушечника, на которых долгое время выращивала фиалки и кактусы, приводя в неописуемый восторг своих гостей.
…
Вечерами мы со Светкой устраивали представления во дворе наших хозяев, пока они вместе с отдыхающими чинно заседали под виноградом – обстановка всегда была почти семейной. Весело разыгрывали сценки, еще и рассказывая где-то услышанные взрослые анекдоты. Тогда смысла еще не понимали, но очень радовались тому, что взрослые до слез хохочут над нашими шутками про короткий фитиль.
Мама с тетей Машей брали под ручку молодого хозяйского сына, Вовку (так мы его звали) и отправлялись в кино или на танцы. Хозяева пытались его немного окультурить с помощью отдыхающих москвичей. А мы со Светкой получали по коробке «Сладких кукурузных паличек», моего самого любимого лакомства в Крыму, и рассказывали друг дружке выдуманные истории, мирно засыпая под веселый балаган соседей.
…
Через год, приехав вновь в Евпаторию, мы обнаружили Вовку уже женатым и даже родившим сына, Макса, в следующие годы перешедшего под мою опеку. Теперь уже я оставалась в качестве няньки, пока молодые родители отправлялись в кино, прихватив с собой и моих родителей.
Владимир проявлял незавидные дизайнерские задатки – его поделки и инсталляции я вспоминаю и ныне, когда обдумываю какую-то новую интерьерную идею. Наверное, сейчас он имел бы большую клиентуру, а тогда максимум, что плел гамаки и изготавливал фонтаны редким заказчикам. Его же тогдашний двор, а особенно, грот были произведением дизайнерского искусства даже по современным меркам. Я очень любила останавливаться именно в гроте, хоть там и не было окон.
Работал он матросом - иногда чинились, иногда уходили в море на несколько дней. После его дежурств я впервые попробовала жаренные мидии, которые в то время показались мне чем-то божественным. Приносил изредка домой жене и импортные вещи, привезенные коллегами из заграничных рейсов. Денег особых не было, выручала мать, работавшая швеей, да летние накопления. И очень уважал кОфЭ, так и говорил с ударениями на эти две гласные. А мы всегда знали, что привезти ему в подарок.
…
Вечерами я уговаривала родителей ходить на вокзал, провожать и встречать поезда. А позже, когда уже хорошо читала, всегда останавливалась около бюллетеней о междугороднем обмене, потому что мечтала переехать жить в это райское место, где «сладкие палички» можно есть хоть каждый день…
Часть вторая
…
В Симферополе жила еще одна наша родственница – мамина двоюродная сестра, тетя Ира (по паспорту она была Героида, таким патриотичным именем нарекли ее родители). Она москвичка, отца в конце тридцатых репрессировали, жилье конфисковали, мать ее уехала жить в Подмосковье, где вскоре и умерла.
Девочка воспитывалась в детском доме, в восемнадцать познакомилась с молодым курсантом, выскочила за него замуж и уехала по распределению мужа. Помотались по гарнизонам, а после отставки мужа им было предложено выбрать город дальнейшего проживания, остановились на Симферополе, где и получили небольшую однокомнатную квартирку почти в центре.
Когда Героидин папа освободился полностью, долгое время разыскивал своих родственников. Помню, уже в конце семидесятых вдруг приехал к нам, моя бабушка была его родной сестрой по отцу (по этой причине тесно и не общались). Они долго плакали на кухне, потому что считалось, что дед Федор давно погиб. В лагерях он провел в общей сложности около 20 лет, потом жил на поселении, так там и остался доживать свой век.
Встретил женщину, женился, но мысль об утерянных родственниках не оставляла. Когда жена умерла, отправился в Москву. Здесь он отыскал нас, а потом навел справки и о своей дочери. Так мы все и нашли друг друга. А я была просто счастлива, что у меня появился еще один дедушка.
…
У тети Иры мы и останавливались с однокурсницей, когда приезжали в Симферополь в студенческие годы договариваться о летнем трудовом отряде. Ездили на майские, в поезде было весело, с песнями под гитару – студенты традиционно ехали в Крым в турпоходы, выбираясь на длинные выходные или в каникулы.
Мечтала о походах по Крыму и я. Наша школьная туристическая группа на Кавказ выбиралась, а в Крым так и не собрались. Хотелось бы, конечно, через Карадаг рвануть, как некогда удалось моей маме, но у меня не случилось…
Возможно (а я верю, что в жизни все не случайно), мы смогли бы встретиться с моим мужем и раньше, на отрогах Карадага или на биостанции, потому что вся его детско-юношеская история связана именно с Феодосией и Судаком. Мы, вспоминая теперь былые годы, частенько отмечаем, что были в одних местах в одно и то же время. Но случилось, как случилось…
…
В Судаке и Коктебеле (на тот момент – Планерском) мне довелось побывать осенью, в Волошинском сентябре…
После второго курса мы с подругой поехали на турпоезде (были и такие), заработав деньги на путевку в летнем трудовом лагере. Были и в Феодосии, и в Старый Крым заезжали. Работами Айвазовского я могла наслаждаться часами, чувствуя где-то в глубине души, что это моя главная стихия.
В Феодосии наш поезд стоял рядом с Золотым пляжем, и теплая осенняя погода дала возможность понежиться на его прекрасном песочке и переварить многочисленные впечатления, полученные в той поездке…
…
Затем два года подряд наш курс работал летом в Крыму. Первый раз – почти два месяца в совхозе «Пригородный» под Симферополем собирали фрукты, а потом перерабатывали их на местном консервном заводе. Совхоз считался тогда зажиточным – нас поселили в общежитии квартирного типа со всеми удобствами, кормили в хорошей столовой, субботними южными вечерами устраивали дискотеки под открытым небом.
Эх, юная беспечность и бесконечное далеко впереди – как это было прекрасно.
Заработали мы тогда прилично, да еще и культурную программу нам совхоз организовывал, ездили на экскурсии в Бахчисарай и Севастополь, а по выходным на совхозном автобусе нас возили к морю.
Многие мои однокурсники на море и не были ни разу до этого момента, а кто-то и после. Поэтому программа была обширной, объехали весь Крым, благо цены на билеты были тогда для студентов вполне подъемными – ездили и в Евпаторию, и в Ялте с Алуштой побывали, конечно, Никитский ботанический посетили, Симферополь обошли вдоль и поперек… Да, было времечко.
Второй раз – отряд поехал на пивзавод в Евпаторию, но это уже был год преддипломной практики, поэтому я в его организации участия не принимала, хотя по иронии судьбы оказалась в это же время в Евпатории и встречалась со своими однокурсниками довольно часто… Все-таки, мир тесен.
Останавливались мы по-прежнему у Соловьевых. Нас здесь принимали уже, как родных, даже денег за проживание брать не хотели. Жили мы теперь в доме с хозяевами.
Через несколько лет после Макса в семье родилась дочка - Вика. Теперь уже она бегала за нами по вечерам, потому что дома было скучно, а тут новые впечатления.
Крым по-прежнему оставался любимым местом отдыха и, как говорится, ничто не предвещало…
Часть третья
…
Следующая часть моей крымской эпопеи происходила в настоящем периоде новейшей истории.
В 90-е мы приезжали в Крым уже со следующим поколением нашей семьи, НО это была другая страна. Правда, поначалу не очень хотелось в это верить.
…
Помню, в 95-м собрались впервые вывезти дочь на море. В Евпаторию на целый месяц – специально на работе договорилась, чтобы сразу месяц отпуска дали.
Билеты - проблема, за 45 дней с трудом удалось купить на боковые полки плацкарта, хоть не у туалета. Боковые - это даже хорошо, простыней завесился – отдельное купе.
Впервые мы ехали в таком культурном плацкартном вагоне. Тишина, интеллигентные разговоры, дети шепотом общаются, не бузят, не хулиганят. Попутчики - довольно обеспеченные люди (не малиновые пиджаки), как и мы, не успевшие купить другие билеты, говорят, все забирает украинская сторона. Обратно возвращались с артистами Большого театра – любопытная поездка получилась…
Не обошлось и без неприятностей – попали в инфекционную больницу Евпатории. В это отделение дочь определили с высокой температурой и безудержной рвотой примерно через две недели нашего отдыха. В то лето выдалась какая-то особенная активность солнца. Даже слух пустили, что в степи проводятся радиоактивные испытания.
Это было не похоже на наш традиционный отдых – медицинской страховки нет, как-то еще об этом не думалось, а страна уже другая. Врачи вдрабадан пьяные, диагноз на глазок, обстановка в больнице та еще, сплошная разруха, сидела рядом с больничной кроватью на каком-то ящике… в общем, написала отказ, и ушли в ночь после нескольких часов капельницы с физраствором. К счастью, все закончилось благополучно.
Да и море преподнесло сюрприз – 16 градусов, и это в середине лета. А жара нешуточная…
…
Потом еще пару лет ездили в Евпаторию, но уже организованным образом, появилась такая финансовая возможность. Останавливались в тургостинице «Евпатория» в новом корпусе - многоэтажном, современном, с хорошими номерами.
По вечерам ходили гулять в Курзал – концерты, аттракционы, профессиональные фото в костюмах, но и поесть тоже. Там на набережной жарили обалденные куриные окорочка (наверное, «ножки Буша»). Однажды урвали последнюю порцию, оставшиеся предназначались для группы Валерия Леонтьева, который выступал в тот момент в Евпатории. А на набережной открылись рестораны известных медийных персон, что было по тем временам в новинку.
Утомившись солнцем и пляжем, поехали на экскурсию в Севастополь на теплоходе, даже каюту оплатили. Погуляли, на экскурсию и в дельфинарий сходили, отличная поездка намечалась. А на обратном пути попали в ужасный шторм – почти «девятый вал».
Страшно это было, скажу я вам, когда волны в два раза выше теплохода, на ногах невозможно удержаться, да еще и организм сопротивляется. Удивило, что лавочки на открытой палубе, куда мы пошли подышать, не были привинчены к полу. Буквально ползли на коленях обратно в свою каюту.
К нам и другие пассажиры присоединились, с которыми в Севастополе вместе гуляли. Так мы еще и шутили на тему – «я вас на этот корабль двадцать лет собирал»… Но местами было не до шуток.
Выручила российская военная гавань Севастополя, приняла к себе. К гражданским причалам пристать не удалось - теплоход, помотавшись в открытом море, вернулся в порт.
А как обратно возвращаться, люди же и без документов, и без средств, на однодневную экскурсию поехали, вечер уже, ночь почти. Частично обратную дорогу возместили, но крайне немного.
Мы с семьей возвращались на поезде дальнего следования в Симферополь – проводница сказала, что впервые у нее пассажиры в купе (других билетов не было) едут по такому короткому маршруту. Ночью в Симферополе буквально ввалились нежданными гостями к тете Ире. Переночевали, а утром отправились на автобусе в Евпаторию, в свою тургостиницу. В общем, целое приключение получилось…
…
В следующий приезд решили отдохнуть спонтанно, заранее ничего не планируя.
Проехались по Южному Берегу Крыма, остановились в Кастрополе – замечательном захолустье на самом юге Крымского полуострова. Красота - природа, горы, но кроме инфраструктуры пансионата, весьма скромной, нет вообще ничего.
И дефолт 1998 года застал нас именно в Крыму. На обратную дорогу хотела поменять доллары на гривны, небольшую сумму, а сдачи нигде не было. Так за мной бежали люди от обменника к обменнику, чтобы купить мою сотню «баксов». В итоге пришлось менять всю сотню и тратить немалую сумму гривен – и в Крыму, и на стоянках поезда.
Впервые почувствовала себя очень обеспеченным человеком.
…
В июне 2008 года поехали с мамой на недельку освежить воспоминания, слишком многое было связано с Крымом и Евпаторией...
В Евпатории на станции практически сразу нашли женщину, которая за 20 долларов в сутки сдавала квартиру «под ключ» на улице Фрунзе (центральная улица, идущая от вокзала). Недалеко от автовокзала, потому что хотели объять необъятное.
Вода холодная по расписанию, ситуацию с горячей могла спасти газовая колонка, но поселившись в Евпатории в квартире на третьем этаже, мы поняли, что и это не панацея, колонка не включалась при слабом напоре воды, а он почти всегда был слабый – на дом воды явно не хватало. Еще и с электричеством случались проблемы.
Но, как бы то ни было, за 6 дней отпуска успели и в Никитский ботанический смотаться, и Ялту посетить, и по Симферополю погулять, и к тете Ире заехать.
Она уже почти ничего не видела, но все плакала, что так и не попала на свою Родину…
А мы с мамой гуляли по Евпатории и удивлялись… нет, не переменам. Перемены были только на наших любимых пляжах, которые загородили на много километров и сделали платными – традиционный маршрут пришлось изменить.
Все остальное было из прошлой жизни – вот обшарпанная больница, в которую нас привезли, когда я в детстве пробила себе голову. Столовая на своем привычном месте, и даже ассортимент не поменялся – лишь цены в других денежных единицах.
По Старому городу бродили, массируя ступни вековыми булыжниками – все, что было разрушено, разрушилось еще больше. И к Соловьевым заглянули, лучше бы не заглядывали. Запили наши ребятки, но даже в таком состоянии узнали своих московских знакомых.
Третья история получилась совсем не оптимистичной, но жизнь - она такая, полосатая.
…
К счастью, есть продолжение, когда Крым снова стал «моим», и я с удовольствием начинаю постигать его в новом качестве.
Но это уже совсем другая история…
Свидетельство о публикации №225091801013