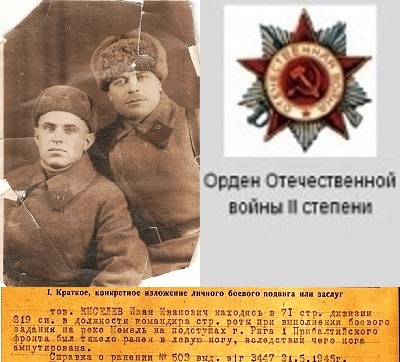2 22 июня 2025
Война решалась в каждом окопе, на каждом метре линии фронта. Такой взгляд у меня от деда. И даже не благодаря его редким, не многословным, но очень точным в деталях рассказам.
Скорее от его жизненного пути. От его отношения к своему вкладу
в общее дело победы. Он считал его очень незначительным.
Мог даже весьма саркастично пошутить о своей потерянной ноге.
Да так, что я даже не решаюсь процитировать вам его основное высказывание. Вообще, о себе почти ничего.
Всё больше о погибших. После смерти прабабушки в 1954-ом,
старшей в семье осталась моя бабуся Дуся, а дед уже с войны среди своих был старшим. Вот на Пасху у них все и собирались.
Вторым по возрасту мужчиной уже во второй половине пятидесятых был мой тридцатилетний отец.
Он, кстати, подростком, вместе со сводным братом, ровесником, дважды бежал на фронт. Были они тогда в эвакуации в Горьком (Нижнем Новгороде). Отчим отца был крупным военным чиновником.
Они - таки успели призваться на курсы шоферов. Остались и военный билет, и водительские права с почти детской фотографией.
Но война закончилась.
Запомнилась ранняя апрельская Пасха, 1961-го. Девятого апреля.
Год, апрель уж очень памятные. Полёт Гагарина.
Но и наши события. Впервые в новой квартире, на Птичке.
И другие семейные пертурбации всякие…
Отец всегда тамада. Мама в командировке была. Мужики все выпили очень прилично. Кроме деда, конечно. Стали настойчиво деда расспрашивать. Кроме папы ни один из зятьёв тестей своих не видел.
Их за столом сразу трое было.
И дед рассказал, как в начале сорок второго встретил вдруг сразу
и брата, того, что в санитарах, и шурина (правда, мягкое, приятное слово), и свояка, ещё одного. Ещё и несколько соседей.
В один день же пришли в Пролетарский военкомат.
Так и служили вместе.
- Все живы были. Их часть после очень короткого перерыва возвращали
в район Ржева. Я ж тогда в Москву ехал и им (он кивнул на матерей – вдов) всё передал.
И ещё буквально по несколько слов о каждом.
Всего по несколько, но очень весомых. Без надрыва, но чувствовалась его скорбь. Не обошлось, понятно, без женских слёз.
А я, одиннадцатилетний, запомнил – Ржев!
Да, я хорошо помню то время, когда только начинали говорить
о Брестской крепости. И цитаты Ольги Берггольц «Никто не забыт, ничто не забыто» ещё не было. А уж главной, «программной» в нашем отношении к той страшной войне она стала гораздо позже.
Ржев?! О нём даже в мемуарах маршалов маловато.
В одной книге (не поверите) и вовсе только даты.
А ведь Твардовский ещё в 1946 написал: «Я убит подо Ржевом…»
Помню, в школе, в шестьдесят пятом друг мой, Грачик, парень, много знающий и хорошо соображающий, выбрал было стихотворение для чтения на конкурсе, но сразу отказался. Огромное! Страшное!
- Слав, что это он (Твардовский) расписался так. И вообще, почему именно Ржев? У него (Твардовского) что-то личное? Наверное, кто-то близкий там погиб?
Сейчас, я бы ему напомнил, что его отец, десантник, воевал как раз в тех краях. И что у дяди Володи, как и у деда моего, почти совсем нет однополчан. Что мои два родственника лежат там в одной братской могиле. (Один них долго числился «без вести пропавшим».)
Что в очень правильном месте есть у нас теперь величественный мемориал. Ехали мои дети недавно на Селигер.
Я пишу им:
- Не поленитесь, ничего, что не по дороге.
А они мне в ответ сразу фотографии. Они у меня понимающие.
Без напоминания.
Я и почему стихотворение получилось таким длинным, очень старательно сейчас объяснял бы.
Но тогда просто сказал Андрею:
- Там много, кто погиб.
Больше мы к этой теме никогда не возвращались.
Да, я ещё не готов был формулировать, но отношение и ощущения, привитые дедом, уже присутствовали. Как неотъемлемый элемент самоидентификации. Ни какой-то абстрактный патриотизм,
а отчётливое осознание того, что для меня значат общность людей вокруг, мои близкие, мой город. При этом я вовсе не ощущал
какого-то ущемления своей индивидуальности.
Но хватит о себе, дорогом.
Ржев с его не очень далёкими окрестностями можно даже считать эпицентром нашей войны. Три года, не только наша, тоже ведь длительная наступательная операция. Скорее всего, именно здесь самое большое количество военных могил в истории.
Иногда, по аналогии с Верденом, пишут – Ржевская мясорубка.
Очень мне это слово не нравится.
Да, колоссальные, трудно исчислимые наши потери.
Но я уже писал: на каждом метре, в каждом окопе – а ими-то изрыта
огромная территория. Наша территория!
Создать полную энциклопедию Великой Отечественной очень сложно.
Совсем уж ничего не упустить, наверное, невозможно.
Но стараться надо! Продолжать искать, восстанавливать, обозначать места и имена. И правильно, что много чего делается и пишется по теме.
И знаете, у нас ведь огромное преимущество перед теми, кто пытается переиначить и извратить историю.
В каждой семьи, точно, в каждой, кроме знаний, полученных на разных уровнях образования, есть ещё и внутрисемейная история.
Тут уж никак не зачеркнёшь тот самый «каждый метр».
Они ведь все и на карте присутствуют. На нашей карте.
Их наши деды, они там, по сию пору охраняют.
И всегда будут. А понадобиться усиление караула?!
Так, сколько там у нас на линии добровольцев?
В СССР, в начале девяностых было семьдесят два миллиона семей.
72000000 дополнений к любым учебникам, справочникам и монографиям. Многие, конечно, теперь за границей. За рубежами.
И те, которые ещё и за границами совести, врут, понятно почему, нещадно. Не понимают, что себя самих коверкают.
Ведь память почти синоним личности.
Но таких ничтожное меньшинство.
А большинство, где бы они сейчас не обретались, и помнят, и говорят,
и пишут. Я это точно знаю - полно респондентов и за ближними, и за дальними рубежами. К тому же, не все, но очень многие ещё и расширяют свои знания. Хотят до деталей, досконально знать, что, где и как произошло, с их давно и далеко ушедшими близкими.
И благодарность, и чувство связности, и гордость.
Вот Грачик мой со мной, лучшим другом, ничего больше не обсуждал,
но я от папы его, дяди Володи, знаю, что они даже в Вязьму ездили.
Ох, и рассказ у меня о нём, о них есть. Рассказище!
А здесь одна только забавная деталь.
Скажите, неуместное, как выше в тексте «спокойствие», слово при такой тематике. А вот и верное, и о радости.
Недавно уже нашёл. В документе о нём последние строки, как и положено, дата смерти в сорок третьем и место захоронение в Киевской области. А несколькими строчками выше, за двоеточием о наградах, медали за взятие Кенигсберга и победу над Германией.
Про 6-ю армию. Понимаете, конечно, что тщательно выискивал.
Геройская. И в Сталинграде была, и на Курской дуге, а вот границу тогдашнего СССР не переходила. И Кенигсберг не брала.
Ту последнюю сотню (даже меньше) километров до Риги, уже без деда, ещё девять месяцев вырывала, а Он (враг) цеплялся изо всех сил.
И даже после 9 мая 1945-го не все части противника прекратили сопротивление. Не думаю, что там было проще, чем в Берлине.
А написано на порядок меньше.
Ну, вот опять моя, может быть, не совсем дурная, но порой раздражающая даже меня самого привычка - не дописывать, намекать, аннотировать. Прям какой-то литературный и одновременно маркетинговый приём получается. И ведь оправдания всегда находятся. Вот и сейчас! Хотелось всё одним днём закончить.
Дату в заглавие вынес. Не получилось.
Непросто так ведь число-то наверху разместил.
О сегодняшнем, нынешнем, спасённом, дарованном нам, потомкам, народу младшему великим, героическим старшим нашим народом.
В какой день и о каком дне!
А про деда просто потому, что не забываю, почитаю и люблю.
Детали, мелочи всякие, в абсолютном большинстве своём добрые, весёлые просятся в текст. Ведь дед-то со мною был всю свою послевоенную мирную жизнь. Именно мирную.
Дорогой мой, мирный совсем человек.
Да только не просто, совсем не просто. Тема держит.
И я за неё крепко держусь. Иначе нельзя.
Вслед за Иваном Ивановичем Киселёвым, рядовым – старшим лейтенантом, всеми его военными дорогами, вы, конечно, уже поняли,
я по всем сводкам, по всем картам уже не единожды прошёл.
А вот, когда в школе к Дням Победы, к годовщинам сочинение задавали
принято было у нас в семье о последнем его бое писать.
И я, и дочь, и внук. И всегда на «отлично»! Думаю, что, прежде всего деду учителя эти «пятёрки» ставили. Вот и за них ему спасибо!
Помню, в тот единственный раз, на Воронцовской, значит,
до шестидесятого… А вот уверенно уточняется: у родителей разлад был, мы недели две там жили, жена от дядьки ушла, кроватка сестрёнки исчезла, места больше стало, но спали всё равно на полу…
Однополчанин тот на несколько дней с Целины приехал,
но вообще-то местный (Пролетарский военкомат), ночевал не у нас, имени не помню. Но вот знаю, что музыкант. Почему?
Отец явился, с лучшим другом для усиления, нас забирать.
Доводы весомые: в школу мне скоро, да и дед Большой (другой,
я его так называл) дом на даче построил. Пора туда.
Вообще-то участки дедам одновременно дали, кампанию такую Никита Сергеевич с компанией проводил, но Большой был побогаче Маленького и отстроился раньше.
А тут вдруг и Витька с женой, уже без коляски. Сестрёнка моя любимая, Маринка (как и жена), сразу ко мне, новой куклой хвастаться.
Они, оказывается, тоже успешные мирные переговоры провели.
Ну, ясно – июнь 1957-го.
Полным-полно приятных тем для обсуждения.
Да, ведь и отец недавно с Целины - выездным секретарём комсомольским в Кустанае был.
Но говорили о войне. Дед выпивал наравне со всеми.
Кстати, и здесь полно намёков – экивоков, совсем даже не хитрых отсылок. Память настаивает – мир ведь, мирная жизнь!
И всё-таки о том самом, их последнем бое.
Слушали рассказ редкого гостя. И мы, дети не мешали.
Чуть было про соседей не забыл, они тоже здесь всей семьёй.
«Ванюша, его так батальонный называл, мы-то, понятно, Товарищ командир, это я сейчас такой смелый, ещё со вчерашнего присмотрел
местечко на берегу. Там такой мыс небольшой, несколько валунов,
так что можно переступить с плотика, ног не промочив.
Что б потом не натереть. И выше густые кусты, не сразу заметят.
Переправлялись – не били. Не проспали, конечно, видели – не очень
там удобно, хотели вчерашнее повторить. Да и всего-то минут пять.
Речка-то не Днепр, не Неман, не Двина (Западная, Даугава).
Выскочили, командир первым, и сразу вперёд. Быстро, но не бегом.
Берег, кочки, бугорки и, вообще, подъёмчик. Тут полетело.
А он идёт. И «Ура» не кричит. И не стреляет, для ТТ далековато.
И только рукой всё показывает, как дирижирует – вперёд, вперёд.
Рота у нас уже опытная была. Многие, как я, с самого переукомплектования. Вместе с командиром пришли.
И вчерашняя взбучка даром не прошла. Да, и стыдно было не идти.
Вдруг меня по всей спине и ниже как наждаком и кипятком одновременно. Будто я спиной к врагу повернулся. Но это для тех только, кто не понимает, что как взрывается. И тут и командир падает. Странно как-то закрутило его. Я к нему…
А дальше Сашка нас попеременно за шиворот к берегу и в лодку.
Он покрупнее нас был и жилистый. Только как его хватило не понятно.
Ему же самому аж в нутро залетело. Так он ещё сообразил чуть ниже по течению спуститься. Там помогли. А в медсанбат мы ввалились втроём под ручки, как загулявшая компания. Тут нас сразу и разделили.
Я самый лёгкий оказался».
А дед прерывает, комментирует. Только сейчас понял – свидетельство очевидца, сторонний рассказ у меня ж только один.
Дед всегда (очень ведь нечасто) был лаконичен и точен. Как бы на вопросы отвечал. Эмоции прятал.
А у друга всё ярко раскрашено.
Я, конечно, не дословно передаю. Маленький был. Не всё понимал.
Но, знаете, в некоторых случаях, детская память полезнее взрослой
аналитической. Я сейчас как кино прокручиваю…
Тут дед, в своей манере. Пафос гасит.
«Мы там (в медсанбате) самыми первыми были. Ребята всё сделали уже без нас. Я и узнал-то, что закрепились не сразу, только в Москве.
Когда подвозить выживших стали».
«Да, получилось так, что фриц окопы не для себя, для нас копал. Только чуть подправить».
Это уже не дед. А вот нужны всё-таки образность и метафоричность.
Без них мальчишка вряд ли что-нибудь запомнил.
И продолжает.
«Я хоть и самый лёгкий из трёх, но кожу и задницу (прямо так) пришлось, чуть ли не до нового года наращивать. И не комиссовали меня, но на фронт не отправили, послали что-то копать совсем близко
от дома на Таганской площади. Тут я и услышал, что Иван ещё лечится.
Сразу не получилось, но на сорокалетие твоё (деду) вошли в положение,
уважили, скорее тебя, чем меня, я ж всем рассказывал. Среда была,
к вечеру, чтоб твои дома оказались, отпустили. Дуся с Раечкой наверняка помнят, как я пришёл. Не сюда, а в ту первую комнату,
в третьем подъезде. А ты в Алма-Ате, на яблоках. Подарки на стол,
я ж готовился. Вдруг звонок, думали Витька с работы.
Нет – почтальонша. Конверт из мирных времён с обратным харьковским адресом, а в нём фотография.
Сашка в лейтенантских погонах.
За полгода успел и вылечится, и курсы закончить. Жилистый.
Вы, оказывается, переписывались. И товарищ командир для него уже Ванюша и братишка. А я сам виноват, не шевелился. Фото решили тебе не отсылать. Ты уже должен был вернуться вскоре. Кто ж знал, что снова в госпиталь. Ну, хоть в Москве. А я как раз уехал. С того момента, правда, переписку как-то наладили. А встретились, помнишь, только в Харькове, на похоронах. Потом вместе сюда уже, на пятый. Этот (он притянул меня к себе) ещё не ходил. (Значит, 1950-й).
Всё за медали меня дёргал. Балкон большой. Курили… С тобой (соседу).
Иван-то, уже бросил. А тебя, Виктор, я опять не увидел.
Ты в армии, в Германии был. А мы с отцом туда не дошли.
А познакомились мы потом уже, не у вас. Как же так вышло, что ты невесту нашёл в моём дворе, на Остаповском».
Дядька кладёт на кровать уснувшую Маринку. Наливает.
Тётя Элла забирает у него стакан. Он не сопротивляется.
Условие перемирия. Да, я тогда уже понимал, что и как.
Я уже признался вам, что собирался закончить текст одним днём.
С простой идеей: вот оно начинается, моё во всём благополучное, комфортное воскресенье. С прекрасного вида на любимый город.
С манящего аромата кофе, который я, конечно, не премину закрепить
вкусом. На столе, за спиной уже кипит чайник. С забавных стишков, которые можно и не дописывать. Со светлых и добрых, несмотря
на День Скорби, да нет, благодаря ему (да-да, Дню Скорби), воспоминаний. Вскоре и Маринка, жена придёт из довольно далёкой
от кухни спальни. Она по-прежнему, несмотря на долгую уже жизнь, энергичная и красивая. И это не дежурный комплимент, не подмена действительного желаемым, не аберрация зрения и сознания, неизбежно присущие характеристики любви. Бессмысленно скрывать свой возраст.
Посмотрите фотки! А дети, внуки… Кто-то вдруг появится без предупреждения, а кто-то, наоборот, пропадёт дня на три.
Не всё, не всегда безоблачно. Вот и погода сегодня не задалась.
И Миру, понятно, пора бы задуматься. Припомнить те самые уроки.
Но ведь есть уверенность, что всё решаемо. И вовне и внутри.
Знаю, многие сейчас возмутятся. Что-то ты, старый, раздухарился!
Как это так, Благодарить День Скорби?
А вот как! В то, очень похожее, непогожее воскресенье, восемьдесят четыре года назад мой дед, моя пятнадцатилетняя мама, моя будущая таганская и сухаревская родня, весь мой великий город, который я довольно скоро полюблю и изучу, вся моя огромная страна, весь мой, такой разный и такой единый народ (да, весь-весь, поскольку всяческого рода шушара и шваль в понятие «мой» не входит)
осознали, что нормальная жизнь их, их судьбы откладываются на неопределённый срок, а для очень многих вообще отменяются.
Поняли, но не приняли с покорностью и обречённостью,
а вовсе даже наоборот – приняли бой. Страшный, долгий…
И победили!
11.10.2025. День Народного ополчения.
Окончание следует. 3 22 июня 2025.
11.10.1941 года Пик боёв советских частей, окружённых в районе Вязьмы.
11.10.1942. Наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда и в районе Моздока.
11.10.1943. Битва за Днепр.
11.10.1944. Мемельская операция.
Свидетельство о публикации №225101101567