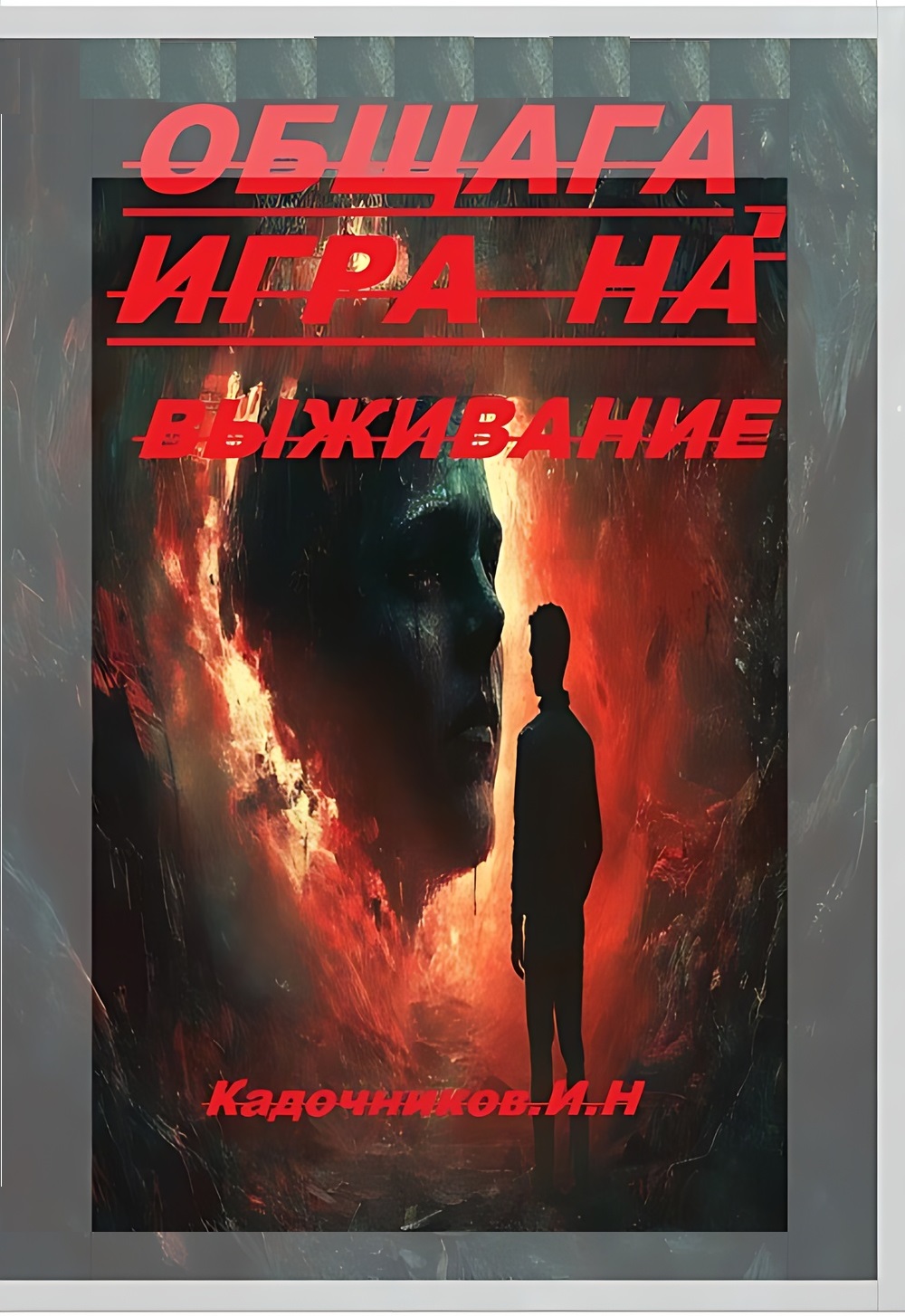Повесть о Валентине Шин
Последняя память о доме – это запах. Пахло тлеющими углями в печке, соленым ветром с Японского моря, который доносил аромат влажных водорослей и свежего лова, и сладковатым дымком от печеных на углях каштанов. Маленькому Валентину, которому едва исполнилось семь лет, этот запах казался вечным и незыблемым, как шум прибоя или скрип половиц в их небогатом, но крепком доме на самой окраине крошечного поселения, затерянного в сопках на границе Северной Кореи и Советского Союза.
Той ночью, ровно в середине осени 1945 года, когда мир за окном был непроглядно черным и густым, как вар, его разбудил не запах, а звук. Не резкий, не пугающий изначально, а глухой, утробный – стук приклада о деревянную дверь. Не стук соседа, пришедшего за углем, и не ветра, который часто гулял по щелям. Это был тяжелый, официальный стук, не терпящий возражений.
– Открывай! НКВД!
Голос был таким же, как стук – обезличенным, металлическим, лишенным всякой теплоты. Валентин не понял аббревиатуры, но интонацию схватил мгновенно. Он вжался в тонкий матрас, набитый сухой травой, почувствовав, как по спине пробежали мурашки.
Отец, Ким Шинн, человек с лицом, изборожденным морщинами и ветрами, мгновенно встал с постели. Валентин видел его силуэт в проеме двери в главную комнату – прямой, собранный, но в напряженных плечах угадывалась тревога. Мать, Ли-Хва, тихо ахнула и прижала к себе младшую сестренку Сон-Ю, которая даже не проснулась.
Дверь открылась. В проеме, заливаемом слабым светом керосиновой лампы, возникли две фигуры в длинных шинелях и ушанках. На груди – зеленые ромбы петлиц. Один, старший, с бесстрастным лицом, держал в руках бумагу. Второй, помоложе, стоял чуть сзади, его рука лежала на кобуре револьвера.
– Ким Шин? – спросил старший, сверяясь с бумагой. Его голос резал тушину, как нож. –Я, – тихо, но четко ответил отец. –Семья: жена Ли-Хва, сын Валентин, дочь Сон-Ю. Так? –Так.
Валентин удивился: откуда они знают его имя? Его корейское имя было Ын-Хо, но в школе, куда он только-только начал ходить, учительница, русская женщина, сказала, что ему нужно «правильное, советское» имя. Так он стал Валентином. И вот теперь это имя прозвучало из уст ночного гостя, отчего оно стало казаться чужим и опасным.
– На сборы час. Берите только самое необходимое: одежду, еду на трое суток, личные вещи мелкие. Скот, имущество, ценности – опишем и реквизируем. Неподчинение – расстрел на месте. Ясно?
Мать тихо вскрикнула и упала на колени. Ее беззвучные рыдания были страшнее любого крика. Отец не дрогнул, только скулы на его лице напряглись и заиграли.
– Куда? За что? – только и смог он выговорить.
Солдат НКВД посмотрел на него пустыми, ничего не выражающими глазами. –По решению Государственного Комитета Обороны. Как неблагонадежный элемент. Выселению подлежите. Вопросов не иметь.
Он отступил на шаг, дав понять, что разговор окончен. Второй солдат вошел в дом и занял позицию у печки, наблюдая.
Началась лихорадочная, сюрреалистичная суета. Отец, не говоря ни слова, стал сдергивать с гвоздей теплые вещи, валенки. Мать, с трясущимися руками, собирала в узел еду: немного вяленой рыбы, лепешки из кукурузной муки, завернула в тряпицу горсть сушеных яблок. Валентин, словно во сне, надел свою лучшую, праздничную рубаху, поверх – поношенный свитер, а затем и стеганую телогрейку. Он смотрел на свои руки, выполняющие привычные действия, и не мог понять, реально ли это.
Он видел, как мать, плача, спрятала в складки своей юбки маленькую фамильную печать из темного камня, единственную память о ее отце. Видел, как отец сунул за пазуху потрепанный корешок книги – сборник стихов Пушкина на корейском языке, который он берег пуще глаза. Это и было их «самое необходимое» – не вещи, а обломки прошлой жизни.
Ровно через час они стояли у ворот. Валентин оглянулся. Их дом, темный и безмолвный, казался уже нежилым. Собака, которую не выпустили из конуры, тихо поскуливала. Отец нес на спине огромный узел, мать прижимала к груди спящую Сон-Ю и другой рукой держала корзину с едой. Валентин нес свой маленький узелок и пузатый чайник.
К воротам подкатил крытый брезентом грузовик. В кузове уже сидели люди – их соседи, корейская семья Пак. Их лица в свете фар были бледными, застывшими в маске ужаса. Никто не плакал. Шок был слишком глубок.
– По местам! Быстро! – скомандовал солдат.
Их втолкнули в кузов. Брезент захлопнулся. Мотор рыкнул, и грузовик тронулся, подпрыгивая на колеях. В полной темноте, в гуле мотора и лязге кузова, Валентин прижался к отцу. Он чувствовал его сильную, жилистую руку на своем плече. Это было единственное, что еще связывало его с миром, который всего час назад был таким прочным и понятным.
Глава 2. Путь в никуда
Дорога до вокзала казалась вечностью. Сквозь щели в брезенте Валентин видел проплывающие огоньки родного поселка. Вот мелькнуло окно школы, вот знакомый поворот к речке, где они летом ловили рыбу. Потом огни кончились, и осталась только тьма.
На вокзале царил ад. Он был залит неестественно ярким светом прожекторов, которые выхватывали из мрака тысячи людей. Корейцы. Старики, женщины, дети, мужчины. Все были с узлами, чемоданами, корзинами. Стоял гул – плач детей, приглушенные разговоры, окрики солдат НКВД с винтовками наперевес. Воздух был густым от страха и пыли.
Их построили в колонну и под конвоем повели к товарному составу. Вагоны, так называемые «теплушки», были без окон, только наверху, под самой крышей, маленькие зарешеченные окошки-продухи. Внутри – двухъярусные нары, посредине – буржуйка. Вагон пах кожей, по;том, махоркой и чем-то еще – отчаянием.
– По восемь семей на вагон! Рассчитывайтесь! – кричал офицер.
Их втолкнули внутрь. Валентин, его семья и семья Пак оказались в одном углу. Места было в обрез. Сидели вплотную друг к другу, поджав ноги. Дверь вагона с грохотом задвинули, снаружи щелкнул замок. Они были в заточении.
Поезд тронулся рывком. Сначала медленно, потом набрал скорость. Стук колес «та-та-та, та-та-та» стал саундтреком их нового существования. Первые сутки почти никто не разговаривал. Люди сидели в оцепенении, пытаясь осмыслить случившееся. Сон-Ю плакала, спрошенная, куда они едут. Мать, гладя ее по голове, шептала: «В хорошее место, дочка, в хорошее место». Но ее глаза говорили об обратном.
Через день начали устанавливаться странные, вынужденные порядки жизни в вагоне. Были выбраны староста (им стал отец Валентина, как один из самых грамотных) и санитар. Выдавали паек: хлеб, селедку, кипяток. На остановках, редких и коротких, под конвоем выпускали справлять нужду. Валентин, прильнув к щели в двери, видел мелькающие пейзажи – бескрайние леса, поля, чужие города. Россия была огромной, и эта огромность пугала.
Он подружился с сыном семьи Пак, мальчиком по имени Юра, которому было тоже семь лет. Они сидели вместе на нарах и шепотом строили догадки. –Может, нас везут на фронт? – спрашивал Юра. –Война уже кончилась, – с важностью отвечал Валентин, вспоминая слова отца. –Тогда зачем мы? Валентин не знал ответа. Он только чувствовал, что старый мир, где были дом, школа, море и каштаны, остался там, далеко позади, и обратной дороги нет.
Отец иногда по вечерам, при свете крошечной коптилки, сделанной из консервной банки, читал вслух стихи Пушкина. Голос у него был тихий, глубокий: «Мороз и солнце; день чудесный!..» Люди в вагоне затихали, слушая. Эти строки о красоте и свободе были глотком воздуха в зловонном, душном пространстве, напоминанием, что где-то существует другая жизнь.
Шли дни. Поезд неумолимо вез их на восток. Или на запад? Валентин уже потерял ориентацию. Пейзаж за щелью менялся. Леса поредели, сменившись бескрайними, плоскими, желтыми просторами. Пахло по-другому – пылью, полынью, сухостью.
Однажды утром поезд, наконец, затормозил и встал. Не на очередном разъезде, а окончательно. Снаружи послышались крики, лай собак. Задвижка грохнула, дверь откатили.
;
На них хлынул поток холодного, резкого воздуха и ослепительно яркий свет. Офицер НКВД залез на подножку вагона.
– Прибыли на место! С вещами – выходить! Строиться! Добро пожаловать в Казахстан!
Глава 3. Голая степь
Валентин выпрыгнул из вагона и на мгновение замер, пораженный. Он никогда не видел ничего подобного. До самого горизонта простиралась абсолютно плоская, желто-серая земля. Ни деревца, ни кустика, ни одного холма. Только высохшая, потрескавшаяся почва, кое-где поросшая жесткой, колючей бурьяном. Небо было огромным, бездонным и холодным. Дувший в лицо ветер был не похож на их морской, влажный и соленый. Он был сухим, колючим, пронизывающим до костей, и нес с собой мелкую пыль, которая забивалась в глаза, рот, уши.
Вокруг, на огромном пустыре, толпились такие же, как они, переселенцы. Тысячи обреченных людей, сгрудившихся у своих скудных пожитков под неумолимым взглядом конвоиров. Стоял гул недоумения, отчаяния, детского плача.
К ним подошел местный представитель – казах в стеганом халате и тюбетейке. Его лицо было темным от загара и непогоды, глаза узкими, прищуренными. Он говорил на ломаном русском. –Земля здесь ваша. Живите. Стройтесь. Работать будете в колхозе «Путь Ильича». Первое время паек будет. Дальше – сами.
Он махнул рукой в сторону степи, как будто раздавал им несметные богатства, а не голую, выжженную землю.
Началось размещение. Никаких бараков, никакого жилья. Им указали на участок степи и сказали: «Ваш».
Отец Валентина, Ким Шинн, обошел их «владение» – квадрат голой земли – и снял шапку. Он долго смотрел на горизонт, потом на жену, на детей. В его глазах была не растерянность, а суровая решимость. –Жить надо, – коротко сказал он. – Копать будем.
Он взял единственную лопату, которую им удалось привезти, и ударил ею в сухую, твердую, как камень, землю. Мать, молча, взяла заостренную палку и стала помогать. Валентину дали жестяную миску – ею он отгребал выкопанную землю.
Они копали землянку. Яму метра два в глубину и три на четыре в ширину. Работа была каторжной. Земля не поддавалась, лопата отскакивала от спрессованных пластов. Руки сбивались в кровь. Ветер засыпал яму пылью, слепил глаза. Юра со своей семьей копал свою землянку по соседству.
К вечеру яма была готова. Сверху отец уложил несколько жердей, которые удалось найти на ближайшем скарбе (так называли место выгрузки мусора и отходов с других строек), натянул поверх брезент от их старого шатра и присыпал края землей. Пол устелили соломой, привезенной с собой из вагона.
Когда стемнело и подул ледяной ветер, они спустились в это подземное убежище. Было тесно, сыро и пахло глиной. Но здесь, под землей, не было этого пронизывающего ветра. Они сели вплотную друг к другу, спинами к глиняной стене. Мать раздала по куску хлеба и по глотку воды. Сон-Ю плакала от холода. Валентин прижался к отцу, чувствуя, как дрожит его собственное тело.
Он смотрел вверх, в щель между брезентом и жердью, и видел там холодные, чужие звезды. Они были такими же яркими, как и над его родным домом, но здесь они выглядели безразличными и жестокими. Так началась их новая жизнь. В землянке, в голой степи, на краю света.
Глава 4. Саман и надежда
Прошла неделя, затем другая. Жизнь в землянке стала рутиной. Днем родители уходили на работу – их, как и всех взрослых, гоняли на строительство первых бараков для администрации и на рытье колодцев. Валентин оставался с Сон-Ю. Он был маленьким стражем их подземного жилища.
Он научился различать звуки степи: завывание ветра в проводах (их кое-как натянули между первыми столбами), далекий лай собак из соседнего казахского аула, скрип проезжающих арб. Он видел, как по степи бродили стада овец и верблюдов, пасущиеся табуны лошадей. Казахи, коренные жители, сначала смотрели на новоприбывШинх с любопытством и недоверием, но иногда, самые жалостливые из них, подбрасывали детям лепешку или горсть кумыса.
Отец не сдавался. Каждый вечер, вернувшись с изнурительной работы, он не отдыхал. Он брал лопату и шел к небольшому солончаковому озерцу в километре от их землянки. Там он копал яму, смешивал глину с водой и соломой, которую они с Юрой собирали по степи, и месил ногами эту густую, холодную массу. Это был саман – кирпич-сырец.
– Из этого будем строить дом, – сказал он как-то вечером Валентину, пока они вместе месили глину. Руки и ноги у мальчика замерзали, но гордость от участия в большом деле согревала его изнутри. – Наш дом. Настоящий.
Отец смастерил деревянную форму и начал делать кирпичи. Их раскладывали на солнце для просушки. Процесс был медленным, титаническим. Но с каждой новой партией кирпичей, аккуратно сложенной в пирамиду, в их жизни появлялась крупица надежды.
Однажды ночью разразилась буря. Невиданной силы ветер рвал и метался по степи. Брезент над землянкой сорвало, как листок бумаги. Холодный ливень с градом хлестал прямо на них. Они вчетвером сидели, прижавшись друг к другу в промокшей насквозь яме, укрывшись единственным одеялом. Вода затекала внутрь, превращая пол в холодную грязь. Валентин плакал, зажмурившись, прижимаясь к мокрой телогрейке отца. Это была ночь абсолютного отчаяния, когда казалось, что сама природа восстала против них.
Но утро пришло. Буря утихла. Солнце взошло над мокрой, сверкающей степью. Они выбрались из своего затопленного убежища, продрогшие, грязные, но живые. И первое, что сделал отец, – подошел к своей кладке самана. Кирпичи, промокшие под дождем, немного размякли, но выстояли.
– Ничего, – сказал он, проводя рукой по шероховатой поверхности кирпича. – Подсохнут. Будем строить.
И они строили. Весь поселок, состоявший из таких же, как они, корейских и русских спецпереселенцев, медленно, с нечеловеческим упорством, поднимался из грязи и отчаяния. Рыли землянки глубже, ставили срубы из плавника, который удалось найти у речки, но главным материалом был саман.
Наконец, у семьи Шин набралось достаточно кирпичей. Отец, с помощью соседа Пак и еще нескольких мужчин, выкопал неглубокий фундамент и начал кладку стен. Валентин был на подхвате – подавал кирпичи, таскал глиняный раствор. Он видел, как растут стены его будущего дома. Они были кривоватыми, неровными, но это были стены. На них уложили балки, сколотили стропила, накрыли все камышом, который заготовили летом.
И вот настал день, когда они вошли внутрь. Это была одна комната, около двенадцати квадратных метров, с земляным полом и маленьким оконцем, затянутым бычьим пузырем. Посредине стояла буржуйка, сложенная из жести и старых кирпичей. Но это был ДОМ. Настоящий, стоящий на земле, а не в земле.
В первую же ночь в новом доме растопили буржуйку. Тепло разливалось по комнате, отгоняя сырость и страх. На стене висела та самая фамильная печать матери и лежала книга отца. Они сидели на самодельных табуретках и ели горячую похлебку из пшена и дикого лука. Мать улыбалась. По-настоящему улыбалась впервые за многие месяцы. Сон-Ю спокойно спала на соломенном матрасе.
Валентин смотрел на огонек в окошке их саманного домика, дрожащий в бескрайней казахстанской ночи. Он был всего лишь маленькой точкой в огромной, безразличной степи. Но эта точка была их точкой. Их крепостью, их победой. Они выжили. А значит, у них было будущее.
Он не знал, что ждало его в этом будущем – ни голода, который еще скрывался за горизонтом, ни тяжелой работы в колхозе, ни первой школьной учительницы, которая станет для него проводником в мир знаний, ни первой любви, ни многих других испытаний и радостей. Но первый, самый страшный шаг был сделан. Из пепла старой жизни, из глины и соломы, они построили новую.
А в кармане его телогрейки лежал гладкий, темный камушек, привезенный с берега далекого, почти забытого Японского моря. Он достал его, сжал в ладони. Камень был холодным, но в его сердце уже теплился огонек – огонек дома.
Глава 5. Уроки степи и учитель Анисья Петровна
Зима пришла стремительно и жестоко. Однажды утром Валентин проснулся от непривычной тишины. Завывания ветра не было. Выглянув в заиндевевшее оконце, он ахнул: весь мир, куда ни глянь, был залит ослепительно белым, слепящим светом. Степь утонула в снегу. Сугробы достигали половины стены их саманного домика. Это была не мягкая, новогодняя снежинка из книжек, а плотная, колючая масса, которую ветер спрессовал в монолитный, непроницаемый панцирь.
Первым делом отец, отгребая снег от двери, прорыл траншею к землянке семьи Пак. Оттуда доносился плач. Оказалось, у Юры сильно замерзли ноги, он не мог надеть единственные дырявые валенки. Мать Валентина, не раздумывая, отдала им запасные шерстяные носки, связанные из грубой овечьей шерсти, которые выменяла у казашки на пару медных заколок.
– Мы же соседи, – коротко сказала она, когда отец вопросительно на нее посмотрел. – Иначе не выжить.
Этот принцип – «иначе не выжить» – стал главным законом степного поселка, который к тому времени уже обзавелся официальным, унылым названием «Отделение №3 совхоза „Путь Ильича“». Люди, вырванные из разных мест, с разными судьбами, были спрессованы здесь, в этом белом аду, общей бедой. Русские, украинцы, немцы, корейцы – все были одинаково бесправны, одинаково голодны и замёрзшие.
Голод пришел позже, к середине зимы, когда скудные запасы подошли к концу. Паек, который выдавали в совхозной конторе, с каждым разом становился все скуднее: мука с отрубями, гнилая картошка, иногда селедка. Валентин научился отличать настоящий, съедобный корень лебеды от ядовитого, с матерью они ходили собирать прошлогодние высохшие ягоды шиповника. Однажды отец принес с поля замерзшую, полумертвую саранчу. Ее обжарили на буржуйке, и хрустящие, солоноватые насекомые показались им тогда изысканным лакомством.
Как-то раз, в особенно метельный день, когда даже взрослых не гоняли на работу, в их дверь постучали. На пороге стояла высокая, худая женщина в стареньком, но чистом пальто и платке, с огромным, потрепанным портфелем в руках. Лицо у нее было изможденным, но глаза – яркими, живыми, умными.
– Здравствуйте, – сказала она, и голос ее звучал как-то по-домашнему, тепло. – Я Анисья Петровна, учительница. Вашему сыну, – она кивнула на Валентина, – пора в школу.
Родители смотрели на нее с недоверием. Школа? Сейчас? Когда речь идет о выживании?
– Какая школа? – хмуро спросил отец. – Он поможет нам лопату держать.
– Лопату он и так научится держать, – мягко, но настойчиво парировала Анисья Петровна. – А вот читать, писать, считать – не научится, если не начать. Школа – это в бараке, что у конторы. Завтра в девять. Приводите.
И она ушла, оставив их в недоумении. Но на следующий день мать, вопреки воле отца, отвела Валентина в указанное место.
Школа представляла собой длинный, холодный барак с земляным полом. Парты были сколочены из неструганых досок, вместо мела использовали обожженную палку, а писали на обороте старых газет. Но в этом царстве бедности царила Анисья Петровна. Она была волшебницей. На ее уроках оживали буквы, превращаясь в слова, а слова – в целые миры. Она читала им вслух сказки Пушкина, рассказы Толстого, и на время Валентин забывал о голоде и холоде. Он переносился в бальные залы, в дубовые рощи, в мир, где существовала красота и справедливость.
Однажды она подозвала его после урока. –Валентин, я вижу, ты очень способный мальчик. У тебя жажда знаний в глазах. Держи.
Она протянула ему тоненькую, потрепанную книжку. Это был «Маленький принц» Экзюпери. –Это про дружбу и ответственность, – сказала она. – Про то, что мы в ответе за тех, кого приручили.
Валентин прочел книгу залпом, при свете лучины, сидя на своем соломенном матрасе. Он не все понял, но фраза «зорко одно лишь сердце» запала ему в душу. Он смотрел на звезды в своем окошке и думал, что где-то там тоже есть свой Маленький принц, который ухаживает за своей планетой.
;
И его собственная, выжженная степь, его саманный домик – это и была его планета, за которую он был в ответе.
В школе он сдружился с новыми ребятами. С рыжим Витей, сыном раскулаченных украинцев, который мог безошибочно найти в степи съедобные коренья. С тихой немецкой девочкой Леной, чья семья шила всем поселку варежки из старого сукна. И, конечно, с Юрой. Вместе они строили в степи штабы из кизяка (высушенного навоза, который использовали как топливо), играли в войнушку, уже не по-настоящему, а понарошку, и мечтали о том, что когда-нибудь поезд привезет их обратно, к морю.
Однажды весной, когда снег уже сошел, обнажив черную, влажную землю, Анисья Петровна принесла на урок несколько мешочков с семенами. –Это наш новый проект, – объявила она. – Мы будем выращивать сад.
Дети смотрели на нее с недоверием. Сад? В голой степи? –Но здесь же ничего не растет! – возразил Витя. –Вырастет, – уверенно сказала учительница. – Потому что мы его посадим. Мы приручим это место. Мы будем за ним ухаживать.
Они вскопали небольшой участок возле барака-школы, смешали твердую глину с навозом, принесенным Витей, и посадили семена яблонь-дичков, сирени и акации. Работа была адской, земля не хотела поддаваться. Но Анисья Петровна не отступала.
– Смотрите, – говорила она, – земля кажется мертвой, но она всего лишь спит. И наша задача – разбудить ее. Терпением, трудом и заботой.
Валентин, глядя на ее руки, в мозолях и земле, вспоминал отца, месившего глину для самана. Тот же принцип. Из ничего, усилием воли, можно создать нечто. Дом. Сад. Новую жизнь.
Прошло несколько недель. И вот однажды утром Юра ворвался в их дом с криком: «Валя! Пошли! Проснулось!»
Они подбежали к школьному участку. И увидели чудо. Из темной, казалось бы, мертвой земли, тянулись к солнцу хрупкие, зеленые росточки. Они были такими маленькими, беззащитными, но в их упрямом стремлении вверх была такая мощь, такая сила жизни, что у Валентина навернулись слезы.
Он стоял на коленях перед этим первым побегом и понял, что Анисья Петровна была права. Они не просто посадили деревья. Они посадили здесь надежду. И эта надежда, как и тот зеленый росток, пробивалась сквозь любую глину, любой холод и любую несправедливость.
Глава 6. «Враг народа» и уроки правды
Лето 1947 года выдалось невыносимо жарким. Солнце палило немилосердно, выжигая последние травинки. Воздух над степью колыхался, словно раскаленное марево. Взрослые с утра до ночи пропадали на полях – пытались вырастить хоть какой-то урожай на засоленной, неподатливой земле. Дети, предоставленные сами себе, искали спасения у единственного ручья, который к середине лета превратился в грязную лужу.
Однажды по поселку пронеслась тревожная весть: ночью арестовали Ивана Петровича, механика, русского мужика с золотыми руками, который один мог починить любой трактор или насос. Его забрали по стандартному, страшному обвинению – «шпионаж в пользу японской разведки».
Валентин, сидя вечером с семьей за скудным ужином (лепешка из кукурузной муки и чай из степных трав), спросил: –Отец, а Иван Петрович правда шпион?
Ким Шин долго молчал, смотря на огонь в буржуйке. Потом тяжело вздохнул. –Иван Петрович – хороший механик. Он с Урала. Японию он видел только на карте. Но времена такие, сынок. Ищут врагов.
– А нас… нас тоже считают врагами? – тихо спросил Валентин, впервые озвучив страх, который сидел в нем с той самой ночи.
Отец посмотрел на него, и в его глазах Валентин увидел не страх, а горькую, взрослую усталость. –Считают. Пока – считают. Поэтому мы должны работать лучше всех. Молчать. И держаться вместе.
На следующий день в школу не пришла Анисья Петровна. Ее место заняла новая учительница, сухая, неприветливая женщина, которая сразу заявила: «Забудьте все, что вам тут наговорили. Будем учиться по программе».
Дети скучали по своим старым урокам. Новая учительница не читала сказок, не рассказывала о звездах. Она заставляла их зубрить даты сражений и имена партийных деятелей. На перемене Витя, оглянувшись по сторонам, шепотом сказал: –А Анисью Петровну вчера забрали. –За что? – ахнула Лена.
–Говорят, на уроке сказала, что американцы тоже люди и у них есть хорошие писатели. Вроде того... Твена.
Валентин почувствовал, как у него похолодело внутри. Анисья Петровна, которая была для них светом, источником добра и знаний, оказалась «врагом»? Он не мог в это поверить. Это была та же самая несправедливость, что обрушилась на них, на Ивана Петровича. Она была слепой, бездушной машинной, которая перемалывала судьбы без разбора.
Вечером он не выдержал и пошел к их саду. Ростки, которые они с такой любовью растили, почти все засохли под палящим солнцем. Никто их не поливал. Новой учительнице было не до этого. Валентин сел на корточки перед одним из уцелевших ростков акации. Он был чахлым, но все еще живым.
И тут он увидел, что к нему подходит старый казах-чабан Абыз, которого все в поселке уважали за мудрость и спокойствие. Абыз часто пас овец недалеко от поселка и иногда подкармливал детей кумысом.
– Что, джигит, грустишь? – спросил Абыз, присаживаясь рядом на корточки. Его лицо было темным, как старый дуб, а глаза смеялись, несмотря на все тяготы. –Сад наш гибнет, – мрачно сказал Валентин. – И Анисью Петровну забрали. Говорят, она враг. Абыз помолчал, достал кисет и свернул цигарку. –Ветер, он тоже бывает врагом, – сказал он на своем ломаном русском. – Дует, песок в глаза бросает, юрту валит. А бывает другом – прохладу приносит, тучи гонит. Все зависит от того, как к нему повернуться. Люди... они сложнее ветра. Сегодня один человек тебе враг, завтра – руку подаст. Не спеши вешать ярлыки, мальчик. Смотри не на слова, а на дела. Ваша учительница – она доброе дело делала. Учила вас. Сад растила. Разве это дело врага?
Валентин задумался. Слова Абыза были простыми, но в них была глубокая, вековая правда. Он смотрел на засохшие ростки и на тот одинокий, который выжил. Мир был жесток и несправедлив. Но в этом мире были люди вроде Анисьи Петровны, вроде его отца, вроде Абыза. Они, как тот росток, цеплялись за жизнь и несли в себе добро, несмотря ни на что.
– Ее сад не должен погибнуть, – вдруг четко сказал Валентин. –Верно, – кивнул Абыз. – Не должен.
На следующее утро Валентин, не сказав ни слова новой учительнице, притащил к саду ведро. За ним пришли Юра, Витя, Лена. Они по очереди носили воду из ручья. Поливали каждый уцелевший росток. Это был их тихий, детский протест. Их способ сказать, что они помнят. Что они в ответе за то, что приручили.
И когда через несколько дней тот самый чахлый росток акации выпустил новый, зеленый листок, Валентин понял – это была их маленькая, но очень важная победа. Победа памяти над забвением, добра над безразличием.
Глава 7. Голодная зима
К зиме 1948 года стало ясно, что надеяться не на что. Лето снова выдалось засушливым, колоски на полях были жидкими, почти пустыми. Урожай собрали мизерный. Паек, и без того скудный, превратился в фикцию: раз в неделю выдавали по несколько горстей муки с отрубями и килограмм промерзлой, гнилой картошки на всю семью.
Голод был не просто чувством. Он был отдельной, физической сущностью, которая поселилась в их саманном доме. Он был холоднее зимнего ветра, потому что исходил изнутри. Он грыз живот острой, неумолимой болью, сводил скулы, делал руки ватными, а в глазах стоял белый туман. Валентин просыпался ночью от того, что его собственный желудок, казалось, пытался переварить сам себя.
Мать, Ли-Хва, таяла на глазах. Ее лицо, когда-то полное и доброе, стало серым и прозрачным, кожа обтянула скулы, как пергамент. Она отдавала свою порцию лепешки детям, говоря, что уже ела. Отец, Ким Шин, возвращался с работы молчаливым и мрачным. Его некогда могучие плечи ссутулились, в глазах погас огонь решимости, осталась только усталая покорность судьбе.
Именно в это время в поселке появился новый человек – Федор Семенович Крутов, назначенный новым завхозом совхоза. Он прибыл не как ссыльный, а «по распределению», был сыт, щеки его лоснились, а сапоги, в отличие от всех, были целыми и блестели. Федор Семенович сразу дал понять, кто здесь хозяин.
Он ходил по поселку, заглядывал в дома, и его маленькие, заплывшие жиром глазки все подмечали. –А что это у вас, Ким Шин, дров много? «На буржуйку хватает?» —спрашивал он, и в его голосе сквозила сладковатая угроза. – А паек получаете? Полностью? Надо бы проверить ведомости, а то, не ровен час, ошибка вышла...
Он никогда не говорил прямо, но все понимали: хочешь получать и без того нищенский паек – делись. И Ким Шин, стиснув зубы, отдавал ему последние крохи, лишь бы дети не плакали от голода. Это была не взятка, это была дань. Дань упитанному хищнику в голодной степи.
Однажды вечером, когда в доме не было даже крошек, а Сон-Ю плакала, прижавшись к матери, Валентин не выдержал. –Отец, почему мы ему отдаем? Он же ворует у нас же! Ким Шин сгорбился еще больше. –Молчи, сынок. Он – власть. С ним не спорят. Он может написать бумагу... и нас вообще лишат пайка. Или хуже... –Какой он власть? Он жулик! – горячо шептал Валентин, чувствуя, как слезы гнева и бессилия подступают к горлу. –В этой стране, Валя, жулик и есть власть, – с горькой прямотой сказала мать, и ее тихий голос прозвучал как приговор.
Врагом семьи был не какой-то абстрактный «режим». Врагом стал вот этот конкретный, сытый человек с холодными глазами, который использовал данную ему крупицу власти, чтобы отнимать последнее у умирающих. Это было оскорбительно, унизительно и смертельно опасно.
Глава 8. Борьба за жизнь
Именно тогда Валентин, ему было уже десять, по-настоящему повзрослел. Детство кончилось. Он понял, что если они хотят выжить, нужно бороться. Не с системой – с ней бороться было бесполезно, – а с голодом. Бороться хитростью, терпением и тем, что могла дать степь.
Он стал проводить дни с Витей. Тот был настоящим следопытом. Он знал, где суслики делают запасы на зиму, и они с Валентином, вооружившись палками и ведром с водой, разливали норы, чтобы добраться до скудных кладовых – горсточек зерна. Они собирали последние ягоды терна, выкапывали корни лопуха и дикого лука. Однажды Витя научил его ловить саранчу в самодельные силки из конского волоса.
Как-то раз, забредя далеко от поселка в поисках дикой полыни (ее отвар немного притуплял голод), они наткнулись на одинокую, полуразрушенную казахскую зимовку. Возле нее сидела старая, худая, как скелет, собака. Она была больна, одна задняя лапа волочилась. Увидев мальчиков, она не залаяла, а только жалобно заскулила и поползла к ним, виляя облезлым хвостом.
– Чума, – мрачно констатировал Витя. – Подохнет скоро. Валентин смотрел на собаку. В ее глазах была та же покорность судьбе и та же жажда жизни, что и в глазах его матери. Он достал из кармана кусок лепешки, который приберег для сестренки, и бросил собаке. Та жадно схватила его и, не разжевывая, проглотила.
– Зачем? – удивился Витя. – Она все равно сдохнет. Есть нечего, а ты собаку кормишь. –Она... живая, – просто сказал Валентин. Он не мог объяснить. Для него в этом жесте был не просто акт жалости. Это был акт сопротивления. Если они перестанут жалеть, перестанут делиться последним, даже с обреченной собакой, – они перестанут быть людьми. А тогда зачем выживать?
Он стал навещать собаку каждый день, принося ей что-то съестное. Иногда это была горсть саранчи, иногда – корень лопуха. Он назвал ее Верный. Собака встречала его, всегда виляя хвостом, и лизала ему руку. Она не выздоровела, но и не умерла. Она цеплялась за жизнь, подкармливаемая его волей.
Однажды, придя к зимовке, он увидел, что возле Верного стоит Абыз. Старый чабан осматривал собаку. –Твоя? – спросил он у Валентина. –Нет. Ничья. Я ее... подкармливаю. Абыз кивком, его мудрые глаза одобрительно блеснули. –Сердце у тебя не окаменело, джигит. Это хорошо. Голод пройдет, а душа, если она черствая, уже не смягчится.
Он достал из-за пазухи небольшой кусок вяленого баранины и протянул Валентину. – Себе и ей. Валентин хотел отказаться, но рука сама потянулась за мясом. Запах вызвал у него такое слюноотделение, что свело скулы. –Спасибо, – прошептал он. –Не благодари. «Мы все в одной лодке», —сказал Абыз. – Только одни гребут, а другие воруют весла. Твой завхоз – вор весла.
Валентин разделил мясо пополам. Одну половину съел сам, с наслаждением, растягивая каждый кусочек. Вторую скормил Верному. В тот вечер он впервые за долгое время лег спать, не чувствуя острой боли в животе. И сон его был спокойным.
Глава 9. Испытание
Голод достиг своего пика к февралю. В поселке начали умирать. Сначала старики, потом дети. Умерла младшая сестра Вити. Умерла от дизентерии и истощения Лена, тихая немецкая девочка. Ее похоронили в промерзшей степи, и над могилой поставили простой деревянный крест, который на следующую же ночь растащили на растопку.
Валентин с ужасом наблюдал, как люди меняются. Некоторые, как его семья и семья Пак, держались вместе, делились последним. Другие замыкались, прятали еду, по ночам в их домах слышался звериный рык драк из-за краюхи хлеба. Голод обнажал суть человека, срывал с него тонкую кожу цивилизации.
Испытание пришло и к ним. Сон-Ю слегла. У нее поднялась высокая температура, она бредила и постоянно просила есть. Есть было нечего. Только горячая вода и чай из трав.
Ким Шин, отчаявШинсь, пошел к Федору Семеновичу. Валентин, беспокоясь за отца, пошел за ним и притаился у крыльца конторы.
– Федор Семенович, дочь помирает, – услышал он голос отца, униженный, жалкий – Хоть немного муки, хоть крупы... –А где же я тебе возьму, Ким Шин? – раздался сытый, спокойный голос завхоза. – Все по нормам. Не положено. Может, ты что-то припрятал? А? На черный день? Тогда это – спекуляция. За это строго.
– У меня ничего нет! Клянусь! –Ну, значит, судьба у твоей дочки такая, – равнодушно заключил Крутов. – Нечего было на границе селиться, вражинам помогать.
Валентин услышал, как отец что-то простонал и вышел. Он шел, не видя пути, и его плечи тряслись от беззвучных рыданий. Валентин впервые в жизни видел, как плачет его отец. Это было страшнее любого голода.
Вернувшись домой, Ким Шин молча сел на табуретку и опустил голову на руки. Казалось, это конец. Надежды не было.
Но тут дверь скрипнула. В дом вошел Абыз. Он был не один. С ним была его жена, невысокая, полная женщина по имени Айгуль, и они несли небольшой чугунок.
– Слышал, у вас беда, – сказал Абыз. – Мы, казахи, говорим: «Гость в дом – радость в дом, а беда соседа – твоя беда».
Айгуль, не говоря ни слова, поставила чугунок на буржуйку. По дому пополз густой, жирный, божественный аромат. Это был мясной бульон. Настоящий, из баранины.
– Это... мы не можем... – попытался возразить Ким Шин, но голос его сорвался. –Молчи, – мягко, но властно сказала Айгуль. – Ребенка кормить надо. А то ангелы заберут.
Они накормили Сон-Ю горячим бульоном. Девочка съела несколько ложек и уснула, уже не в бреду, а крепким, исцеляющим сном. Айгуль оставила чугунок. –На три дня хватит. Потом придем еще.
Когда они ушли, в доме воцарилась тишина. Валентин смотрел на спящую сестру, на лицо матери, на котором снова появился отблеск надежды, на отца, который сидел, глядя на огонь, и в его глазах снова был не покорный ужас, а твердая решимость.
– Мы выживем, – тихо, но очень четко сказал Ким Шин. – Мы все выживем. Ради таких людей, как Абыз. И вопреки таким, как Крутов.
Валентин вышел на улицу. Ночь была морозной и ясной. Звезды сияли с тем же безразличием. Но теперь он смотрел на них не с отчаянием, а с вызовом. Они выстояли. Они не сломались. Они остались людьми. И в этом был главный смысл их борьбы. Борьбы за жизнь.
Глава 10. Весна и первые ростки свободы
Весна 1953 года пришла рано. Степь, еще недавно белая и безмолвная, задышала. Снег сошел, обнажив черную, напитанную влагой землю. И на этой земле, к удивлению, всех, кое-где пробивалась первая, робкая зелень. Это была не метафора – это было физическое ощущение того, что ледниковый период их жизни подошел к концу.
5 марта того же года по всему совхозу, от конторы к баракам, пронеслась новость, которую вначале передавали шепотом, с оглядкой: «Умер Сталин».
Валентину было почти пятнадцать. Он стоял с отцом на улице, слушая, как по репродуктору, висевшему на столбе у конторы, лилось траурное сообщение. Голос диктора был скорбным, но Валентин смотрел на лица людей. Он не видел всеобщего горя. Он видел растерянность, страх перед неизвестностью и, глубоко запрятанную в глазах у некоторых, странную, пугающую надежду.
– Что теперь будет, отец? – спросил он. Ким Шин долго молчал, глядя в сторону, где за горизонтом лежала его прежняя жизнь. –Не знаю, сынок. Боюсь гадать. Зверь может быть мертв, но клетка-то осталась.
Однако клетка дала первую трещину. Уже через несколько месяцев по поселку поползли слухи о том, что «врагам народа» начинают пересматривать дела. Анисья Петровна, их первая учительница, не вернулась. Говорили, она умерла в лагере где-то под Карагандой. Но Иван Петрович, механик, вернулся. Он появился однажды утром, седой, с привалившимися щеками, но с тем же ясным, цепким взглядом. Его реабилитировали.
Встреча была молчаливой. Мужики, работавшие в мастерской, просто подходили и пожимали ему руку. Крепко, молча. Женщины приносили ему кто миску супа, кто лепешку. Это был их способ сказать: «Мы помним. Мы знаем, что ты не виноват».
Федор Семенович Крутов, завхоз, какое-то время ходил понурый, но быстро оправился. Власть менялась, но чиновники, подобные ему, были неистребимы, как сорняк. Он нашел нового покровителя в райкоме и продолжал свою деятельность, лишь слегка приглушив аппетиты.
Для Валентина же главным событием той весны стало не политическое потепление, а нечто более земное и прекрасное. Он влюбился.
Ее звали Айгера. Дочь Абыза и Айгуль. Ей было шестнадцать. Она не была похожа на хрупких, бледных девушек из поселка. Айгера была гибкой и сильной, как молодая ива. Ее черные волосы заплетались в две густые, тяжелые косы, а глаза, темные и немного раскосые, смеялись, даже когда ее лицо оставалось серьезным. Она помогала матери по хозяйству, доила кобылиц для кумыса, могла объездить строптивого жеребца.
Валентин впервые увидел ее не как «девочку Абыза», а как девушку, когда она принесла им в подарок свежего айрана. Она вошла в их саманный дом, и ему показалось, что с ней вошло солнце.
– Отец передал, – сказала она, и голос у нее был низким, мелодичным. – Говорит, тебе, Валя, уже не мальчик, пора и силу пробовать. Айран помогает.
Они смотрели друг на друга, и между ними пробежала искра – робкая, но безошибочно узнаваемая. С тех пор Валентин находил тысячи причин оказаться рядом с аулом. Он помогал Абызу чистить загон для овец, чинил старую арбу, просто сидел рядом и слушал его мудрые, неторопливые рассказы. И все это время он краем глаза искал Айгеру.
Однажды вечером, когда солнце садилось, окрашивая степь в багрянец, он нашел ее на берегу пересыхающего озера. Она сидела на камне и смотрела на воду. –О чем думаешь? – спросил он, садясь рядом. –О том, что степь похожа на море, – сказала она, не глядя на него. – Только волны у нее из травы. И оно безбрежное. И так же легко в нем заблудиться. –Я видел море, – тихо сказал Валентин. – Настоящее. Оно было синим и пахло... свободой.
Она повернулась к нему, и в ее глазах он увидел интерес и понимание. –Папа говорит, вы с моря. Что вас сюда пригнали, как скот. Это правда? –Правда. –Жалко вас. –Не надо жалеть, – с внезапной горячностью сказал Валентин. – Мы выжили. Мы здесь. И.… и сейчас я не жалею.
Он не знал, откуда взялась у него смелость. Он протянул руку и коснулся ее пальцев. Она не отдернула руку. Они сидели так, молча, слушая, как ветер гуляет в ковыле, и смотря, как гаснет закат. Для Валентина в этот момент рухнула последняя стена. Степь перестала быть тюрьмой. Она стала его домом. Потому что в ней была она.
Глава 11. «Хрущевская оттепель» и яблоня Димы
К середине 1950-х жизнь в поселке стала меняться. Слово «реабилитация» уже не было пустым звуком. В совхоз пришло несколько новых тракторов, появилась настоящая, хоть и маленькая, больница. Но самое главное – людям начали выдавать паспорта.
Для спецпереселенцев это был не просто документ. Это был символ. Желтоватая бумажка с гербом и фотографией означала, что они снова стали гражданами. Что они больше не привязаны к этому клочку земли, как скот. Что они могут уехать.
Эта новая свобода разделила поселок. Молодежь, выросшая в степи, рвалась в города – в Целиноград, в Караганду, в Алма-Ату. Старики же, отвыкшие от большой жизни, боялись перемен и часто оставались.
В семье Шин тоже возник спор. Валентин, которому было уже восемнадцать, грезил об учебе. Он хотел стать агрономом, вернуться и превратить эту сухую степь в цветущий сад. Его поддерживала Айгера. Но отец, Ким Шин, был против. –Учеба – это хорошо, – говорил он. – Но кто будет помогать здесь? Мы только-только на ноги встали. Нужно дом крепить, хозяйство. Твоя семья здесь.
Под «семьей» он подразумевал и Айгеру. Их отношения уже не были тайной. Абыз и Айгуль относились к Валентину хорошо, но и они сомневались. –Город меняет людей, джигит, – как-то сказал ему Абыз. – Там много соблазнов. Ты уедешь другим. А моя Айгера – дитя степи. Она завянет в каменных стенах.
Валентин метался. С одной стороны – мечта и возможность вырваться за пределы совхоза. С другой – долг перед семьей и любовь к девушке, которая не представляла себя без бескрайнего горизонта.
В это же время в поселке появился новый человек – Дмитрий Ильич, молодой, пылкий агроном, присланный из Москвы поднимать целину. Он был полон идей, верил в науку и в светлое будущее. Он-то и стал катализатором конфликта.
Дмитрий Ильич, или просто Дима, как он просил его называть, заметил смышленого парня, который всегда крутился вокруг техники и задавал умные вопросы о почвах. Он взял Валентина под свое крыло. –Ты пропадаешь здесь, Валя! – говорил он, размахивая руками. – У тебя голова на плечах! Поедешь со мной в Целиноград, поступишь в техникум! Мы будем поднимать эту целину вместе! Мы сделаем из этой степи житницу!
Он был воплощением той самой «оттепели» – открытый, энергичный, свободный. И его слова западали в душу Валентина, как семена в благодатную почву.
Однажды Дима привез из города несколько саженцев яблонь. –Морозоустойчивые, сибирские! – объявил он. – Будем экспериментировать! Посадим их здесь, у конторы. Будет у нас свой яблоневый сад!
Идея была безумной. Все знали, что в этой засоленной степи ничего, кроме полыни да ковыля, не растет. Но Дима был упрям. Он собрал добровольцев, и Валентин был среди самых активных.
Федор Семенович Крутов, наблюдая за этой затеей, только фыркал. –Блажь городская, – говорил он. – Народное имущество разбазаривают. Деревья эти померзнут. Ясно как день.
Но Диму было не остановить. Они копали ямы, удобряли их навозом, привезенным Абызом, сажали хрупкие деревца и поливали их драгоценной водой. Работали с энтузиазмом, с верой в чудо.
Именно у этих саженцев произошел решающий разговор между Валентином и Айгерой. –Ты уедешь с ним, да? – тихо спросила она, глядя на него своими темными, печальными глазами. –Я.… я не знаю, Айгера. Он говорит, что это мой шанс. –А я? – ее голос дрогнул. – Я – не твой шанс? –Ты – больше, чем шанс! Ты – все! Но я хочу быть достойным тебя! Хочу чего-то добиться! –Ты и здесь можешь чего-то добиться! Посмотри! – она указала рукой на саженцы. – Ты помогаешь растить сад в голой степи! Разве это не дело? Разве наша жизнь здесь – не дело?
Валентин смотрел на ее взволнованное лицо, на хрупкие деревца, на бескрайнюю степь и чувствовал, как его разрывает на части. Уехать – значит предать свою любовь и бросить семью в трудную минуту. Остаться – значит похоронить свою мечту и навсегда остаться «сыном спецпереселенца» в захолустном совхозе.
Он не нашел ответа. Он взял ее руку и молча сжал. Айгера выдернула свою руку и убежала. А он остался стоять у яблонь, под холодным ветром, который гнал по небу рваные облака. Ему казалось, что этот ветер дует прямо ему в сердце.
Глава 12. Монолог у буржуйки
Решение не приходило. Дни текли, похожие один на другой, но внутри Валентина бушевала буря. Он выполнял свою работу в совхозе, помогал отцу, виделся с Айгерой – но всё это будто через толстое стекло. Он был физически здесь, но мыслями – в том целиноградском техникуме, о котором так красочно рассказывал Дима.
Однажды поздно вечером, когда Сон-Ю уже спала, а мать штопала старый свитер при свете коптилки, Валентин не выдержал. Он сидел на полу, прислонившись к теплой буржуйке, и смотрел на язычки пламени через маленькое смотровое окошко.
«Молчишь, сынок, – раздался спокойный голос отца. Ким Шин курил самокрутку у стола. – Словно врага в засаде ждешь. Не решение, а сам себя съедаешь».
Валентин вздрогнул. Он не знал, что отец следит за ним. –Я не знаю, что делать, отец, – вырвалось у него, и в голосе прозвучала вся накопившаяся усталость от этой внутренней борьбы. – С одной стороны... Дима прав. Учеба – это путь. Шанс. А здесь... что меня ждет здесь? Вечная борьба с землей, с Крутовым, с нищетой?
Он поднял глаза на отца, ища понимания, поддержки. –А Айгера? – мягко спросил Ким Шин. – Она – это «нищета»? Мы – это «нищета»?
– Нет! Конечно, нет! – Валентин вскочил, чувствуя, как его обвиняют в предательстве. – Но я хочу дать ей больше! Я хочу, чтобы у нас был не саманный дом, а настоящий! Чтобы дети наши не голодали! Чтобы мы были не спецпереселенцами, а людьми с образованием, с положением!
Он говорил горячо, почти не глядя на отца, выплескивая наружу все свои сокровенные мысли. –А кто мы сейчас, по-твоему? – голос Ким Шин оставался ровным, но в нем появилась стальная твердость. – Мы не люди? Мы, которые из голой земли дома подняли, которые голод пережили, которые, стиснув зубы, тут прижились? Разве то, что мы сделали – не достойно уважения? Разве наша жизнь – не доказательство того, что мы – люди? И какие к черту «положения»? Положение – вот оно. – Он ударил себя кулаком в грудь. – Здесь. А не в бумажке из техникума.
Валентин замолчал, сраженный этой простой, неоспоримой логикой. Он смотрел на руки отца – грубые, иссеченные морщинами и шрамами, руки, которые из глины и соломы слепили их крепость. Разве эти руки не заслуживали большего уважения, чем диплом?
– Я... я не хочу вас бросать, – прошептал он, и голос его дрогнул. – Но я боюсь, что если я останусь, я... я закисну тут. Мне кажется, я задыхаюсь.
Ким Шин тяжело вздохнул, встал и подошел к сыну. Он положил свою тяжелую, шершавую руку ему на плечо. –Слушай, сынок. Я тебя не держу. Паспорт у тебя есть. Дверь открыта. Но запомни: бегство от чего-то – это не то же самое, что движение к чему-то. Ты хочешь уехать, потому что здесь плохо? Или потому что там – хорошо? Подумай. И еще... – он помолчал. – Там, в городе, тебе снова напомнят, кто ты. Сын «неблагонадежного». Кореец. Здесь же ты – просто Валентин. Ты – свой.
Он ушел в свою комнату, оставив Валентина наедине с треском дров в буржуйке и с его мыслями. Отец был прав. Бегство от нищеты и бесправия не было тем же самым, что стремление к знаниям. И страх «закиснуть» – был ли он оправдан? Разве Дима, с его яблонями, «закис»? Разве Абыз, знающий каждую травинку в степи, – не мудрый человек?
«Я не знаю, – думал Валентин, глядя на огонь. – Черт возьми, я просто не знаю. Хочу ли я быть как отец – несгибаемым, как дуб, вросшим в эту землю? Или как Дима – порывистым ветром перемен? И где в этом всем мое место?»
Глава 13. Исповедь в степи
На следующее утро Валентин пошел к Айгере. Он нашел ее у кошары – загона для овец. Она разбирала спутавшуюся шерсть на изгороди. Увидев его, она не улыбнулась, но и не отвернулась. Ее лицо было спокойным и сосредоточенным.
– Поговорить надо, – сказал он, останавливаясь рядом. –Говори, – коротко бросила она, не прекращая работы. –Я... я не могу так больше. Эта нерешительность съедает меня изнутри.
Айгера остановилась и посмотрела на него. В ее глазах не было упрека, только усталая печаль. –Я не прошу тебя оставаться, Валя. Я никогда не стану цепью на твоей ноге. Если твое сердце зовет тебя в город – иди. Но не обманывай ни себя, ни меня. Не говори, что ты делаешь это ради меня. Делай это ради себя.
Ее слова были такими же прямыми и честными, как удар хлыста. Они обнажили эгоизм его терзаний. –Но я люблю тебя, – слабо сказал он. –И я тебя, – ответила она просто. – Но любовь – это не владение. Это доверие. Если ты уедешь и найдешь там свое счастье – я буду рада за тебя. А если твое счастье здесь... – она развела руками, оглядывая степь. – Оно всегда будет ждать тебя.
В ее словах была какая-то древняя, кочевая мудрость. Любовь без собственности. Вера без гарантий. –Абыз говорит, что самое большое испытание для джигита – не голод и не холод, а выбор пути, – тихо продолжила она. – И что неправильного пути не бывает. Бывает путь, который ты выбрал, и последствия, которые ты несешь. Выбери свой путь, Валентин. И не оглядывайся.
Она повернулась и пошла к дому, оставив его одного посреди бескрайнего, безмолвного моря травы. Ее слова эхом отдавались в его голове. «Выбери свой путь. И не оглядывайся».
Он пошел бродить по степи, не разбирая дороги. Он вспоминал все: ночь, когда их вырвали из дома, ужас землянки, голод, смерть Лены, спасение Сон-Ю, первую улыбку Айгеры, горящие глаза Димы, усталое лицо отца. Из этих обрывков памяти складывалась мозаика его жизни.
«Кто я? – спрашивал он себя вслух, и ветер уносил его слова. – Я – сын Ким Шин, который выкопал дом из глины. Я – ученик Анисьи Петровны, которая научила меня видеть красоту. Я – друг Абыза, который показал мне мудрость степи. Я – тот, кто любит Айгеру. Разве всего этого мало? Разве это не богатство? Неужели диплом агронома сделает меня... больше, чем я есть?»
Он подошел к их яблоне – той самой, которую они посадили с Димой. Она была все еще мала и хрупка, но на одной из ее веточек он увидел маленький, липкий, зеленый побег. Она боролась. Она цеплялась за жизнь здесь, в этой суровой земле.
И тут его осенило. Осенило с такой ясностью, что он даже остановился. Он пытался выбрать между мечтой и долгом, между будущим и прошлым. Но это был ложный выбор. Его настоящий путь был не «от» и не «к». Его путь был – «здесь».
Он не должен был бежать из степи, чтобы реализовать себя. Он должен был принести свои знания в степь. Не уезжать в Целиноград, а сделать так, чтобы его родной совхоз стал таким же центром жизни, как тот город. Он будет учиться заочно. Он будет использовать все, что узнает, здесь, на этой земле. Он будет растить не чужой сад, а свой. С Айгерой. С семьей.
Решение пришло не как озарение, а как тихое, непреложное знание. Оно заполнило ту пустоту, что разъедала его изнутри. Он больше не был разорванным. Он был цельным.
Он повернулся и быстрым шагом пошел назад, к аулу. К Айгере. Он знал, что скажет. Он знал, что его путь – это путь отца. Путь корня, а не ветра. И это был его собственный, добровольный выбор.
Глава 22. Семейная реликвия
1970-й год. Руслану исполнилось девять лет. Он был смышленым мальчиком, вобравшим в себя черты обоих народов – упрямый подбородок отца и бездонные, темные глаза матери. Он обожал слушать истории деда Абыза о батырах и духах степи, но с не меньшим интересом листал учебник по истории, который привозил ему из района Валентин.
Однажды весенним вечером, разбирая старый сундук на чердаке своего саманного дома, Ли-Хва нашла то, что берегла все эти долгие тридцать три года. Это была не фамильная печать, не вышивка и не книга. Это была простая жестяная кружка, помятая, с отбитой эмалью.
Она сошла вниз, держа ее в дрожащих руках. Валентин и Ким Шин сидели за столом, обсуждая планы на посевную. –Смотрите, – тихо сказала Ли-Хва и поставила кружку на стол.
Ким Шин коснулся ее шершавыми пальцами, и его лицо окаменело. –Откуда? – хрипло спросил он. –Сохранила. В узел завернула. В ту ночь... – она не договорила.
Валентин смотрел на кружку, и память ударила его, как обухом. Яркая вспышка: он, семилетний, стоит в своем доме на краю поселка. В руках у него эта самая кружка, полная парного молока. Мать только что подоила корову. Он подносит ее к губам, а снаружи – тот самый, навсегда врезавшийся в память стук в дверь. Кружка выпадает из его рук, молоко растекается по полу... Он помнил этот звук – глухой удар жести о дерево.
– Это... та самая? – прошептал он. Ким Шин кивнул, не в силах вымолвить слово. Он взял кружку, поднес к лицу, будто пытаясь уловить запах того, давно исчезнувшего молока, того, сожженного времени.
Вошла Айгера с Русланом. Увидев кружку и лица родных, она все поняла без слов. –Что это, бабушка? – спросил Руслан. –Это... наша память, внучек, – голос Ли-Хвы дрожал. – Это последнее, что я пила в нашем старом доме. И первое, из чего мы пили воду, когда приехали сюда. В землянке.
Она взяла кружку и протянула Руслану. Мальчик осторожно принял ее, как нечто хрупкое и живое. –Она совсем простая, – заметил он. –Самое главное в жизни – простое, сынок, – сказал Валентин. – Дом. Хлеб. Любовь. И память. Эта кружка видела наш страх. И наше мужество. Она – свидетель.
Он взял кружку у сына, наполнил ее свежим кумысом из глиняного кувшина и отпил глоток. Горьковатый, терпкий напиток жизни степи смешался в нем с привкусом давнего, детского ужаса и молока из другого времени. –Теперь она пьет с нами новую жизнь, – сказал Валентин и передал кружку отцу.
Ким Шин взял ее, и его пальцы сомкнулись вокруг жести с такой силой, что костяшки побелели. Он поднял кружку, как когда-то поднимал тост за благополучие в своем доме у моря. –За то, чтобы наши дети никогда не услышали ночного стука в дверь, – произнес он глухо и отпил. – И чтобы эта кружка осталась для них просто старой кружкой. Без памяти о страхе.
С тех пор жестяная кружка заняла почетное место на полке в доме. Она не была музейным экспонатом. Из нее по-прежнему пили. Но каждый раз, беря ее в руки, Валентин чувствовал связь времен. Он видел, как Руслан, уже подростком, задумчиво вертит ее в руках, и знал – память жива. Она перешла к его сыну. Не как травма, а как тихая, суровая мудрость предков.
Глава 23. Проводы и обещание
Ким Шин умер в 1972 году, тихо, во сне. Его сердце, вынесшее столько испытаний, просто остановилось. Он ушел накануне очередной годовщины их высылки, будто поставив точку в этой главе своей жизни.
Его хоронили по-корейски и по-казахски одновременно. Это были самые странные и самые пронзительные похороны в истории поселка. Соседи-корейцы несли гроб на руках, читая буддийские молитвы, которые чудом сохранились в памяти стариков. Абыз и другие аксакалы аула шли впереди, осыпая путь покойного лепестками полыни – символом степи, ставшей ему последним приютом.
Валентин стоял у могилы, держа за руку плачущую мать и глядя на лицо отца, которое казалось умиротворенным и невероятно усталым. Он думал не о смерти, а о жизни этого человека. О том, как он, не сломавшись, вытащил свою семью из ада. Как из глины и соломы построил дом. Как молча, без жалоб, нес свой крест.
Когда гроб начали опускать, вперед вышла Ли-Хва. Она бросила в могилу горсть земли. Но не казахстанской. Это была земля, которую она втайне от всех хранила тридцать пять лет. Горсть земли, привезенная в мешочке с их старой родины, с края обрыва над Японским морем. –Возвращаю тебя туда, где ты родился, – прошептала она. – Душа твоя найдет дорогу домой.
А потом заговорил Абыз. Он был уже очень стар, его голос дребезжал, но слова были полны силы. –Человек уходит, – сказал он, обращаясь ко всем собравшимся – корейцам, казахам, русским. – Но дерево, которое он посадил, остается. Дом, который он построил, стоит. Дети, которых он вырастил, живут. Ким Шин был крепким деревом. Его корни были там, – он махнул рукой на восток, – а ветви раскинулись здесь. И дали нам тень и плоды. Он был нашим братом. И земля нашей степи примет его как родного сына. Потому что он полил ее своим потом и слезами. А такая земля не бывает чужой.
После похорон, разбирая вещи отца, Валентин нашел в его старом чемодане, под стопкой аккуратно сложенной одежды, ту самую книгу – сборник стихов Пушкина на корейском. На первой странице была дарственная надпись, сделанная рукой его деда: «Моему сыну Ким Шин в день его совершеннолетия. Пусть великий русский поэт научит тебя любить слово и правду».
Валентин перелистал пожелтевшие страницы. И нашел там засохший, почти рассыпавшийся в пыль цветок. Маленький, сиреневый. Он узнал его – это был цветок рододендрона, который рос на сопках его далекой родины. Отец хранил его все эти годы. Как память. Как обещание вернуться, которое так и не смог выполнить.
Валентин закрыл книгу и прижал ее к груди. Он вышел из дома и пошел к яблоневому саду. Деревья, посаженные когда-то, были теперь высокими и сильными. –Я не смог вернуть тебя туда, отец, – тихо сказал он, глядя на ветви, тянущиеся к небу. – Но я обещаю, что твои внуки узнают правду. Всю правду. О твоей жизни. И о твоем море.
Он сорвал яблоко, твердое и румяное. Вкус был кисло-сладким, как сама жизнь. И в этом вкусе была память об отце, о его силе, о его молчаливой любви. Валентин понял, что его миссия не закончена. Она только начинается. Теперь он – хранитель памяти. И он передаст ее дальше.
Глава 24. Телеграмма из Алма-Аты
1975 год. Руслан, окончив школу с золотой медалью, готовился к поступлению в Казахский государственный университет в Алма-Ате. Он мечтал стать историком. Валентин, глядя на сына, испытывал гордость и тревогу. Гордость – за его ум и стремление. Тревогу – за его выбор. История в их стране была наукой опасной.
– Сын, ты уверен? – спросил он как-то вечером. – Архивы закрыты. Многое под запретом. Ты будешь ходить по лезвию ножа. –Именно поэтому я и хочу этим заниматься, папа, – горячо ответил Руслан. – Кто-то же должен докопаться до правды. Хотя бы до той, что касается нашей семьи. Я хочу найти документы о выселении. Узнать, почему это случилось именно с нами.
Айгера поддерживала сына. –Пусть едет, Валя. Он должен увидеть мир больше этого поселка. И кто знает, может, именно он найдет слова, чтобы рассказать нашу историю так, как она того заслуживает.
Руслан уехал в августе. А осенью Валентин получил от него телеграмму. Не письмо – телеграмму, что уже было странно. Всего три строчки: «Папа, нашёл кое-что в архиве. Касается деда. Приезжай, если сможешь. Срочно. Руслан».
Валентин почувствовал ледяной ком в животе. «Касается деда... Срочно». Он выпросил в совхозе грузовик и на следующий же день выехал в Алма-Ату.
Он застал сына в маленькой комнатке в общежитии. Руслан был бледен и возбужден одновременно. На столе лежала стопка исписанных листков – копии, сделанные от руки. –Я познакомился с одним архивариусом, он пошел мне навстречу, – быстро заговорил Руслан, не дав отцу перевести дух. – Я искал дело о выселении нашей семьи. И нашел... не совсем это.
Он протянул отцу несколько листков. Это были выписки из какого-то протокола за 1937 год. Валентин стал читать, и буквы поплыли перед глазами. «...Заседание тройки НКВД. Слушали: дело №... по обвинению Ким Шин, 1901 г.р., корейца, в шпионаже в пользу Японии... На основании показаний свидетеля...»
Дальше шли стандартные, чудовищные формулировки. Но Валентин замер на имени свидетеля. Оно было ему знакомо. Это был один из их соседей в приморском поселке. Тоже кореец. Человек, с чьей семьей они делили и радости, и горести. Его сын дружил с Валентином.
– Я не понимаю... – прошептал Валентин. – Они же были друзьями... –Я нашел и его дело, папа, – голос Руслана дрогнул. – Его арестовали через месяц после этих показаний. Как «сообщника». Он тоже получил десять лет. И тоже был выслан с семьей. Просто в другой район.
Валентин отшатнулся от стола, будто от удара током. Предательство. Гнусное, мелочное предательство, которое сломало две жизни. И все ради чего? Ради отсрочки собственного ареста? Ради призрачной надежды?
Он вспомнил лицо того человека – доброе, улыбчивое. Он вспомнил, как тот учил его забрасывать невод. Ложь. Все было ложью. И система строилась на этом. На страхе, на трусости, на готовности утопить ближнего, чтобы самому не утонуть.
– Зачем ты мне это показал? – с трудом выговорил Валентин. –Чтобы мы знали, папа! – в голосе Руслана прозвучала почти что ярость. – Чтобы мы понимали, как это работало! Это не просто какая-то безликая машина! Это были живые люди, которые ломали других живых людей! Мы должны это знать!
Валентин посмотрел на сына – юного, пылкого, еще верящего в то, что правда может что-то изменить. И ему стало страшно за него. –Руслан... ты должен быть осторожен. Такие находки... они опасны. –Я знаю. Но молчать – еще опаснее. Молчание – это соучастие.
Вечером они шли по вечерней Алма-Ате, по улицам, залитым огнями, так не похожим на темноту их степи. Валентин чувствовал себя разбитым. Он нес в себе образ отца – сильного, несгибаемого. И вдруг этот образ оказался испачкан грязью мелкого предательства, которого тот, вероятно, так и не узнал.
– Знаешь, сын, – тихо сказал Валентин, – я сейчас подумал... Может, отец и знал. И молчал. Потому что понимал – тот человек был такой же жертва, как и мы. Его сломали. Система была устроена так, чтобы ломать людей. И осуждать его... все равно что осуждать больного за болезнь.
Руслан молчал, переваривая слова отца. –Значит, виноват не он один? – наконец спросил он. –Виновата система, породившая такой страх, что человек готов на все. Наша задача – не искать виноватых среди таких же, как мы. Наша задача – помнить. И сделать так, чтобы это никогда не повторилось.
Они вернулись в общежитие. Валентин взял те листки, сложил их и сунул в карман. –Я заберу это. Ты больше не лезь в эти архивы. По крайней мере, сейчас. Твоя очередь придет. Но не сейчас.
Он уезжал на следующий день. Провожая его, Руслан спросил: –Папа, а ты расскажешь бабушке? Валентин посмотрел на сына и покачал головой. –Нет. Некоторые раны не стоит бередить. Пусть она помнит его чистым. Как он и был на самом деле. Вне зависимости от той грязи, что на него вылили.
Он сел в грузовик и поехал обратно, в степь. К дому. К памяти, которую он теперь должен был охранять не только от чужих, но и от излишней, ранящей правды.
Глава 25. Пятно на карте
Возвращаясь домой, Валентин не вез радостных вестей. Он вез груз, тяжелее любого мешка с зерном. Груз горькой правды. Он думал о том, как безжалостна история, как она ворошит кости мертвых, не спросясь у живых.
Он не сказал матери о находке Руслана. Но он не мог выбросить эти листки. Он спрятал их в старом отцовском чемодане, вместе с книгой Пушкина и засушенным цветком. Пусть лежат. Может, когда-нибудь, когда времена изменятся, они станут просто историческими документами, а не обнаженным нервом.
Как-то раз, уже глубокой осенью, он сидел с Айгерой на крыльце, укутавшись в один плед. Степь гудела от ветра, предвещая скорую зиму. –О чем думаешь? – спросила Айгера, положив голову ему на плечо. –О географии души, – ответил Валентин. – У меня на родительской карте мира теперь два места. Одно – там, у моря. Оно навсегда осталось светлым и ясным в моей памяти. А другое – здесь. Оно стало родным, но... оно все еще немного чужое. И между ними – огромное пятно. Пятно страха, боли и вот этой... грязной правды, которую нашел Руслан. И это пятно залило собой все. Стирает краски.
Айгера взяла его руку и крепко сжала. –Нет, Валя. Оно не стирает краски. Оно просто... добавляет новый цвет. Темный, да. Но без темного цвета не бывает и светлого. Ты не можешь стереть это пятно. Но ты можешь сделать так, чтобы вокруг него выросли цветы. Как мы вырастили яблоневый сад на голой земле.
Она всегда умела найти самые простые и самые верные слова. Валентин обнял ее, прижался к ее волосам, пахШинм дымом и полынью. –Ты права. Как всегда. Мы вырастили сад. Мы построили дом. Мы родили сына. Это и есть наш ответ. И тому страху, и той лжи, и тому предательству. Мы – живые. И мы продолжаем жить.
На следующее утро он пошел в совхозную контору. Крутов, постаревший, но все такой же сытый, сидел в своем кабинете. Их взгляды встретились. И Валентин вдруг понял, что ненависти в нем больше нет. Есть жалость. Жалость к этому вечно напуганному, затравленному человеку, который так и не смог вырваться из своей клетки страха и ненависти.
– Федор Семенович, – сказал Валентин, входя. – Надо обсудить план зимовки скота. Я внес некоторые предложения.
Он говорил о деле. О жизни. О будущем. И в этот момент он чувствовал себя свободным. Свободным от груза прошлого. Он принял его. Со всем его ужасом и грязью. Принял как часть себя. И поэтому оно больше не имело над ним власти.
Он вышел из конторы и глянул на небо. Чистое, холодное, казахстанское небо. Таким же оно было и над его первым домом. И он подумал, что, возможно, душа его отца, наконец, обрела покой. Не там, у моря, и не здесь, в степи. А где-то там, в этой бесконечной синеве, где нет ни границ, ни страха, ни пятен на карте. Только вечный, безмолвный полет.
Глава 26. Сын отца своего
1978 год. Руслан, студент третьего курса, приехал на летние каникулы. Он был уже не тем восторженным юношей, что уезжал в Алма-Ату. В его глазах появилась взрослая, сосредоточенная серьезность. Он привез с собой не только книги, но и портативный магнитофон – диковинку для их мест.
– Папа, я хочу записать твои воспоминания, – заявил он почти сразу по приезде. – И бабушкины. И деда Абыза. Все, что помните. О выселении. О первых годах здесь.
Валентин нахмурился. –Сын, мы уже все тебе рассказали. Зачем это на пленку? –Потому что устные рассказы – это одно, – настаивал Руслан. – А голос, живой голос, пережившего все это – это документ. Это свидетельство, которое не перепишешь. Оно останется. Для истории. Для моих детей.
Айгера поддержала сына. –Он прав, Валя. Наш голос должен быть услышан. Не газетная ложь, а наша правда.
И Валентин сдался. Вечерами, после работы, они садились за стол, и Руслан включал магнитофон. Ли-Хва, сначала смущаясь, тихим голосом рассказывала о своем доме у моря, о запахе водорослей и криках чаек. Ее голос, записанный на пленку, звучал хрупко и пронзительно.
Когда настала очередь Валентина, он долго молчал, глядя на вращающиеся катушки. –Что говорить? – прошептал он. – Как описать страх семилетнего мальчика, который не понимает, почему его вырывают из кровати среди ночи? Как описать вкус той первой лепешки из лебеды? Или запах промерзшей глины в землянке?
– Говори, как помнишь, папа, – тихо сказал Руслан. – Именно так, как есть.
И Валентин заговорил. Он говорил о стуке в дверь. О лице матери, искаженном ужасом. О том, как его друг Юра плакал в теплушке. О том, как умирала от голода маленькая Лена. Он говорил о первом зеленом ростке их яблони. О лице Айгеры в свете заката. О том, как отец, умирая, выглядел умиротворенным.
Он говорил долго, и временами голос его срывался, а временами в нем звучала сталь. Когда он закончил, в комнате стояла гробовая тишина, нарушаемая лишь шипением пленки.
– Вот она, наша история, – сказал Руслан, выключая магнитофон. – Непричесанная. Страшная. Но наша.
На следующее утро Руслан ушел с магнитофоном к Абызу. Старый аксакал слушал вопрос сына о том времени, качал головой и молча наливал чай. Потом, глядя куда-то вдаль, начал говорить на своем певучем языке. –Мы видели, как их везли. Эшелоны. Голодные, испуганные глаза в щелях вагонов. Мы сами боялись. Власть говорила – враги. Но разве враги так выглядели? Женщины, старики, дети... Мы, казахи, знаем, что такое джут, что такое голод. Мы не могли помочь всем. Но мы помогали, чем могли. Краюхой хлеба. Горстью кумыса. Потому что Аллах велел делиться с страждущим. А какая разница, кореец он, русский или казах? Страдание у всех одно.
Его голос, глубокий и неторопливый, был полон древней, кочевой мудрости. Он говорил не о политике, а о простой человеческой правде.
Вечером того же дня Руслан поставил пленку Валентину и Айгере. Они слушали голос Абыза, и Валентин не мог сдержать слез. –Вот видишь, – сказала Айгера, беря его за руку. – Мы были не одни. В самом сердце этого ада находились люди. Они и спасли нас. Не система. Не государство. Простые люди.
Руслан перемотал пленку. –Это – настоящая история, папа. Не та, что в учебниках. История человечности вопреки всему. И я ее сохраню.
Глава 27. Прозрение Федора Семеновича
1980 год. Федор Семенович Крутов вышел на пенсию. Его провожали без особых почестей. Он уезжал к дочери в Россию. В последний день, неожиданно для всех, он зашел в дом к Валентину.
Он стоял на пороге, постаревшей, съеженный, без былой сытой важности. –Можно? – сипло спросил он.
Валентин, удивленный, молча пропустил его. Крутов вошел, оглядел простую, но уютную комнату, стол, за которым сидела Ли-Хва, вышивающая подушку для будущего правнука. –Садитесь, Федор Семенович, – сказала Айгера, указывая на стул.
Крутов неуверенно сел. Помолчал. –Уезжаю, – пробормотал он. – Решил... перед отъездом... я должен...
Он замолчал, с трудом подбирая слова. –Я знаю, что вы все обо мне думаете, – наконец выдохнул он. – И вы правы. Я был... – он сглотнул, – стервецом.
Валентин и Айгера переглянулись. Они не ожидали такого. –Зачем вы нам это говорите? – спокойно спросил Валентин. – Иван Петрович. Я видел, что творилось. И чтобы спасти свою шкуру, я.… я делал то, что велели. А потом, здесь... я продолжал. Потому что боялся. Боялся, что мое прошлое всплывет. И я злился на вас. На всех. За то, что вы... выжили. Остались людьми. А я.. я уже нет.
В комнате повисла тяжелая тишина. Ли-Хва перестала вышивать и смотрела на Крутова с странным выражением – не с ненавистью, а с жалостью.
– Зачем вы нам все это рассказываете? – повторил Валентин. –Чтобы попросить прощения, – прошептал Крутов, и по его щекам, впервые, может быть за всю жизнь, потекли слезы. – Я знаю, что не имею права. Но... простите. Хоть один человек в этой жизни должен меня простить.
Валентин смотрел на этого сломленного, плачущего старика, и вся его ненависть, копившаяся годами, ушла, оставив после себя лишь пустоту и грусть. –Я не могу простить вас от имени всех, кого вы обидели, Федор Семенович, – тихо сказал он. – Но лично я.… я вас прощаю. Не потому, что вы заслужили. А потому, что нести в себе ненависть – слишком тяжело. Для меня. Для моей семьи.
Крутов поднял на него заплаканные глаза, в которых было недоумение и слабая надежда. –Правда? –Правда. Уезжайте с миром. И постарайтесь прожить остаток жизни... по-другому.
Крутов встал, пошатываясь, и, не глядя ни на кого, побрел к выходу. На пороге он обернулся. –Ваш отец... Ким Шин... он был настоящим человеком. А я.… – он не договорил, махнул рукой и вышел.
Валентин стоял посреди комнаты, чувствуя, как что-то тяжелое и черное навсегда уходит из его души. Он подошел к полке, взял ту самую жестяную кружку и крепко сжал ее в руке. Кружка была холодной, но в ней была память. И теперь в этой памяти было место не только для боли, но и для прощения. Горького, трудного, но необходимого. Как последнее лекарство для заживления старой, гноящейся раны.
Глава 28. Письмо из Кореи
1983 год. В жизни семьи Шин наступила пора относительного покоя. Руслан, окончив университет, работал в Алма-Ате в историческом архиве. Валентин и Айгера доживали свой век в саманном доме, который за долгие годы оброс добротными пристройками и настоящим садом, где рядом с яблонями росли сирень и черемуха.
Однажды весной почтальон принес необычное письмо. Конверт был тонким, почти прозрачным, с яркими иностранными марками. Адрес был написан по-русски, но корявым, неуверенным почерком. Валентин вскрыл конверт и увидел несколько листков, исписанных иероглифами. Сердце его екнуло. Он не читал по-корейски с детства.
Он отнес письмо матери. Ли-Хва, которой было уже за восемьдесят, надела очки, и ее руки задрожали. Она медленно, шепотом, начала читать, а потом переводить:
«Моей дорогой сестре Ли-Хва, если это письмо дойдет до тебя... Пишет тебе твой младший брат, Ын-Сан. Мы все эти годы думали, что ты погибла... После того как вас забрали, нам запретили о вас вспоминать. Но я никогда не забывал свою старшую сестру...»
Ли-Хва замолкла, закрыв глаза. По ее морщинистым щекам текли слезы. Валентин обнял ее за плечи, не в силах вымолвить слово. Он слышал о дяде Ын-Сане лишь смутно, из обрывков давних разговоров.
«...Сейчас времена изменились. Появилась возможность писать. Я нашел тебя через Красный Крест. Мы живем в Сеуле. У меня своя семья, дети, внуки. Отец и мать умерли много лет назад, так и не узнав, что с тобой...»
Ли-Хва плакала тихо, без рыданий, но все ее тело содрогалось от подавленных рыданий. Она прожила целую жизнь, думая, что ее прошлое навсегда похоронено за колючей проволокой границ и страха. И вот оно вернулось к ней – хрупкое, как этот листок бумаги, и огромное, как океан.
«...Я знаю, что вы пережили. Здесь теперь много пишут о корейцах, высланных Сталиным. Это наша общая боль. Я молюсь, чтобы ты была жива и здорова. Если сможешь, ответь. Твой брат, который всегда тебя любил».
Валентин сидел рядом с матерью, чувствуя, как рушатся последние стены. Стены, которые казались вечными. Оказалось, что через них можно перебросить мост из прошлого в настоящее. Хрупкий мост из бумаги и чернил.
– Мама... – тихо сказал он. – Ты нашла свою семью.
Ли-Хва кивнула, не в силах говорить. Она прижала письмо к груди, как когда-то в детстве прижимала к себе младшего брата.
В тот вечер в доме царила странная атмосфера – смесь радости, горя и недоумения. Ли-Хва перечитывала письмо снова и снова, касаясь пальцами иероглифов, словно пытаясь через них дотронуться до руки брата.
– Я даже не знаю, как он выглядит сейчас, – прошептала она. – Мальчишкой он был. Худющим. Вечно голодным.
Валентин смотрел на мать и думал о причудливых путях истории. Его семья была разорвана надвое диктатурой одного режима, а воссоединилась благодаря послаблению другого. Они были пешками в большой игре, длившейся почти полвека.
– Надо ответить, – сказала Айгера, принеся бумагу и ручку. – Немедленно. Чтобы он знал, что ты жива.
Ли-Хва взяла ручку, но рука ее дрожала. –Я... я не помню, как писать... – растерянно сказала она. – Я забыла...
Валентин взял ее руку в свою. –Диктуй, мама. Я помогу. Руслан переведет.
И они писали письмо. Длинное, путаное, полное слез и воспоминаний. Ли-Хва диктовала на русском, а Валентин записывал, стараясь сохранить каждое ее слово. Они писали о землянке, о саманном доме, о яблоневом саде. О Валентине, его семье, о правнуках, которых она нянчила. Они не писали о голоде и страхе. Они писали о жизни, которая, вопреки всему, продолжалась.
Отправляя письмо на следующий день, Валентин чувствовал, что запечатывает в конверт не просто листы бумаги. Он запечатывал часть души своей матери. Часть своей собственной истории, которая, наконец, обретала целостность.
Мир, который когда-то казался ему разделенным на «до» и «после», на «здесь» и «там», вдруг сжался, стал цельным. И в этом новом, огромном и одновременно маленьком мире, его семья, наконец, обрела свои потерянные корни.
Глава 29. Последний саманный кирпич
1985 год. В стране пахло переменами. До Казахстана доходили смутные слухи о новом молодом Генеральном секретаре, о каких-то разговорах «наверху» о «гласности» и «ускорении». Но для Валентина и Айгеры это была уже история. Их личная история подходила к своему завершению.
Ли-Хва умерла тихо, во сне, в возрасте восьмидесяти восьми лет. Ее похоронили рядом с Ким Шин, под сенью разросшихся яблонь. На ее могилу положили ту самую жестяную кружку – символ всей их жизни, от первого до последнего глотка.
Валентин стоял у двух могил – отца и матери – и чувствовал, как уходит целая эпоха. Эпоха страха, борьбы и немыслимой стойкости. Он был последним хранителем живой памяти о том времени.
Руслан, приехавший на похороны, уже был известным в узких кругах историком. Он работал над книгой о депортированных народах. –Папа, переезжай к нам в Алма-Ату, – уговаривал он отца. – Тебе уже тяжело одному здесь управляться. –Я не один, – улыбался Валентин, глядя на Айгеру. – И мое место здесь. Это мой дом. Я его строил. Вернее, мы его строили. – Он положил руку на шершавую стену саманного дома.
Дом действительно был уже последним в поселке. Вокруг давно стояли кирпичные коттеджи, а их саманная хатка с соломенной крышей казалась архаичным пережитком. Но Валентин и не думал от него отказываться.
Однажды, уже глубокой осенью, сильный ветер повредил часть стены. Валентин, несмотря на уговоры сына и Айгеры нанять рабочих, решил чинить ее сам.
– Я помню, как отец месил глину для первого кирпича, – сказал он. – Последний кирпич я положу сам.
Он пошел к высохшему руслу речки, набрал глины, смешал ее с водой и соломой, как учил его отец почти сорок лет назад. Его старые, иссеченные морщинами руки с трудом месили тяжелую, холодную массу. Айгера молча помогала ему, как когда-то в голодные годы.
Они работали весь день. Валентин лепил кирпичи, а Айгера подносила ему глину. Они почти не разговаривали. Весь их совместный путь – от первой встречи у зимовки до седины в волосах – был в этом молчаливом ритуале.
Когда последний кирпич был на месте и Валентин разглаживал сырую глину ладонью, он почувствовать невероятную усталость и невероятный покой. –Готово, – прошептал он. – Дом будет стоять.
Вечером они сидели на крыльце, укутавшись в один плед, и смотрели на звезды. Яблоневый сад, теперь уже огромный и могучий, шумел на ветру, словно рассказывая свои истории. –Помнишь нашу первую яблоню? – спросила Айгера. –Как не помнить. Я думал, она не выживет. –А она выжила. Как и мы все.
Валентин взял ее руку, нащупал на пальце то самое кольцо из конской гривы. –Мы прошли долгий путь, Айгера. –И прошли его достойно, Валя. Мы остались людьми.
Он смотрел на огни нового поселка, на асфальтированную дорогу, на телеантенны на крышах. Мир изменился. Страх отступил. Их дети и внуки жили в другой стране, о которой они, Валентин и Айгера, могли только мечтать.
– Знаешь, о чем я думаю? – сказал Валентин. – Я думаю, что наша жизнь – это и есть тот самый саманный кирпич. Смесь глины, соломы и слез. Хрупкий на вид, но переживший все бури. И из таких кирпичей сложена не только наша жизнь. Из них сложена вся эта земля. Вся эта страна. Из боли, труда и памяти.
Айгера прижалась к нему. –Главное, что мы сохранили в этом кирпиче душу, Валя. И эту душу мы передали нашем детям.
Они сидели так еще долго, слушая, как шумит в темноте их яблоневый сад – живой памятник всем, кто не сломался. Памятник страданию и надежде. Памятник дому, который всегда остается домом, где бы ты его ни построил и из чего бы он ни был сложен.
И в тишине степи, под бездонным казахстанским небом, их молчание было красноречивее любых слов. Оно говорило о законченной жизни. О завершенной битве. О любви, победившей смерть и страх. О простом человеческом счастье, добытом ценою невероятных усилий. И о памяти, которая будет жить вечно.
«Память — это мост, по которому прошлое возвращается домой.»
Послесловие
Посвящается Валентину Шин
Эта история написана не из архивов и не по чужим заметкам.
Она родилась из живого рассказа Валентина Шин — человека, который сам прошёл через годы испытаний и переселений, видел, как рушились судьбы и поднимались заново жизни.
Он говорил без громких слов, спокойно, как будто это всё происходило где-то рядом, а не в его собственной молодости. Но в его взгляде оставалась память, такая же глубокая, как степь, в которой им пришлось строить новую судьбу.
Валентин Шин рассказал не просто о депортации, а о человеческом достоинстве, о способности выстоять, не ожесточившись. Его слова звучали как напоминание — о цене выживания и о силе доброты, сохранившей людей, несмотря на боль и несправедливость.
Эта история — мой низкий поклон ему и всем, кто пережил то время.
Пусть эти страницы сохранят не только факты, но и ту светлую веру в жизнь, которую он пронёс через всю судьбу.
Памяти Валентина Шин посвящается.
Он остался в сердце — как свидетель, как человек, как пример.
Дисклеймер
Все события, описанные в данной книге, являются художественным произведением.
Любые совпадения имён, фамилий, мест действия и обстоятельств с реальными людьми, организациями и событиями — случайны и непреднамеренны.
Автор не несёт ответственности за возможные интерпретации текста, сделанные читателями.
Мнения, выраженные персонажами, принадлежат исключительно им и не отражают взглядов автора.
Все права на данное произведение, включая текст, структуру, иллюстрации и оформление, защищены в соответствии с законодательством об авторском праве.
Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения автора запрещено.
© [2025 год] [Кадочников Игорь Николаевич]
Все права защищены.
________________________________________
Свидетельство о публикации №225101300868