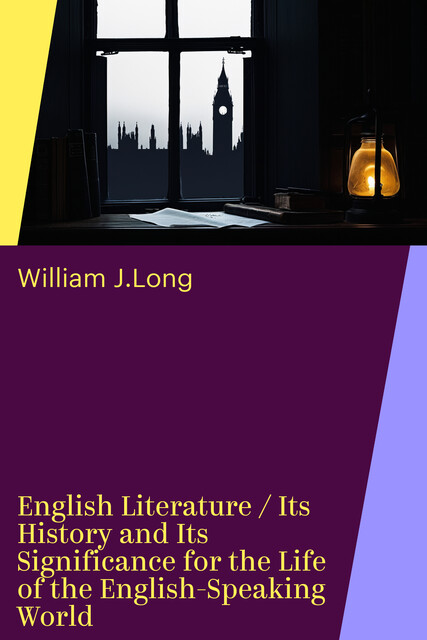English Literature Its History and Its Significanc
English Literature / Its History and Its Significance for the Life of the English-Speaking World
Английская литература, ее история и значение для жизни англо-язычного мира
УИЛЬЯМ Дж. ЛОНГ, доктор философии. (Гейдельберг)
МОЕМУ ДРУГУ Ч Т С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ПОСТОЯННУЮ ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ЭТОЙ КНИГИ
ПРЕДИСЛОВИЕ
===========
Эта книга, представляющая всю великолепную историю английской литературы от англосаксонских времен до конца викторианской эпохи, преследует три конкретные цели. Первая — создать или поощрить у каждого ученика желание читать лучшие книги и знать саму литературу, а не то, что о ней написано. Вторая — интерпретировать литературу как личностно, так и исторически, то есть показать, что великая книга вообще отражает не только жизнь и мысли автора, но и дух эпохи и идеалы национальной истории. Третья цель — показать, изучая каждый последующий период, как наша литература неуклонно развивалась от первых простых песен и рассказов до нынешней сложности прозы и поэзии.
Для достижения этих целей мы ввели следующие функции:
(1) Краткий и точный обзор исторических событий и социальных условий каждого периода, а также рассмотрение идеалов, которые волновали всю нацию, как во времена Елизаветы, прежде чем они нашли выражение в литературе.
(2) Поочередное изучение различных литературных эпох, показывающее, что каждая из них получила от предыдущей эпохи и как каждая из них способствовала развитию национальной литературы.
(3) Читабельная биография каждого выдающегося писателя, показывающая, как он жил и работал, как он добился успеха или потерпел неудачу, как он повлиял на свой возраст и как возраст повлиял на него.
(4) Изучение и анализ лучших произведений каждого автора, а также многих книг, необходимых для вступительных экзаменов в колледж.
(5) Достаточное количество избранных произведений — особенно из ранних писателей, а также из писателей, которых вряд ли можно найти в домашней или школьной библиотеке, — чтобы передать дух произведения каждого автора; и указания о том, какие произведения лучше всего читать, и где такие произведения можно найти в недорогих изданиях.
(6) Откровенное, нетехническое обсуждение творчества каждого великого писателя в целом и критическая оценка его относительного места и влияния в нашей литературе.
(7) Ряд справок студентам и преподавателям в конце каждой главы, включающий конспекты, избранные материалы для чтения, библиографию, список наводящих вопросов и хронологическую таблицу важных событий в истории и литературе каждого периода.
(8) На протяжении всей этой книги мы помнили предположение Роджера Ашама, сделанное более трех столетий назад и все еще актуальное, о том, что «это плохой способ заставить ребенка полюбить учебу, начиная с того, что ему по природе не нравится». Мы сделали упор на прелести литературы; мы относились к книгам не просто как к инструментам исследования (что представляет опасность для большинства наших исследований), а скорее как к инструментам удовольствия и вдохновения; и, делая наше обучение как можно более привлекательным, мы стремились побудить студента самостоятельно читать, выбирать лучшие книги и формировать собственное суждение о том, что наши первые англосаксонские писатели называли «вещами, достойными памяти». ."
Тем, кто может использовать эту книгу дома или в классе, автор осмеливается предложить одно или два дружеских совета, исходя из своего собственного опыта учителя молодежи. Во-первых, количество места, отведенное здесь разным периодам и авторам, не является показателем относительного количества времени, потраченного на разные темы. Таким образом, чтобы рассказать историю жизни и идеалов Спенсера, требуется столько же места, сколько и для рассказа истории Теннисона; но средний класс приятнее и с пользой проведет время со вторым поэтом, чем с первым. Во-вторых, многих авторов, которые включены и должны быть включены в эту историю, не обязательно изучать в классе.
Учебник — это не катехизис, а кладовая, в которой находишь то, что хочешь, да еще и хорошие вещи. Например, немногие классы найдут время для изучения Блейка или Ньюмана; но почти в каждом классе найдутся один или два ученика, которых привлекает мистицизм Блейка или глубокая духовность Ньюмана. Таких студентов следует поощрять следовать своему собственному духу и делиться с одноклассниками радостью своих открытий. И они должны найти в своем учебнике материал для собственного изучения и чтения.
Третье предложение касается метода преподавания литературы; и здесь хорошо бы принять во внимание слова великого поэта: если хочешь знать, где самая спелая вишня, спроси у мальчиков и черных дроздов. Удивительно, как много молодой человек выучит из «Венецианского купца» и каким-то образом придет к шекспировскому мнению о Шейлоке и Порции, если мы не будем слишком утомлять его заметками и критическими указаниями относительно того, что ему следует искать и находить. . Выпустите ребенка и осла на одно и то же поле, и ребенок направится прямо к красивым местам, где бегут ручьи и поют птицы, в то время как осел так же естественно превращается в сорняки и чертополох. При изучении литературы мы, возможно, слишком симпатизируем последнему и даже настаиваем на том, чтобы ребенок вернулся после своих поисков идеала и присоединился к нам в нашем критическом общении. Читая в последнее время множество учебников и посещая многие классы, у писателя сложилось впечатление, что мы придаем слишком большое значение критике из вторых рук, передаваемой из книги в книгу; и мы заставляем наших учеников искать фигуры речи и элементы стиля, как если бы великие книги мира подвергались химическому анализу. Это кажется ошибкой по двум причинам: во-первых, у среднего молодого человека нет естественного интереса к таким вещам; а во-вторых, он не способен их оценить. Он бессознательно чувствует себя с Чосером:
А что касается меня, то хотя мой ум и мал,
Но книгами, которые нужно перечитать, я делюсь.
Действительно, многие зрелые люди (в том числе и автор этой истории) часто не могут с первого раза объяснить очарование или стиль автора, который им нравится; и чем глубже впечатление, производимое книгой, тем труднее дать выражение наших мыслей и чувств. Читать хорошие книги и получать от них удовольствие – это у нас, как и у Чосера, главное; анализировать стиль автора или объяснять наше собственное удовольствие кажется второстепенным и незначительным. Как бы то ни было, мы откровенно заявляем о нашем собственном убеждении, что детальное изучение и анализ нескольких стандартных произведений — которые являются единственной литературной литературой, которую дают многим молодым людям в наших школах — имеет такое же отношение к истинной литературе, какое теология имеет к религии. , или психология дружбы. Одна из них — это более или менее нежелательная умственная дисциплина; другая — радость жизни.
Писатель отваживается предположить поэтому, что, поскольку нашим предметом является литература, мы начинаем и кончаем хорошими книгами; и что мы стоим в стороне, пока великие писатели говорят нашим ученикам свое послание. Изучая каждый последующий период, пусть ученик начнет с чтения лучшего, что произвела эта эпоха; пусть он по-своему почувствует силу и тайну Беовульфа, широкое милосердие Шекспира, возвышенность Мильтона, романтический энтузиазм Скотта; а затем, когда его собственный вкус будет удовлетворен и удовлетворен, возникнет новый вкус — узнать что-нибудь об авторе, о временах, в которых он жил, и, наконец, о критике, которая в своей простоте является открытием того, что люди и женщины других возрастов были очень похожи на нас, любили так же, как любим мы, несли те же бремена и следовали тем же идеалам:
Ло, с древним
Корни человеческой природы
Шпагаты вечные
Страсть песни.
Ever Love фанаты этого;
Вечная Жизнь питает его;
Время не может его состарить;
Смерть не может убить.
Одна из задач этой книги — ответить на вопросы, которые естественным образом возникают между учителем и учеником относительно книг, которые они читают. Его цель – не просто наставлять, но и вдохновлять; проследить историческое развитие английской литературы и в то же время привлечь читателей к лучшим книгам и лучшим писателям. И от начала до конца оно написано исходя из того, что первое достоинство такого произведения — точность, а второе — интересность.
Автор с благодарностью и признательностью признает свою признательность профессору Уильяму Лайону Фелпсу за использование его литературной карты Англии, а также внимательным критикам, преподавателям литературы и истории, которые прочитали корректуру этой книги и улучшили ее своими полезными предложениями.
ГЛАВА I
ВВЕДЕНИЕ — ЗНАЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ
===============================
Держи хай-вей, и пусть твой гость тебя ведёт.
Чосеровская правда
Вперед, вперед, благороднейшие англичане, …
Следуйте своему духу.
Генрих V Шекспира
РАКУШКА И КНИГА.
================
Однажды ребенок и мужчина гуляли по берегу моря, когда ребенок нашел маленькую ракушку и поднес ее к уху. Вдруг он услышал звуки — странные, низкие, мелодичные звуки, как будто ракушка вспоминала и повторяла себе шепот своего морского дома. Лицо ребенка наполнилось удивлением, когда он прислушался. Здесь, в маленькой ракушке, по-видимому, был голос из другого мира, и он с восторгом слушал его тайну и музыку. Затем пришел мужчина, объяснив, что ребенок не услышал ничего странного; что жемчужные изгибы ракушки просто уловили множество звуков, слишком слабых для человеческих ушей, и наполнили мерцающие пустоты шепотом бесчисленных эхом. Это был не новый мир, а лишь незамеченная гармония старого, которая пробудила удивление ребенка.
Такой опыт, как этот, ожидает нас, когда мы начинаем изучать литературу, которая всегда имеет два аспекта: один из них — простое наслаждение и оценка, другой — анализ и точное описание. Пусть маленькая песня взывает к уху, а благородная книга — к сердцу, и на мгновение, по крайней мере, мы откроем для себя новый мир, мир, настолько отличающийся от нашего, что он кажется местом снов и волшебства. Войти в этот новый мир и наслаждаться им, любить хорошие книги ради них самих — вот главное;
Подобный опыт ожидает нас, когда мы начинаем изучать литературу, которая всегда имеет два аспекта: один — простое наслаждение и признание, другой — анализ и точное описание. Пусть маленькая песня взывает к уху, а благородная книга — к сердцу, и на мгновение, по крайней мере, мы откроем для себя новый мир, мир, настолько отличающийся от нашего, что он кажется местом снов и волшебства. Войти и насладиться этим новым миром, полюбить хорошие книги ради них самих — вот главное; анализировать и объяснять их — менее радостное, но все же важное дело. За каждой книгой стоит человек; за человеком стоит раса; а за расой — природная и социальная среда, влияние которой отражается бессознательно. Их мы также должны знать, если книга должна выразить все свое послание. Одним словом, мы достигли точки, когда мы хотим понимать литературу, а также наслаждаться ею; и первый шаг, поскольку точное определение невозможно, — это определить некоторые из ее основных качеств.
КАЧЕСТВА ЛИТЕРАТУРЫ.
====================
Первое существенное качество — это по сути своей художественное качество всей литературы. Все искусство есть выражение жизни в формах истины и красоты; или, скорее, это отражение некоторой истины и красоты, которые есть в мире, но которые остаются незамеченными, пока не будут доведены до нашего внимания какой-то чувствительной человеческой душой, так же как нежные изгибы раковины отражают звуки и гармонии, слишком слабые, чтобы их можно было заметить иным образом. Сотня мужчин может пройти мимо сенокоса и увидеть только потный труд и валки сухой травы; но вот один, который останавливается у румынского луга, где девушки заготавливают сено и поют во время работы. Он смотрит глубже, видит истину и красоту там, где мы видим только мертвую траву, и он отражает то, что видит, в небольшом стихотворении, в котором сено рассказывает свою собственную историю:
Я — вчерашние цветы,
И я выпил свой последний сладкий глоток росы.
Юные девы пришли и пели мне до моей смерти;
Луна смотрит вниз и видит меня в моем саване,
Саване моей последней росы.
Вчерашние цветы, которые еще во мне
Должны уступить место всем завтрашним цветам.
И девы, которые пели мне до моей смерти
Должны также уступить место всем девам
И как моя душа, так и их душа будет
Наполнена ароматом прошедших дней.
Девы, которые завтра придут сюда
Не вспомнят, что я когда-то цвел,
Ибо они увидят только новорожденные цветы.
Но моя напоенная ароматом душа вернется,
Как сладкое воспоминание, в женские сердца
Их дни девственности.
И тогда они пожалеют, что пришли
Чтобы петь мне до моей смерти;
И все бабочки будут скорбеть обо мне.
Я уношу с собой
Дорогое воспоминание о солнечном свете и низкое
Мягкий шепот весны.
Мое дыхание сладко, как детский лепет;
Я впитал всю плодородность земли,
Чтобы сделать из нее аромат моей души,
Что переживет мою смерть.
Таким же приятным, удивительным образом, всякое художественное произведение должно быть своего рода откровением. Так, архитектура, вероятно, является самым древним из искусств; однако у нас все еще много строителей, но мало архитекторов, то есть людей, чья работа в дереве или камне предлагает некую скрытую истину и красоту человеческим чувствам. Так и в литературе, которая является искусством, выражающим жизнь словами, которые обращаются к нашему собственному чувству прекрасного, у нас много писателей, но мало художников. В самом широком смысле, возможно, литература означает просто письменные записи расы, включая всю ее историю и науки, а также ее поэмы и романы; в более узком смысле литература является художественным отчетом о жизни, и большая часть наших произведений исключена из нее, так же как масса наших зданий, простых укрытий от шторма и холода, исключена из архитектуры. История или научное произведение могут быть и иногда являются литературой, но только когда мы забываем о предмете и представлении фактов в простой красоте его выражения.
Второе качество литературы — ее внушаемость, ее обращение к нашим эмоциям и воображению, а не к нашему интеллекту. Ее очарование заключается не столько в том, что она говорит, сколько в том, что она пробуждает в нас. Когда Мильтон заставляет Сатану сказать: «Я сам — Ад», он не утверждает никакого факта, а скорее открывает в этих трех потрясающих словах целый мир домыслов и воображения. Когда Фауст в присутствии Елены спрашивает: «Это ли лицо спустило на воду тысячу кораблей?», он не утверждает факт и не ждет ответа. Он открывает дверь, через которую наше воображение входит в новый мир, мир музыки, любви, красоты, героизма — весь великолепный мир греческой литературы. Такое волшебство — в словах.
Когда Шекспир описывает молодого Бирона, он говорит:
В таких метких и любезных словах
Когда Шекспир описывает молодого Бирона как говорящего:
Такими меткими и любезными словами
Что старые уши прогуливают его рассказы,
Он неосознанно дал не только превосходное описание себя, но и меру всей литературы, которая заставляет нас прогуливать сегодняшний мир и бежать, чтобы пожить некоторое время в приятном царстве фантазии. Область всякого искусства — не поучать, а восхищать; и только поскольку литература восхищает нас, заставляя каждого читателя строить в своей душе тот «величественный дом удовольствий», о котором мечтал Теннисон в своем «Дворце искусств», она достойна своего названия.
Третья характеристика литературы, вытекающая непосредственно из двух других, — ее постоянство. Мир жив не хлебом единым. Несмотря на свою спешку, суету и очевидную поглощенность материальными вещами, он не позволяет по доброй воле погибнуть ни одной прекрасной вещи. Это даже более верно для его песен, чем для его живописи и скульптуры; хотя постоянство — это качество, которого мы вряд ли должны ожидать в нынешнем потоке книг и журналов, льющихся день и ночь из наших печатных станков во имя литературы. Но эта проблема слишком большого количества книг не является современной, как мы полагаем. Она была проблемой с тех пор, как Кэкстон привез первый печатный станок из Фландрии четыреста лет назад и в тени Вестминстерского аббатства открыл свой маленький магазинчик и рекламировал свои товары как «хорошие и дешевые». Еще раньше, за тысячу лет до Кэкстона и его печатного станка, занятые ученые великой Александрийской библиотеки обнаружили, что количество пергаментов слишком велико для них; и теперь, когда мы печатаем за неделю больше, чем все александрийские ученые могли бы скопировать за столетие, кажется невозможным, чтобы какое-либо произведение могло быть постоянным; чтобы какая-либо песня или история могли жить, чтобы радовать будущие века. Но литература подобна реке в разливе, которая постепенно очищается двумя способами: грязь оседает на дне, а пена поднимается наверх. Когда мы изучаем произведения, которые по общему согласию составляют нашу литературу, чистый поток, очищенный от шлаков, мы находим по крайней мере еще два качества, которые мы называем критериями литературы и которые определяют ее постоянство.
ТЕСТЫ ЛИТЕРАТУРЫ.
===================
Первый из них — универсальность, то есть обращение к самым широким человеческим интересам и самым простым человеческим эмоциям. Хотя мы говорим о национальных и расовых литературах, таких как греческая или тевтонская, и хотя каждая из них имеет определенные поверхностные черты, вытекающие из особенностей ее собственного народа, тем не менее верно, что хорошая литература не знает ни национальности, ни каких-либо границ, кроме границ человечества. Она занята главным образом элементарными страстями и эмоциями — любовью и ненавистью, радостью и печалью, страхом и верой, — которые являются неотъемлемой частью нашей человеческой природы; и чем больше она отражает эти эмоции, тем вернее она пробуждает отклик в людях каждой расы. Каждый отец должен откликнуться на притчу о блудном сыне; везде, где люди героичны, они признают мастерство Гомера; везде, где человек размышляет о странном явлении зла в мире, он найдет свои собственные мысли в Книге Иова; где бы люди ни любили своих детей, их сердца должны быть взволнованы трагической скорбью Эдипа и короля Лира. Все это лишь яркие примеры закона, который становится постоянным лишь тогда, когда книга или песенка взывают к всеобщему человеческому интересу.
Второе испытание — чисто личное, и может быть выражено неопределенным словом «стиль». Только в механическом смысле стиль — это «адекватное выражение мысли» или «особая манера выражения мысли» или любое другое из определений, которые встречаются в риторике. В более глубоком смысле стиль — это человек, то есть бессознательное выражение собственной личности писателя. Это сама душа одного человека, отражающая, как в стекле, мысли и чувства человечества. Как ни одно стекло не бесцветно, но более или менее глубоко окрашивает отражения от своей поверхности, так и ни один автор не может интерпретировать человеческую жизнь, не придавая ей бессознательно родной оттенок своей собственной души. Именно этот интенсивно личный элемент составляет стиль. Каждая постоянная книга имеет больше или меньше этих двух элементов, объективного и субъективного, универсального и личного, глубокую мысль и чувство расы, отраженные и окрашенные собственной жизнью и опытом писателя.
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.
========================
Помимо удовольствия от чтения, погружения в новый мир и оживления нашего воображения, изучение литературы имеет одну определенную цель, а именно познание людей. Человек всегда является двойственным существом; у него есть внешняя и внутренняя природа; он не только совершает поступки, но и мечтает; и чтобы познать его, человека любой эпохи, мы должны искать глубже, чем его историю. История записывает его деяния, его внешние поступки в значительной степени; но каждое великое деяние возникает из идеала, и чтобы понять это, мы должны читать его литературу, где мы находим записанные его идеалы. Когда мы читаем историю англосаксов, например, мы узнаем, что они были морскими разбойниками, пиратами, исследователями, большими едоками и пьяницами; и мы знаем кое-что об их лачугах и привычках, и о землях, которые они разоряли и грабили. Все это интересно; но это не говорит нам то, что мы больше всего хотим знать об этих наших древних предках, — не только то, что они делали, но и то, что они думали и чувствовали; как они смотрели на жизнь и смерть; что они любили, чего они боялись и что они почитали в Боге и человеке. Затем мы переходим от истории к литературе, которую они сами создали, и мгновенно знакомимся. Эти отважные люди были не просто бойцами и флибустьерами; они были людьми, такими же, как мы; их эмоции пробуждают мгновенный отклик в душах их потомков. При словах их менестрелей мы снова трепещем от их дикой любви к свободе и открытому морю; мы становимся нежными от их любви к дому и патриотичными от их бессмертной преданности своему вождю, которого они выбрали для себя и водрузили на свои щиты в символ его лидерства. Мы снова становимся почтительными в присутствии чистой женственности или меланхоличными перед печалями и проблемами жизни, или смиренно уверенными, глядя на Бога, которого они осмелились назвать Всеотцом. Все эти и многие другие яркие, подлинные эмоции проходят через наши души, когда мы читаем несколько ярких фрагментов стихов, которые оставили нам ревнивые века.
Так происходит с любой эпохой и народом. Чтобы понять их, мы должны читать не просто их историю, которая записывает их деяния, но и их литературу, которая записывает мечты, сделавшие их деяния возможными.
Поэтому Аристотель был глубоко прав, когда говорил, что «поэзия серьезнее и философичнее истории», а Гете объяснял литературу как «гуманизацию всего мира».
ЗНАЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ.
=====================
Существует любопытное и распространенное мнение, что литература, как и все виды искусства, — это всего лишь игра воображения, достаточно приятная, как новый роман, но не имеющая серьезного или практического значения. Ничто не может быть дальше от истины. Литература сохраняет идеалы народа; а идеалы — любовь, вера, долг, дружба, свобода, почтение — являются частью человеческой жизни, наиболее достойной сохранения. Греки были чудесным народом; однако из всех их великих творений мы лелеем лишь несколько идеалов — идеалы красоты в бренном камне и идеалы истины в нетленной прозе и поэзии. Именно идеалы греков, евреев и римлян, сохраненные в их литературе, сделали их тем, чем они были, и определили их ценность для будущих поколений. Наша демократия, предмет гордости всех англоязычных наций, — это мечта; не сомнительное и порой удручающее зрелище, представленное в наших законодательных залах, а прекрасный и бессмертный идеал свободного и равного человечества, сохраненный как драгоценнейшее наследие во всех великих литературных произведениях от греков до англосаксов. Все наши искусства, наши науки, даже наши изобретения основаны прямо на идеалах; ибо в основе каждого изобретения все еще лежит мечта Беовульфа о том, что человек может преодолеть силы природы; и основой всех наших наук и открытий является бессмертная мечта о том, что люди «будут как боги, знающие добро и зло».
Одним словом, вся наша цивилизация, наша свобода, наш прогресс, наши дома, наша религия прочно покоятся на идеалах как на их основе. Ничто, кроме идеала, никогда не длится на земле. Поэтому невозможно переоценить практическое значение литературы, которая сохраняет эти идеалы от отцов к сыновьям, в то время как люди, города, правительства, цивилизации исчезают с лица земли. Только когда мы помним об этом, мы ценим действия набожного мусульманина, который подбирает и бережно сохраняет каждый клочок бумаги, на котором написаны слова, потому что клочок может случайно содержать имя Аллаха, а идеал слишком важен, чтобы пренебрегать им или терять его.
РЕЗЮМЕ ПРЕДМЕТА.
Теперь мы готовы, если не определить, то хотя бы немного яснее понять предмет нашего настоящего исследования. Литература — это выражение жизни в словах истины и красоты; это письменное свидетельство человеческого духа, его мыслей, эмоций, стремлений; это история, и единственная история, человеческой души. Она характеризуется своими художественными, своими суггестивными, своими постоянными качествами. Ее двумя критериями являются ее всеобщий интерес и ее личный стиль. Ее цель, помимо удовольствия, которое она нам дает, — познать человека, то есть душу человека, а не его действия; и поскольку она сохраняет для расы идеалы, на которых основана вся наша цивилизация, она является одним из самых важных и восхитительных предметов, которые могут занимать человеческий разум.
БИБЛИОГРАФИЯ.
(ПРИМЕЧАНИЕ.
Каждая глава в этой книге включает специальную библиографию исторических и литературных произведений, подборки для чтения, хронологию и т. д.; а общая библиография текстов, справочных материалов и справочников будет найдена в конце. Следующие книги, которые являются одними из лучших в своем роде, предназначены для того, чтобы помочь студенту лучше оценить литературу и лучше узнать литературную критику.)
ОБЩИЕ РАБОТЫ.
Оценка литературы Вудберри (Baker & TaylorCo.);
Исследования оценки Гейтса (Macmillan);
Беседы об изучении литературы Бейтса (Houghton, Mifflin);
О применении суждения в литературе Уорсфолда (Dent);
Выбор книг Харрисона (Macmillan);
Сезам и лилии Раскина, часть I;
Очерки критики Мэтью Арнольда.
КРИТИКА.
Введение в методы и материалы литературной критики Гейли и Скотта (Ginn and Company);
Принципы литературной критики Винчестера (Macmillan);
Принципы критики Ворсфолда (Longmans);
Элементы литературной критики Джонсона (American Book Company);
История критики Сейнтсбери (Dodd, Mead).
ПОЭЗИЯ.
Справочник по поэзии Гуммера (Ginn and Company);
Природа и элементы поэзии Стедмана (Houghton, Mifflin);
Формы английской поэзии Джонсона (American Book Company);
Образцы английской поэзии Олдена (Holt);
Начало поэзии Гуммера (Macmillan);
История английской просодии Сэйнтсбери (Macmillan).
ДРАМА.
Оценка драмы Каффина (Baker & Taylor Co.).
РОМАН.
«Английский роман» Рэли (Scribner);
«Материалы и методы создания художественной литературы» Гамильтона (Baker & Taylor Co.).
ГЛАВА II
АНГЛОСАКСОНСКИЙ ИЛИ ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОД (450-1050)
=======================================================
I. НАША ПЕРВАЯ ПОЭЗИЯ
=====================
БЕОВУЛЬФ.
=========
Вот история Беовульфа, самого раннего и величайшего эпоса или героической поэмы в нашей литературе. Она начинается с пролога, который не является существенной частью истории, но который мы с удовольствием просматриваем ради великолепной поэтической концепции, которая создала Скильда, короля датчан-копьеносцев.[2]
В то время, когда у датчан-копьеносцев не было короля, в их гавань приплыл корабль. Он был полон сокровищ и оружия; и посреди этих воинственных вещей спал младенец. Ни один человек не управлял кораблем; он пришел сам по себе, привезя ребенка, которого звали Сцильд.
Теперь Скильд вырос и стал могучим воином, и много лет возглавлял датчан-копьеносцев, и был их королем. Когда его сын Беовульф[3] стал достаточно сильным и мудрым, чтобы править, тогда Вирд (Судьба), который говорит с человеком только один раз, пришел и встал рядом; и пришло время Скильду уйти. Вот как они похоронили его:
Затем Скильд ушел, по слову Вирда,
Герой, чтобы отправиться в дом богов.
Грустно они понесли его к краю океана,
Соратники, все еще внимая его слову приказа.
В гавани стоял корабль принца, готовый,
С гордо изогнутым носом и сияющими поднятыми парусами.
К кораблю они понесли его, своего любимого героя;
Могущественного они положили у подножия мачты.
Там были сокровища, собранные издалека и близко,
Кольчуги битвы, доспехи и мечи;
Никогда киль не выплывал из гавани
Так великолепно украшенный атрибутами войны.
Они навалили на его грудь клад ярких драгоценностей
Чтобы отправиться с ним дальше на великой груди потопа.
Не меньше даров они дали, чем дало Неизвестное,
Когда он один, как ребенок, пришел из болота.
Высоко над его головой развевался яркий золотой штандарт —
Теперь пусть волны несут его богатства к холму.
С грустью в душе они вернули свой дар океану,
Скорбное их настроение, когда он отплыл в море.
"И ни один человек," говорит поэт, "ни советник, ни герой, не может сказать, кто получил этот груз".
Одним из потомков Скильда был Хротгар, король датчан; и с него начинается история нашего Беовульфа. Хротгар в старости построил у моря медовый зал под названием Хеорот, самый великолепный зал во всем мире, где король и его таны собирались каждую ночь, чтобы пировать и слушать песни его менестрелей. Однажды ночью, когда они все спали, ужасное чудовище Грендель ворвалось в зал, убило тридцать спящих воинов и унесло их тела, чтобы сожрать их в своем логове под морем. Ужасный визит быстро повторился, и страх и смерть воцарились в большом зале. Сначала воины сражались; но бежали, когда обнаружили, что никакое оружие не может навредить чудовищу. Хеорот остался покинутым и молчаливым. В течение двенадцати зим продолжались ужасные набеги Гренделя, и радость сменилась трауром среди датчан-копьеносцев.
Наконец слух о Гренделе пересек море и достиг страны Геатов, где в доме своего дяди, короля Хигелака, жил молодой герой. Его звали Беовульф, человек огромной силы и храбрости, и могучий пловец, который развил свои способности, сражаясь с «никерами», китами, моржами и тюленями, в скованном льдами северном океане. Когда он услышал эту историю, Беовульф был взволнован и решил пойти и сразиться с чудовищем и освободить датчан, которые были друзьями его отца.
С четырнадцатью спутниками он пересекает море. Здесь есть превосходный отрывок океанской поэзии (ll. 210-224), и мы получаем яркое представление о гостеприимстве храброго народа, следуя описанию поэтом встречи Беовульфа с королем Хротгаром и королевой Валхтеов, а также о радости, пиршестве и рассказывании историй в Хеороте.
Картина Веалтеов, передающей кубок с медом воинам собственной рукой, благородна и ясно указывает на почтение, которое эти сильные мужчины оказывают своим женам и матерям. Наступает ночь; страх перед Гренделем снова охватывает датчан, и все отступают после того, как король предупредил Беовульфа об ужасной опасности ночевки в зале. Но Беовульф ложится со своими воинами, гордо говоря, что, поскольку оружие бесполезно против чудовища, он сразится с ним голыми руками и доверится силе воина.
Из болот, из туманных пустошей,
Грендель скользнул — гнев Божий он нес —
Под облаками, пока не увидел ясно,
Сверкающий золотыми пластинами, медовый зал людей.
Упала дверь, хотя и запертая огненными полосами;
Открылась она от удара его лапы.
Распухшая от ярости, вспыхнула в носильщике тюков;
В его глазах запылал яростный свет, подобный огню.
При виде спящих в зале людей Грендель в душе смеется, думая о своем пире. Он хватает ближайшего спящего, крушит его «костяной футляр» укусом, разрывает его на части и проглатывает. Затем он подкрадывается к ложу Беовульфа и протягивает коготь, но обнаруживает, что он сжат в стальной хватке. Внезапный ужас поражает сердце монстра. Он ревёт, борется, пытается вырвать руку; но Беовульф вскакивает на ноги и голыми руками хватает своего врага. Они мечутся взад и вперёд. Столы опрокидываются; золотые скамьи вырываются из креплений; всё здание сотрясается, и только железные обручи удерживают его от распада на куски. Спутники Беовульфа уже на ногах, тщетно рубя монстра мечами и боевыми топорами, добавляя свои крики к грохоту мебели и воющей «военной песне» Гренделя. Снаружи в городе датчане стоят, дрожа от шума. Монстр медленно пробирается к двери, волоча за собой Беовульфа, чьи пальцы хрустят от напряжения, но который так и не ослабляет своей первой хватки. Внезапно в боку монстра открывается широкая рана; сухожилия рвутся; вся рука отрывается у плеча; и Грендель с криком убегает через болото и ныряет в море, чтобы умереть.
Беовульф сначала ликует от своей ночной работы; затем он вешает огромную руку с ее ужасными когтями на перекладину над королевским сиденьем, как вешают шкуру медведя после охоты. На рассвете пришли датчане; и весь день, в перерывах между пением, рассказыванием историй, произнесением речей и дарением подарков, они возвращаются, чтобы подивиться могучей «хватке Гренделя» и возрадоваться победе Беовульфа.
Когда наступает ночь, в Хеороте устраивается большой пир, и датчане снова спят в большом зале. В полночь приходит еще одно чудовище, ужасное, получеловеческое существо, мать Гренделя, яростно желающая отомстить за свое потомство. Она громыхает в дверь; датчане вскакивают и хватаются за оружие; но чудовище входит, хватает Эшера, друга и советника короля, и уносится с ним через болота.
Утром вспоминаются старые сцены скорби, но Беовульф говорит просто:
Не печалься, мудрец. Лучше для каждого
Чтобы он отомстил за друга, чем чтобы он много скорбел.
Каждого из нас ждет конец
Мирской жизни: пусть тот, кто может получить
Честь перед смертью. Это для воина,
Когда он умрет, потом лучшее.
Встань, страж королевства! Пойдем скорее
Чтобы увидеть след родственницы Гренделя.
Я обещаю тебе: она не сбежит,
Ни в лоне земли, ни в горном лесу,
Ни в глубинах океана, куда бы она ни пошла.
Затем он готовится к новой битве и следует по следу второго врага через болота. Вот описание Хротгаром места, где живут монстры, «духи иного мира», как он их называет:
Они обитают
В тусклой земле, которая дает убежище волку,
На ветреных мысах, на опасных болотных тропах,
Где под горным туманом ручей течет вниз
И затапливает землю. Недалеко отсюда, всего в миле,
Озеро стоит, над которым нависают рощи смертоносного холода,
Лес с крепкими корнями затеняет поток;
Там каждую ночь жуткое чудо
Видно, огонь в воде. Ни один человек не знает,
Даже самый мудрый, дна этого озера.
Твердорогий вересковый охотник, олень, когда его прижимают,
Утомленный гончими и преследуемый издалека,
Скорее умрет от жажды на его берегу,
Чем склонит к нему голову.
Он нечестив.
Темные до облаков его дрожжевые волны вздымаются,
Когда ветер возбуждает ненавистную бурю, пока воздух
Не станет унылым, и небеса не прольют слезы.
Беовульф ныряет в ужасное место, в то время как его товарищи ждут его на берегу. Долгое время он тонет в потоке; затем, когда он достигает дна, мать Гренделя бросается на него и тащит его в пещеру, где морские чудовища роятся на него сзади и скрежещут его доспехами своими клыками. Лезвие его меча поворачивается от мощного удара, который он наносит меревиф; но это не вредит чудовищу. Отбросив оружие в сторону, он хватает ее и пытается швырнуть ее вниз, в то время как ее когти и зубы бьют по его латам, но не могут пробить стальные кольца. Она бросается на него своим телом, сокрушает его, выхватывает короткий меч и вонзает его в него; но снова его великолепная кольчуга спасает его. Теперь он утомлен и подавлен. Внезапно, когда его взгляд окидывает пещеру, он замечает волшебный меч, сделанный великанами давным-давно, слишком тяжелый для воинов. Поднявшись, он хватает оружие, разворачивает его и наносит сокрушительный удар по шее чудовища. Он разбивает кольцевые кости; меревиф падает, и бой выигран.
Пещера полна сокровищ; но Беовульф не обращает на них внимания, ибо рядом с ним лежит Грендель, мертвый от раны, полученной прошлой ночью. Снова Беовульф взмахивает большим мечом и отрубает голову своему врагу; и вот, когда ядовитая кровь касается лезвия меча, сталь тает, как лед от огня, и только рукоять остается в руке Беовульфа. Взяв рукоять и голову, герой входит в океан и поднимается на берег.
Там его ждал только его собственный верный отряд; ибо датчане, увидев, как океан пузырится свежей кровью, подумали, что с героем покончено, и отправились домой. И вот они, скорбящие в Хеороте, когда Беовульф вернулся с чудовищной головой Гренделя, которую несли на древке копья четыре его самых отважных последователя.
В последней части поэмы происходит еще одна великая битва. Беовульф уже старик; он правил пятьдесят лет, любимый всем своим народом. Он победил всех врагов, кроме одного — огненного дракона, охраняющего огромное сокровище, спрятанное среди гор.
Однажды странник натыкается на зачарованную пещеру и, войдя, берет драгоценную чашу, пока огнедышащий дракон крепко спит. В ту же ночь дракон, в ужасной ярости, изрыгая огонь и дым, устремляется на ближайшие деревни, оставляя за собой след смерти и ужаса.
Снова Беовульф выходит вперед, чтобы защитить свой народ. Когда он приближается к пещере дракона, у него появляется предчувствие, что внутри таится смерть:
Сидел на мысе там воин-король;
Прощайте, он сказал товарищам по очагу верным,
Золотой друг Геатов; его разум был печален,
Готов к смерти, беспокойный. И Вайрд приближался,
Кто теперь должен встретиться и коснуться старца,
Чтобы найти сокровище, что его душа спасла
И отделить его тело от его жизни.
Происходит вспышка озарения, как у умирающего, когда его разум пробегает по его долгой жизни и видит нечто глубокое в стихийной скорби, движущейся бок о бок с величественной храбростью. Затем следует битва с огнедышащим драконом, в которой Беовульфу, окутанному огнем и дымом, помогает героизм Виглафа, одного из его спутников. Дракон убит, но огонь проник в легкие Беовульфа, и он знает, что Вирд рядом. Вот его мысль, пока Виглаф снимает свои потрепанные доспехи:
«Одно глубокое сожаление у меня: что сыну
Я не могу отдать доспехи, которые носил,
Чтобы он носил их после меня. Пятьдесят лет
Я правил этим народом хорошо, и ни один король
Из тех, кто живет вокруг меня, не осмеливался угнетать
Или встречать меня со своими воинствами. Дома я ждал
Времени, которым управляет Вирд. Я хранил свое,
Не искал ссор, никогда не клялся ложно.
Теперь, раненый, я жду прихода радости."
Он посылает Виглафа в пещеру огненного дракона, который находит ее полной редких сокровищ и, что самое замечательное из всего, золотого знамени, из которого исходит свет и освещает всю тьму. Но Виглафа мало заботят сокровища; его мысли заняты его умирающим вождем. Он наполняет свои руки дорогими украшениями и спешит бросить их к ногам своего героя. Старик с грустью смотрит на золото, благодарит «Владыку всего» за то, что смертью он приобрел больше богатств для своего народа, и говорит своему верному тану, как его тело будет сожжено на Китовом мысе, или мысе:
«Моя жизнь хорошо оплачена за этот клад; и теперь
Заботься о нуждах людей. Я больше не могу
Быть с ними. Вели воинам воздвигнуть курган
После сожжения, на мысе у моря,
На Хронеснессе, который поднимется высоко и будет
Для памяти моего народа. Мореплаватели
Которые издалека по туманам вод
Гонят пенистые кили, могут назвать его Горой Беовульфа
В будущем». Тогда герой со своей шеи
Снял золотой воротник; своему тану,
Молодому воину, отдал его вместе со шлемом,
Наруч и латы; велел ему использовать их хорошо.
«Ты последний Вегмундинг нашей расы,
Ибо судьба унесла всех моих родственников.
Графы в своей силе ушли к своему Создателю,
И я должен последовать за ними».
Беовульф был еще жив, когда Виглаф спешно отправил гонца к своему народу; когда они пришли, то нашли его мертвым, и огромного дракона, мертвого на песке рядом с ним.
Тогда люди Гота воздвигли могучую кучу
С развешанными щитами и доспехами, как он просил,
И посреди воины положили своего господина,
Сетуя. Тогда воины на горе
Развели могучий костер; дым
Поднимался
Черный от шведской сосны, звук пламени
Смешивался со звуком плача; ... пока дым
Распространялся по небу. Затем на холме
Люди Ведеров воздвигли курган,
Высокий, широкий, и его было видно далеко в море.
За десять дней они построили и обнесли его
Как мудрые сочли наиболее достойным; поместили в него
Кольца, драгоценности, другие сокровища из клада.
Они оставили богатства, золотую радость графов,
В пыли, чтобы земля держала; где они и лежат,
Бесполезные, как и прежде. Затем вокруг кургана
Воины скакали и запели скорбную песнь
По своему мертвому королю; превозносили его храбрые подвиги,
Считая это достойным, люди чтят своего сюзерена,
Восхваляют его и любят его, когда его душа улетает.
Так, люди [Геата], разделяющие его очаг,
Оплакивали падение своего вождя, восхваляли его, из царей, из людей
Самого кроткого и доброго, и ко всем
Свой народ самый кроткий, жаждущий их похвалы.
Возникает соблазн задержаться на деталях великолепного финала: бескорыстный героизм Беовульфа, великого прототипа короля Альфреда; великодушное горе его народа, игнорирующего золото и драгоценности в мыслях о большем сокровище, которое они потеряли; мемориальный курган на низкой скале, который заставлял каждого возвращающегося мореплавателя держать прямой курс к гавани в память о своем погибшем герое; и чистая поэзия, которая отмечает каждую благородную черту. Но эпос достаточно велик и достаточно прост, чтобы говорить сам за себя. Исследуйте литературу мира, и вы не найдете другой подобной картины смерти храбреца.
Относительно истории Беовульфа была написана целая библиотека, и ученые все еще слишком радикально расходятся во мнениях, чтобы мы могли высказать положительное суждение. Однако ясно одно: во времена сочинения поэмы существовали различные северные легенды о Беове, полубожественном герое, и чудовище Гренделе. Последний интерпретировался по-разному — иногда как медведь, а затем как малярия болотистых земель. Для тех, кто интересуется символами, простейшая интерпретация этих мифов — рассматривать последовательные битвы Беовульфа с тремя драконами как преодоление, во-первых, подавляющей опасности моря, которая была отбита дамбами; во-вторых, завоевание самого моря, когда люди научились плавать по нему; и, в-третьих, конфликт с враждебными силами природы, которые в конце концов преодолеваются неукротимой волей и упорством человека.
Все это чисто мифическое; но есть исторические события, с которыми нужно считаться. Около 520 года некий северный вождь, которого летописец называет Хохилаиком (которого обычно отождествляют с Хигелаком из эпоса), возглавил огромную грабительскую экспедицию вверх по Рейну. После ряда сражений он был побежден франками, но — и теперь мы снова вступаем в легендарную область — только после того, как гигантский племянник Хигелака совершил героические подвиги доблести и спас остатки войска чудесным подвигом плавания. Большинство ученых теперь считают, что эти исторические события и персонажи были прославлены в эпосе; но некоторые все еще утверждают, что события, которые дали основу для Беовульфа, произошли полностью на английской земле, где, несомненно, была написана сама поэма.
Ритм «Беовульфа» и, по сути, всей нашей ранней поэзии зависел от ударения и аллитерации, то есть начала двух или более слов в одной строке с одного и того же звука или буквы. Строки состояли из двух коротких половин, разделенных паузой. Рифма не использовалась; но музыкальный эффект достигался путем придания каждой половине строки двух сильно акцентированных слогов. Таким образом, каждая полная строка имела четыре ударения, три из которых (то есть два в первой половине и один во второй) обычно начинались с одного и того же звука или буквы. Музыкальный эффект усиливался арфой, которой менестрель сопровождал свое пение. Поэтическая форма будет ясно видна в следующем отрывке из замечательно реалистичного описания болот, населенных Гренделем. Достаточно будет одного или двух прочтений вслух, чтобы показать, что многие из этих странно выглядящих слов практически такие же, как те, которые мы используем до сих пор, хотя многие гласные звуки наши предки произносили по-другому.
УИДСИТ.
=======
Поэма «Уидсит», широко шагающий или странник, по крайней мере, частично, вероятно, является старейшей в нашем языке. Автор и дата ее написания неизвестны; но личный рассказ о жизни менестреля относится ко времени до того, как саксы впервые пришли в Англию.[14] Она выражает странствующую жизнь менестреля, который отправляется в мир, чтобы поселиться здесь или там, в зависимости от того, как он будет вознагражден за свое пение. Из многочисленных упоминаний колец и наград, а также из похвал, воздаваемых щедрым дарителям, может показаться, что литература как оплачиваемая профессия возникла очень рано в нашей истории, и также что плата была едва достаточной, чтобы поддерживать душу и тело вместе.
Из всех наших современных поэтов Голдсмит, странствующий по Европе и оплачивающий проживание своими песнями, наиболее характерен для этого первого записанного певца нашей расы. Его последние строки гласят:
Так странствуя, те, кто слагает песни для людей
Проходят через многие земли и рассказывают об их нуждах,
И говорят о своей благодарности, и всегда, на юге или на севере,
Встречают кого-то, искусного в песнях и щедрого на дары,
Кто хотел бы возвыситься среди своих друзей до славы
И совершать храбрые подвиги, пока не исчезнут свет и жизнь.
Тот, кто таким образом заслужил себе похвалу, будет иметь
Постоянную славу под звездами.
ПЛАЧ ДЕОРА.
===========
В «Deor» мы имеем еще одну картину саксонского скопа, или менестреля, не в радостном странствии, а в мужественной печали. Кажется, что жизнь скопа полностью зависела от его способности угождать своему начальнику, и что в любое время его мог вытеснить лучший поэт. Деор имел такой опыт и утешает себя мрачным образом, вспоминая различные примеры людей, которые страдали больше, чем он сам. Стихотворение организовано в строфы, каждая из которых повествует о каком-то страдающем герое и заканчивается одним и тем же рефреном:
Его печаль прошла; так же пройдет и моя.
«Deor» гораздо более поэтичен, чем «Widsith», и является единственной совершенной лирикой англосаксонского периода.
Веланд для женщины слишком хорошо знал изгнание.
Сильный душой тот граф, он переносил острую печаль;
К товариществу у него были забота и томительная тоска,
Зимнее леденящее несчастье. Горе он нашел снова, снова,
После того, как Нитхад в нужде положил его —
Ошеломляющие раны сухожилий — пораженный горем человек!
Что он преодолел; это также могу я.
Тени ночи стали темнее, с севера пошел снег;
МОРЯК.
=====
Чудесная поэма «Мореплаватель», кажется, состоит из двух отдельных частей. Первая показывает тяготы жизни в океане; но сильнее тягот — тонкий зов моря. Вторая часть — аллегория, в которой тяготы моряка являются символами тягот этой жизни, а зов океана — это призыв души подняться и отправиться в свой истинный дом с Богом. Неизвестно, было ли последнее добавлено каким-то монахом, который увидел аллегорические возможности первой части, или какой-то любящий море христианский скоп написал и то, и другое. Ниже приведены несколько избранных строк, чтобы показать дух поэмы:
Град сыпался градом вокруг меня; и я слышал только
Рев моря, ледяные волны и песню лебедя;
Мне служили развлечением крики олуш; болтовня моевок
Людским смехом; а медовым напитком — крики морских мальков.
Когда бури на скалистых утесах бились, тогда крачки, в ледяных перьях,
Отвечали; часто морской орел предчувствующе кричал,
Орел с крыльями, мокрыми от волн….
Тени ночи стали темнее, с севера шел снег;
Мир был скован морозом; град падал на землю;
'Это было самое холодное из зерен. Но мысли моего сердца сейчас трепещут
Чтобы испытать высокие потоки, соленые волны в бурной игре.
Желание в моем сердце всегда побуждает мой дух странствовать,
Искать дом чужестранца в далеких землях.
Нет никого, кто живет на земле, столь возвышенного в уме,
Но у него всегда есть тоска, страсть к морским путешествиям
К тому, что дарует Господь Бог, будь то честь или смерть.
Нет у него сердца для арфы, ни для принятия сокровищ,
Нет у него удовольствия в жене, нет удовольствий в мире,
Ни в чем, кроме рокота волн; но всегда тоска,
Тоскливое беспокойство торопит его к морю.
Леса охвачены цветами, деревни становятся красивыми,
Широкие луга прекрасны, земля снова вспыхивает жизнью,
И все это волнует сердце странника, жаждущего путешествия,
Так он размышляет, отправляясь вдаль по тропе приливов.
Кукушка, кроме того, предупреждает печальной нотой,
Предвестница лета поет и предвещает сердцу горькую печаль.
Теперь мой дух беспокойно вращается в тесной камере сердца,
Теперь бродит по приливу, по дому кита,
На край земли - и возвращается ко мне.
Нетерпеливый и жадный,
Одинокий странник кричит, и неудержимо гонит мою душу вперед,
По китовой тропе, по морским просторам.
БИТВА ПРИ ФИННСБУРГЕ И ВАЛЬДЕРЕ.
=================================
Две другие наши самые старые поэмы заслуживают упоминания. «Битва при Финнсбурге» — это фрагмент из пятидесяти строк, обнаруженный на внутренней стороне куска пергамента, нарисованного на деревянных обложках книги проповедей.
Это великолепная военная песня, описывающая с гомеровской силой оборону зала Хнефом[19] с шестьюдесятью воинами от нападения Финна и его армии. В полночь, когда Хнеф и его люди спят, их окружает армия, врывающаяся с огнем и мечом. Хнеф вскакивает на ноги при первом сигнале тревоги и будит своих воинов призывом к действию, который звучит как звук горна:
Это не рассвет на востоке, и не летящий здесь дракон,
И не горят рога этого высокого зала;
Но они устремляются на нас здесь — теперь вороны поют,
Рычит серый волк, мрачно гремит боевой лес,
Щит на древко отвечает.
Бой длится пять дней, но фрагмент заканчивается до того, как мы узнаем его исход: этот же бой празднует менестрель Хротгара на пиру в Хеороте после убийства Гренделя.
«Waldere» —
это фрагмент из двух листов, из которого мы получаем лишь отрывок из истории Вальдера (Вальтера Аквитанского) и его невесты Хильдгунды, которые были заложниками при дворе Аттилы. Они сбежали с огромным сокровищем, и при переходе через горы подверглись нападению Гунтера и его воинов, среди которых был бывший товарищ Вальтера, Хаген. Вальтер сражается со всеми ними и спасается бегством. Та же история была написана на латыни в десятом веке и также является частью древнегерманской «Песни о Нибелунгах». Хотя сага не возникла у англосаксов, их версия является самой старой из дошедших до нас. Главное значение этих фрагментов «Waldere» заключается в том, что они свидетельствуют о том, что наши предки были знакомы с легендами и поэзией других германских народов.
II. АНГЛО-САКСОНСКАЯ ЖИЗНЬ
Мы уже прочитали некоторые из наших самых ранних записей и, возможно, были удивлены, что люди, которых в истории обычно описывают как диких бойцов и флибустьеров, могли создавать такую ;;превосходную поэзию. Цель изучения всей литературы — лучше узнать людей, не просто их деяния, что является функцией истории, но и мечты и идеалы, которые лежат в основе всех их действий. Поэтому чтение этой ранней англосаксонской поэзии не только знакомит нас, но и приводит к глубокому уважению к людям, которые были нашими предками. Прежде чем мы изучим больше их литературы, неплохо было бы кратко взглянуть на их жизнь и язык.
НАЗВАНИЕ
==========
Первоначально название англосаксонские обозначало два из трех германских племен — ютов, англов и саксов, — которые в середине пятого века покинули свои дома на берегах Северного и Балтийского морей, чтобы завоевать и колонизировать далекую Британию. Ангельн был домом одного племени, и название все еще цепляется за место, откуда некоторые из наших предков отплыли в свое знаменательное путешествие. Старое саксонское слово angul или ongul означает крючок, а английский глагол angle неизменно используется Уолтоном и более старыми писателями в смысле рыбной ловли. Поэтому мы все еще можем думать о первых англах как о людях-крючках, возможно, из-за их рыболовства, более вероятно, потому, что берег, где они жили, у подножия полуострова Ютландия, был изогнут в форме рыболовного крючка. Название «саксон» происходит от seax, sax, короткий меч, и означает «человек с мечом», и по названию мы можем судить о характере отважных бойцов, которые предшествовали англам в Британии. Англы были самыми многочисленными из племен-завоевателей, и от них новый дом был назван Англалондом. Постепенными изменениями он стал сначала Энглелондом, а затем Англией.
Более чем через пятьсот лет после высадки этих племен, и пока они называли себя англичанами, мы находим, что латинские писатели Средних веков говорят о жителях Британии как об англисаксонах, — то есть саксах Англии, — чтобы отличать их от саксов континента. В латинских хартиях короля Альфреда появляется то же самое имя; но оно никогда не встречается и не слышится в его родной речи.
Там он всегда говорит о своем любимом "Englelond" и о его храбром народе "Englisc". В шестнадцатом веке, когда старое название англичан пристало к новому народу, возникшему в результате союза саксов и норманнов, название англосаксонский впервые было использовано в национальном смысле ученым Кэмденом[ в его "Истории Британии"; и с тех пор оно стало общеупотребительным среди английских писателей. В последние годы это название приобрело более широкое значение, пока теперь оно не стало использоваться для обозначения духа, а не нации, храброго, энергичного, расширяющегося духа, который характеризует англоговорящие расы повсюду и который уже положил широкий пояс английского права и английской свободы по всему миру.
ЖИЗНЬ.
======
Если литература народа вытекает непосредственно из его жизни, то суровая, варварская жизнь наших саксонских предков, на первый взгляд, может показаться малообещающей для хорошей литературы. Внешне их жизнь была постоянными трудностями, вечной борьбой с дикой природой и дикими людьми. За ними были мрачные леса, населенные дикими зверями и еще более дикими людьми, и населенные в их воображении драконами и злыми существами. Перед ними, гремя у самых плотин для входа, было коварное Северное море с его туманами, штормами и льдами, но с тем неуловимым зовом глубины, который слышат все люди, долго живущие под его влиянием. Здесь они жили, большая, светловолосая, сильная раса, и охотились, и сражались, и плавали, и пили, и пировали, когда их труд был сделан. Почти первое, что мы замечаем в этих больших, бесстрашных, ребячливых людях, это то, что они любят море; и поскольку они любят его, они слышат его зов и отвечают на него:
… Нет у него радости в мире,
Ни в чем, кроме качки волн; но всегда тоска,
Тоскливое беспокойство торопит его к морю.
Как и следовало ожидать, эта любовь к океану находит выражение во всей их поэзии. В одном только «Беовульфе» есть пятнадцать названий моря, от theholm, то есть горизонта моря, «возвышающегося», до brim, который есть океан, швыряющий свой хаос песка и кремовой пены на пляж у ваших ног. И образы, используемые для его описания или прославления — «лебединая дорога, китовый путь, вздымающаяся равнина битвы» — почти столь же многочисленны.
Во всей их поэзии присутствует великолепное чувство господства над бурным морем даже в час бури и ярости:
Часто это случается с нами на океанских дорогах,
В лодках, наши лодочники, когда ревет шторм,
Перепрыгивают через волны на наших жеребцах из пены.
ВНУТРЕННЯЯ Жизнь
================
Жизнь человека — это больше, чем его работа; его мечта всегда больше, чем его постижение; и литература отражает не столько деяния человека, сколько дух, который его воодушевляет; не то жалкое, что он делает, а скорее то великолепное, что он когда-либо надеется сделать. Нигде это не проявляется так явно, как в эпоху, которую мы сейчас изучаем. Эти ранние морские короли были изумительной смесью дикости и сентиментальности, грубой жизни и глубоких чувств, великолепного мужества и глубокой меланхолии людей, которые знают свои ограничения и сталкиваются с неразрешимой проблемой смерти. Они были не просто бесстрашными флибустьерами, которые опустошали все побережья на своих военных галерах. Если бы это было все, у них было бы не больше истории или литературы, чем у берберийских пиратов, о которых можно было бы сказать то же самое. Эти сильные отцы наши были людьми глубоких эмоций. Во всех их сражениях любовь к незапятнанной славе была превыше всего; и под дикой внешностью воина скрывалась большая любовь к дому и домашним добродетелям, и почтение к единственной женщине, к которой он вскоре вернется с триумфом. Поэтому, когда охота на волков заканчивалась или отчаянная схватка была выиграна, эти могучие мужчины собирались в банкетном зале и откладывали свое оружие в сторону, где открытый огонь сверкал на них, и там слушали песни Скоп и Глимена, — мужчин, которые могли выразить адекватными словами эмоции и стремления, которые испытывают все мужчины, но которые лишь немногие могут выразить:
Музыка и песня, где герои сидели —
Лес ликования зазвенел, песня поднялась
Когда скоп Хротгара давал залу хорошее настроение.
Именно эта великая и скрытая жизнь англосаксов находит выражение во всей их литературе. Вкратце, она сводится к пяти великим принципам: их любовь к личной свободе, их отзывчивость к природе, их религия, их почтение к женственности и их борьба за славу как руководящий мотив в жизни каждого благородного человека.
Читая англосаксонскую поэзию, хорошо помнить эти пять принципов, ибо они подобны маленьким источникам в верховьях большой реки, — чистые, ясные источники поэзии, и из них всегда вытекало лучшее из нашей литературы. Таким образом, когда мы читаем,
Порыв бури — он помогает нашим веслам;
Раскаты грома — он нам не вредит;
Рывок урагана — сгибает свою шею
Чтобы ускорить нас туда, куда склоняется наша воля,
Мы понимаем, что эти морские бродяги имели дух родства с могучей жизнью природы; а родство с природой неизменно выражается в поэзии. Опять же, когда мы читаем,
Теперь мужчина
Преодолел свои беды. У него нет недостатка ни в удовольствиях,
Ни в конях, ни в драгоценностях, ни в радостях меда,
Ни в каких сокровищах, которые может дать земля,
О королевская женщина, если у него есть только ты,
Мы знаем, что имеем дело с по сути благородным человеком, а не дикарем; мы лицом к лицу с тем глубоким почтением к женственности, которое вдохновляет большую часть всей хорошей поэзии, и мы начинаем чтить и понимать наших предков. Так что в вопросе славы или чести, по-видимому, не любовь к битве, а скорее любовь к чести, проистекающая из хорошей битвы, воодушевляла наших предков в каждой кампании. «Он был человеком, достойным памяти» — вот наивысшее, что можно было сказать о мертвом воине; а «Он — человек, достойный похвалы» — вот наивысшая дань уважения живым. Весь секрет могучей жизни Беовульфа суммирован в последней строке: «Вечно жаждущий похвалы своего народа». Таким образом, каждое племя имело своего скопа, или поэта, более важного, чем любой воин, который вкладывал деяния своих героев в выразительные слова, составляющие литературу; и в каждом банкетном зале был свой менестрель, который пел стихи скопа, чтобы подвиг и человек могли быть запомнены. Восточные народы строили памятники, чтобы увековечить память своих мертвых; но наши предки создавали поэмы, которые должны жить и волновать души людей еще долго после того, как памятники из кирпича и камня рухнут. Именно этой сильной любви к славе и желанию быть запомненными мы обязаны англосаксонской литературой.
НАША ПЕРВАЯ РЕЧЬ. Наша первая записанная речь начинается с песен Видсита и Деора, которые англосаксы, возможно, принесли с собой, когда впервые завоевали Британию. На первый взгляд эти песни в их родном стиле кажутся странными, как иностранный язык; но когда мы внимательно их рассмотрим, то найдем много слов, которые были знакомы с детства. Мы видели это в «Беовульфе»; но в прозе сходство этой старой речи с нашей собственной еще более поразительно. Вот, например, фрагмент простой истории завоевания Британии нашими англосаксонскими предками:
В это время Хенгест и его сын Эск сражались с бриттами в месте, которое называется Крейфорд, и там убили четыре тысячи человек. И тогда бриттцы покинули Кентленд и с большим страхом бежали в Лондон.
Читатель, который произнесет эти слова вслух несколько раз, быстро узнает свой собственный язык, не только в словах, но и во всей структуре предложений.
Из таких записей мы видим, что наша речь по происхождению тевтонская; и когда мы исследуем любой тевтонский язык, мы узнаем, что он является лишь ветвью великой арийской или индоевропейской семьи языков. Поэтому в жизни и языке мы связаны прежде всего с тевтонскими расами, а через них со всеми народами этой индоевропейской семьи, которые, начав с огромной энергией со своей первоначальной родины (вероятно, в Центральной Европе), распространились на юг и запад, вытесняя местные племена и медленно развивая могущественные цивилизации Индии, Персии, Греции, Рима и более дикую, но более энергичную жизнь кельтов и тевтонов. Во всех этих языках — санскрите, иранском, греческом, латинском, кельтском, тевтонском — мы узнаем одни и те же корневые слова для отца и матери, для Бога и человека, для общих нужд и общих жизненных отношений; и поскольку слова — это окна, через которые мы видим душу этого древнего народа, мы находим определенные идеалы любви, дома, веры, героизма, свободы, которые, кажется, были самой жизнью наших предков и которые были унаследованы ими от их старых героических и завоевательных предков.
Именно на границах Северного моря наши отцы остановились на бесчисленные столетия в своем путешествии на запад и медленно развивали национальную жизнь и язык, который мы теперь называем англосаксонским.
Именно этот старый энергичный англосаксонский язык составляет основу нашего современного английского языка. Если мы прочитаем абзац из любой хорошей английской книги, а затем проанализируем его, как мы анализируем цветок, чтобы увидеть, что он содержит, мы найдем два различных класса слов. Первый класс, содержащий простые слова, выражающие обычные вещи жизни, составляет прочную основу нашего языка. Эти слова подобны стволу и голым ветвям могучего дуба, и если мы посмотрим их в словаре, то обнаружим, что почти неизменно они приходят к нам от наших англосаксонских предков. Второй и более крупный класс слов состоит из тех, которые придают изящество, разнообразие, украшение нашей речи. Они подобны листьям и цветам одного и того же дерева, и когда мы изучаем их историю, мы обнаруживаем, что они пришли к нам от кельтов, римлян, норманнов и других народов, с которыми мы контактировали в течение долгих лет нашего развития. Поэтому наиболее выдающейся характеристикой нашего современного языка является его двойственный характер. Его лучшие качества — сила, простота, прямота — исходят из англосаксонских источников; его огромное дополнительное богатство выражения, его всеобъемлющесть, его пластичная приспособляемость к новым условиям и идеям в значительной степени являются результатом дополнений из других языков, и особенно постепенного поглощения им французского языка после нормандского завоевания. Именно этот двойственный характер, это сочетание родного и иностранного, врожденных и экзотических элементов, объясняет богатство нашего английского языка и литературы. Чтобы увидеть это в конкретной форме, мы должны прочитать по очереди «Беовульфа» и «Потерянный рай», два великих эпоса, которые показывают корень и цвет нашего литературного развития.
III. ХРИСТИАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ АНГЛОСАКСОНСКОГО ПЕРИОДА
===================================================
Литература этого периода естественным образом делится на два подразделения — языческое и христианское. Первое представляет собой поэзию, которую англосаксы, вероятно, принесли с собой в форме устных саг, — сырой материал, из которого литература медленно развивалась на английской почве; второе представляет собой писания, разработанные под руководством монахов, после того, как старая языческая религия исчезла, но пока она все еще сохраняла свою власть над жизнью и языком народа. Читая нашу самую раннюю поэзию, следует помнить, что вся она была скопирована монахами и, по-видимому, была более или менее изменена, чтобы придать ей религиозную окраску.
Приход христианства означал не просто новую жизнь и лидера для Англии; он также означал богатство нового языка. Скоп теперь заменен литературным монахом; и этот монах, хотя он живет среди простых людей и говорит на английском языке, имеет за собой всю культуру и литературные ресурсы латинского языка. Эффект мгновенно виден в нашей ранней прозе и поэзии.
НОРТУМБРИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. В целом, в Англию пришли две великие школы христианского влияния, и быстро положили конец ужасным войнам, которые постоянно велись между различными мелкими королевствами англосаксов. Первая из них, под руководством Августина, пришла из Рима. Она распространилась на юге и в центре Англии, особенно в королевстве Эссекс. Она основала школы и частично обучила грубых людей, но не создала прочной литературы. Другая, под руководством святого Айдана, пришла из Ирландии, которая на протяжении столетий была центром религии и образования для всей Западной Европы. Монахи этой школы трудились в основном в Нортумбрии, и их влиянию мы обязаны всем лучшим в англосаксонской литературе. Она называется Нортумбрийской школой; ее центром были монастыри и аббатства, такие как Джарроу и Уитби, и ее три величайших имени — Беда, Кэдмон и Киневульф.
НОРТУМБРИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.
==========================
В целом, в Англию пришли две великие школы христианского влияния, и быстро положили конец ужасным войнам, которые постоянно велись между различными мелкими королевствами англосаксов. Первая из них, под руководством Августина, пришла из Рима. Она распространилась на юге и в центре Англии, особенно в королевстве Эссекс. Она основала школы и частично обучила грубых людей, но не создала прочной литературы. Другая, под руководством святого Айдана, пришла из Ирландии, которая на протяжении столетий была центром религии и образования для всей Западной Европы. Монахи этой школы трудились в основном в Нортумбрии, и их влиянию мы обязаны всем лучшим в англосаксонской литературе. Она называется Нортумбрийской школой; ее центром были монастыри и аббатства, такие как Джарроу и Уитби, и ее три величайших имени — Беда, Кэдмон и Киневульф.
БЕДА
=====
673-735)
Достопочтенный Беда, как его обычно называют, наш первый великий ученый и «отец нашей английской учености», писал почти исключительно на латыни, его последняя работа, перевод Евангелия от Иоанна на англосаксонский язык, к сожалению, была утеряна. Поэтому, к нашему большому сожалению, его книги и история его кроткой, героической жизни должны быть исключены из этой истории нашей литературы. Его труды, более сорока, охватывали всю область человеческих знаний того времени и были настолько превосходно написаны, что их широко копировали как учебники или, скорее, рукописи почти во всех монастырских школах Европы. Самая важная для нас работа — «Церковная история английского народа». Это увлекательная история, которую можно читать даже сейчас, с ее любопытным сочетанием точной учености и огромной доверчивости. Во всех строго исторических вопросах Беда является образцом. Каждый известный авторитет по этому вопросу, от Плиния до Гильдаса, был тщательно изучен; каждый ученый паломник в Риме был уполномочен Бедой рыться в архивах и делать копии папских указов и королевских писем; и к этому добавлялись свидетельства аббатов, которые могли говорить из личного знания событий или повторять предания своих нескольких монастырей. Рядом с этой исторической точностью находятся чудесные истории святых и миссионеров. Это был век доверчивости, и чудеса постоянно были в умах людей. Люди, о которых он писал, жили жизнью, более прекрасной, чем любой роман, и их мужество и кротость производили огромное впечатление на грубых, воинственных людей, к которым они приходили с открытыми руками и сердцами. Это естественный способ всех примитивных народов превозносить деяния своих героев, и поэтому деяния героизма и доброты, которые были частью повседневной жизни ирландских миссионеров, вскоре превратились в чудеса святых. Беда верил в эти вещи, как и все другие люди, и записывал их с очаровательной простотой, так же, как он получал их от епископа или аббата. Несмотря на его ошибки, мы обязаны этому труду почти всеми нашими знаниями о восьми веках нашей истории после высадки Цезаря в Британии.
Кедмон
=======
Седьмой век)
Теперь мы должны воспевать Владыку небес,
Мощь Создателя, деяния Отца,
Мысль Его сердца. Он, Господь вечный,
Установивший издревле источник всех чудес:
Творец всесвятой, Он повесил светлое небо,
Высоко воздвиг крышу над детьми человеческими;
Царь человечества, затем созданный для смертных
Царь человечества, затем сотворил для смертных
Мир в его красоте, землю, распростертую под ними,
Он, Господь вечный, всемогущий Бог.
Если Беовульф и фрагменты нашей самой ранней поэзии были завезены в Англию, то гимн, приведенный выше, является первым стихом всей дошедшей до нас песни на родном английском языке, а Кэдмон — первым поэтом, которому мы можем дать определенное имя и дату. Слова были написаны около 665 г. н. э. и найдены скопированными в конце рукописи «Церковной истории» Беды.
ЖИЗНЬ КЕДМОНА.
==============
То немногое, что мы знаем о Кедмоне, англосаксонском Мильтоне, как его правильно называют, взято из рассказа Беды об аббатисе Хильде и ее монастыре в Уитби. Вот свободный и сжатый перевод истории Беды:
В монастыре аббатисы Хильды был брат, отмеченный благодатью Божией, ибо он мог сочинять поэмы, трактующие о доброте и религии. Что бы ему ни переводили (ибо он не умел читать) из Священного Писания, он вскоре воспроизводил в поэтической форме великой сладости и красоты. Ни один из всех английских поэтов не мог сравниться с ним, ибо он не учился искусству пения у людей и не пел с помощью искусств людей. Скорее, он получил всю свою поэзию как свободный дар от Бога, и по этой причине он никогда не сочинял поэзии тщеславного или мирского рода.
До зрелого возраста он жил как мирянин и никогда не учился поэзии. Действительно, он был настолько невежественен в пении, что иногда на пиру, где был обычай, что для удовольствия всех каждый гость должен был петь по очереди, он вставал из-за стола, когда видел, что к нему приближается арфа, и уходил домой пристыженный. И вот однажды случилось, что он сделал это на каком-то празднестве и вышел в стойло, чтобы позаботиться о лошадях, эта обязанность была возложена на него на ту ночь. Когда он спал в обычное время, кто-то подошел к нему и сказал: «Кедмон, спой мне что-нибудь». «Я не умею петь», — ответил он,
«и вот почему я пришел сюда с пира». Но тот, кто говорил с ним, снова сказал: «Кедмон, спой мне». И он сказал: «Что мне петь?» и он сказал: «Пой начало сотворенных вещей». После этого Кедмон начал петь стихи, которых он никогда раньше не слышал, следующего содержания:
«Теперь мы должны восхвалять силу и мудрость Творца, творения Отца».
Таков смысл, но не форма гимна, который он пел во сне.
Проснувшись, Кэдмон вспомнил слова гимна и добавил к ним еще много других. Утром он пошел к управляющему монастырскими землями и показал ему дар, который он получил во сне. Управляющий привел его к Хильде, которая заставила его повторить монахам гимн, который он сочинил, и все согласились, что благодать Божия была на Кэдмоне. Чтобы проверить его, они истолковали ему отрывок из Писания с латыни и попросили его, если он сможет, превратить его в поэзию. Он смиренно ушел и вернулся утром с прекрасной поэмой. После этого Хильда приняла его и его семью в монастырь, сделала его одним из братьев и приказала, чтобы ему изложили весь ход библейской истории. Он, в свою очередь, размышляя над услышанным, превратил это в прекраснейшую поэзию и, повторив ее монахам более мелодичными звуками, сделал своих учителей своими слушателями. Во всем этом его целью было отвратить людей от зла ;;и помочь им полюбить и совершать добрые дела.
Затем следует краткий отчет о жизни Кэдмона и изысканная картина его смерти среди братьев. И так случилось, говорит простая запись, что как он служил Богу, живя в чистоте ума и спокойствии духа, так мирной смертью он оставил мир и пошел посмотреть на Его лицо.
РАБОТЫ КЭДМОНА.
===============
Величайшее произведение, приписываемое Кэдмону, — так называемый «Парафраз». Это история Бытия, Исхода и части Даниила, рассказанная ярким поэтическим языком с силой проницательности и воображения, которые часто возносят ее из парафраза в область истинной поэзии. Хотя у нас есть заверение Беды, что Кэдмон «преобразовал весь ход библейской истории в самую восхитительную поэзию», до нас не дошло ни одного произведения, о котором точно известно, что оно было написано им.
В семнадцатом веке этот англосаксонский парафраз был обнаружен и приписан Кэдмону, и его имя до сих пор ассоциируется с ним, хотя сейчас почти наверняка можно сказать, что парафраз является работой более чем одного автора.
Помимо сомнительного вопроса об авторстве, даже поверхностное прочтение поэмы приводит нас к поэту, который, конечно, груб, но с гением, порой сильно напоминающим несравненного Мильтона. Книга открывается гимном хвалы, а затем повествует о падении Сатаны и его мятежных ангелов с небес, что знакомо нам по «Потерянному раю» Мильтона. Затем следует сотворение мира, и Парафраз начинает трепетать от старой англосаксонской любви к природе.
Здесь прежде всего Вечный Отец, хранитель всего,
Неба и земли, воздвиг твердь,
Всемогущий Господь утвердил Своей крепкой силой
Эту просторную землю; трава еще не зеленела на равнине,
Океан далеко раскинулся, скрыл унылые пути во мраке.
Тогда Дух был славно ярок
Хранителя Небес перенесся над бездной
Быстро. Податель жизни, Господь Ангелов,
Быстро, повеление Верховного Короля было исполнено,
Над пустыней воссиял святой луч света.
Затем Он расстался, Господь торжествующей мощи,
Тень от сияния, тьму от света.
Свет, по Слову Божьему, был впервые назван днем.
После рассказа о рае, грехопадении и потопе, Парафраз продолжается в Исходе, из которого поэт делает благородный эпос, устремляясь с размахом саксонской армии в битву. Здесь приводится один отрывок, чтобы показать, как поэт адаптировал историю для своих слушателей:
И тут они увидели,
И увидели они,
Вперед и вперед движется войско фараона
Скользящая роща копий; — сверкают воинства!
Там развевались знамена, там шагал народ.
Вперед хлынула война, шагали копья,
Мерцали широкие щиты; громко трубили трубы...
Кружась в кругах, кричали птицы войны,
Жадные до битвы; хрипло каркал ворон,
Роса на его перьях, над павшими трупами —
Черен тот, кто выбирает убитых!
Громко пели волки
Вечером свою ужасную песню, надеясь на падаль.
Помимо «Парафраза» у нас есть несколько фрагментов того же общего характера, которые приписываются школе Кэдмона. Самый длинный из них — «Юдифь», в котором история апокрифической книги Ветхого Завета переложена в энергичную поэзию. Олоферн представлен как дикий и жестокий викинг, наслаждающийся в своем медовом зале; и когда героическая Юдифь отрубает ему голову его собственным мечом и бросает ее перед воинами своего народа, воодушевляя их на битву и победу, мы достигаем, возможно, самого драматического и блестящего момента англосаксонской литературы.
Киневульф
==========
(восьмой век)
О Киневульфе, величайшем из англосаксонских поэтов, за исключением только неизвестного автора «Беовульфа», мы знаем очень мало. Действительно, только в 1840 году, более чем через тысячу лет после его смерти, даже его имя стало известно. Хотя он единственный из наших ранних поэтов, кто подписывал свои произведения, имя никогда не было написано открыто, но вплетено в стихи в виде тайных рун, предполагая современную шараду, но более трудную для интерпретации, пока не найден ключ к подписи поэта.
РАБОТЫ Кюневульфа.
=================
Единственные подписанные поэмы Кюневульфа — «Христос», «Юлиана», «Судьбы апостолов» и «Элена». Неподписанные поэмы, приписываемые ему или его школе, — «Андреас, Феникс», «Сон о кресте», «Сошествие в ад», «Гутлак, Странник» и некоторые из «Загадок». Последние — просто литературные головоломки, в которых какой-нибудь известный предмет, например, лук или рог для питья, описывается поэтическим языком, а слушатель должен угадать его название. Некоторые из них, например, «Лебедь» и «Дух бури», необычайно красивы.
Из всех этих произведений наиболее характерным, несомненно, является «Христос», дидактическая поэма в трех частях: первая прославляет Рождество; вторая — Вознесение; и третья — «Судный день», повествующая о муках нечестивых и бесконечной радости искупленных. Киневульф берет свой сюжет частично из церковной литургии, но в большей степени из проповедей Григория Великого. Все это хорошо сплетено и содержит несколько гимнов большой красоты и много отрывков интенсивной драматической силы.
На протяжении всей поэмы прослеживается глубокая любовь к Христу и почтение к Деве Марии. Больше, чем любая другая поэма на любом языке, «Христос» отражает дух раннего латинского христианства.
Вот фрагмент, сравнивающий жизнь с морским путешествием, — сравнение, которое рано или поздно приходит на ум каждому мыслящему человеку и которое находит прекрасное выражение в стихотворении Теннисона «Пересекая бар».
Теперь это больше похоже на то, как если бы мы плыли на кораблях
По океанскому потоку, по холодной воде,
Ведя наши суда по обширным морям
С конями глубин. Опасный путь этот
По бескрайним волнам, и есть бурные моря
Опасный путь это
Бескрайних волн, и есть бурные моря
На которых мы мечемся здесь, в этом (шатающемся) мире
По глубоким тропам. Наше было плачевное положение
Пока, наконец, мы не приплыли к земле,
По неспокойному морю. Помощь пришла к нам
Что привела нас в гавань спасения,
Божий Дух-Сын, и даровал нам благодать
Чтобы мы могли узнать даже с палубы судна
Где мы должны привязаться к надежному якорю
Наши морские кони, старые жеребцы волн.
В двух эпических поэмах Андреаса и Элены Киневульф (если он автор) достигает вершины своего поэтического искусства. Андреас, неподписанная поэма, записывает историю Святого Андрея, который пересекает море, чтобы спасти своего товарища Святого Матфея от каннибалов. Молодой капитан, который управляет лодкой, оказывается замаскированным Христом, Матфей освобождается, а дикари обращаются чудом. Это энергичная поэма, полная спешки и событий, и описания моря являются лучшими в англосаксонской поэзии.
Тема «Элены» — нахождение истинного креста. В ней рассказывается о видении Константином Креста накануне битвы. После победы под новым гербом он отправляет свою мать Елену (Элену) в Иерусалим на поиски оригинального креста и гвоздей. Поэму, которая отличается весьма неровным качеством, можно было бы поместить в конец произведений Киневульфа. Он добавляет к поэме личную заметку, подписываясь рунами; и, если мы примем замечательное «Видение Креста» как работу Киневульфа, мы узнаем, как он, наконец, нашел крест в своем собственном сердце. Здесь есть намек на будущего сэра Лаунфала и поиски Святого Грааля.
УПАДОК НОРТУМБРИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
================================
Та же северная энергия, которая так быстро создала образование и литературу в Нортумбрии, сыграла решающую роль в ее новом падении. К концу столетия, в котором жил Киневульф, датчане обрушились на английские побережья и заполонили Нортумбрию. Монастыри и школы были разрушены; ученые и учителя были преданы мечу, а библиотеки, которые собирались лист за листом с трудом столетий, были развеяны по всем четырем ветрам. Так погибла вся настоящая нортумбрийская литература, за исключением нескольких фрагментов, и то, чем мы сейчас обладаем[35], в значительной степени является переводом на диалекте западных саксов. Этот перевод был сделан учеными Альфреда после того, как он отбросил датчан в попытке сохранить идеалы и цивилизацию, которые были так трудно завоеваны. С завоеванием Нортумбрии заканчивается поэтический период англосаксонской литературы. С Альфредом Великим из Уэссекса берет начало наша прозаическая литература.
АЛЬФРЕД
=========
(848-901)
«Всякое ремесло и всякая сила скоро стареют, оставляются без внимания и забываются, если они не обладают мудростью… Теперь следует сказать, что, пока я жив, я хочу жить благородно и после жизни оставлю людям, которые придут после меня, память о добрых делах».
Так писал великий Альфред, оглядываясь на свою героическую жизнь. В том, что он жил благородно, не может сомневаться никто, кто читает историю величайших англосаксонских королей; и его добрые дела включают, среди прочего, образование половины страны, спасение благородной родной литературы и создание первой английской прозы.
ЖИЗНЬ И ВРЕМЕНА АЛЬФРЕДА.
=========================
Для истории времен Альфреда и подробностей ужасной борьбы с норманнами читатель должен обратиться к истории. Борьба закончилась Договором Уэдмора в 878 году, когда Альфред стал не только королем Уэссекса, но и сюзереном всей северной страны. Затем герой отложил свой меч и, будучи маленьким ребенком, решил научиться читать и писать по-латыни, чтобы вести свой народ в мире, как он вел его на войне. Именно тогда Альфред стал той героической фигурой в литературе, которой он был прежде в войнах против норманнов.
С тем же терпением и героизмом, которые были характерны для долгой борьбы за свободу, Альфред поставил перед собой задачу просвещения своего народа. Сначала он дал им законы, начиная с Десяти заповедей и заканчивая Золотым правилом, а затем учредил суды, где законы могли бы добросовестно исполняться. Обезопасив себя от датчан с суши, он создал флот, почти первый из английских флотов, чтобы изгнать их с побережья. Затем, когда в его границах установился мир и справедливость, он послал в Европу за учеными и учителями и поставил их во главе школ, которые он основал. До сих пор все образование было на латыни; теперь он поставил перед собой задачу, во-первых, научить каждого свободнорожденного англичанина читать и писать на своем родном языке, а во-вторых, перевести на английский язык лучшие книги для их обучения. Каждый бедный ученый был почитаем при его дворе и быстро принимался за работу по преподаванию или переводу; каждый странник, приносивший книгу или листок рукописи из разграбленных монастырей Нортумбрии, был уверен в своей награде. Таким образом, несколько фрагментов родной нортумбрийской литературы, которые мы изучали, были спасены для мира. Альфред и его ученые дорожили редкими фрагментами и копировали их на западносаксонском диалекте. За исключением гимна Кэдмона, у нас едва ли есть хоть один листок великой литературы Нортумбрии на диалекте, на котором она была впервые написана.
ТРУДЫ АЛЬФРЕДА.
===============
Помимо своей педагогической деятельности, Альфред известен в основном как переводчик. После сражений за свою страну и в то время, когда большинство людей довольствовались воинской честью, он начал изучать латынь, чтобы иметь возможность переводить труды, которые были бы наиболее полезны его народу. Его важные переводы насчитывают четыре: «Всеобщая история и география» Орозия, ведущая работа по всеобщей истории на протяжении нескольких столетий; «История» Беды Достопочтенного, первый большой исторический труд, написанный на английской земле; «Книга пастухов» папы Григория, предназначенная специально для духовенства; и «Утешения философией» Боэция, любимое философское произведение Средних веков.
Более важным, чем любой перевод, является английская или саксонская хроника. Вероятно, поначалу это была сухая запись, особенно важных рождений и смертей в западно-саксонском королевстве.
Альфред расширил эту скудную запись, начав историю с завоевания Цезаря. Когда речь заходит о его собственном правлении, сухая хроника становится интересной и связной историей, старейшей историей, принадлежащей любой современной нации на ее собственном языке. Запись правления Альфреда, вероятно, им самим, является великолепным произведением и ясно показывает его притязания на место как в литературе, так и в истории. «Хроника» была продолжена после смерти Альфреда и является лучшим памятником ранней английской прозы, который нам остался. Здесь и там в повествование включены волнующие песни, такие как «Битва при Брунанбурге» и «Битва при Молдоне». Последняя, ;;введенная в 991 году, за семьдесят пять лет до нормандского завоевания, является лебединой песней англосаксонской поэзии. «Хроника» продолжалась в течение столетия после нормандского завоевания и чрезвычайно ценна не только как запись событий, но и как литературный памятник, показывающий развитие нашего языка.
ЗАВЕРШЕНИЕ АНГЛОСАКСОНСКОГО ПЕРИОДА.
====================================
После смерти Альфреда мало что можно записать, кроме потери двух главных целей его героической борьбы, а именно национальной жизни и национальной литературы. Сила и слабость сакса были в том, что он жил отдельно как свободный человек и никогда добровольно не объединял усилия с какой-либо большой группой своих собратьев. Племя было его самой большой идеей национальности, и, при всем нашем восхищении, мы должны признать, что при первой встрече с ним у него недостаточно чувства единства, чтобы создать великую нацию, и недостаточно культуры, чтобы создать великую литературу. Несколько благородных политических идеалов, повторенных в десятках мелких королевств, и несколько литературных идеалов, скопированных, но никогда не расширенных, — таково резюме его литературной истории. В течение целого столетия после Альфреда литература фактически находилась в состоянии застоя, создав лучшее, на что она была способна, и Англия ждала национального импульса и культуры, необходимых для нового и более великого искусства. Оба они быстро пришли морем во время нормандского завоевания.
РЕЗЮМЕ АНГЛОСАКСОНСКОГО ПЕРИОДА.
================================
Наша литература начинается с песен и рассказов о времени, когда наши тевтонские предки жили на границах Северного моря. Три племени этих предков, юты, англы и саксы, завоевали Британию во второй половине пятого века и заложили основу английской нации.
Первая высадка, вероятно, была совершена племенем ютов, под предводительством вождей, называемых хроникой Хенгист и Хорса. Дата сомнительна; но большинство историков принимают 449 год.
Эти древние предки были отважными воинами и морскими разбойниками, но при этом были способны на глубокие и благородные эмоции. Их поэзия отражает эту двойственную натуру. Ее предметами были в основном море и ныряющие лодки, сражения, приключения, храбрые подвиги, слава воинов и любовь к дому. Акцент, аллитерация и резкий разрыв в середине каждой строки придавали их поэзии своего рода воинственный ритм. В целом поэзия серьезна и мрачна, пронизана фатализмом и религиозным чувством. Внимательное прочтение немногих оставшихся фрагментов англосаксонской литературы раскрывает пять поразительных характеристик: любовь к свободе; отзывчивость к природе, особенно в ее более суровых настроениях; сильные религиозные убеждения и вера в Вирд, или Судьбу; почтение к женственности; и преданность славе как главенствующему мотиву в жизни каждого воина.
В нашем исследовании мы отметили:
(1) великую эпическую или героическую поэму «Беовульф» и несколько фрагментов нашей первой поэзии, таких как «Видсид», «Плач Деора» и «Мореплаватель».
(2) Характеристики англосаксонской жизни; форма нашей первой речи.
(3) Нортумбрийская школа писателей. Беда, наш первый историк, принадлежит к этой школе; но все его сохранившиеся произведения написаны на латыни. Два великих поэта — Кэдмон и Киневульф. Нортумбрийская литература процветала между 650 и 850 годами. В 867 году Нортумбрия была завоевана датчанами, которые разрушили монастыри и библиотеки, содержащие нашу самую раннюю литературу.
(4) Начало английской прозы при Альфреде (848-901). Наше самое важное прозаическое произведение этого века — это «Англосаксонская хроника», которая была пересмотрена и расширена Альфредом и которая продолжалась более двух столетий. Это старейшая историческая запись, известная любой европейской нации на ее собственном языке.
ГЛАВА 3
АНГЛО-НОРМАНСКИЙ ПЕРИОД (1066-1350)
===================================
НОРМАНЦЫ.
==========
Имя Норман, которое является смягченной формой от Нордман, рассказывает свою собственную историю. Люди, носившие это имя, изначально пришли из Скандинавии — отряды крупных, светловолосых, бесстрашных мужчин, плававших за грабежом и приключениями на своих кораблях викингов и наводивших ужас везде, где они появлялись. Это были те самые «Дети Водена», которые под флагом датчан вороньего флага уничтожили цивилизацию Нортумбрии в девятом веке. Позже та же раса людей пришла грабить вдоль французского побережья и завоевала всю северную страну; но здесь результаты были совершенно иными. Вместо того чтобы уничтожить высшую цивилизацию, как это сделали датчане, они быстро отказались от своей собственной. Их имя Нормандия все еще цепляется за новый дом; но все остальное, что было норвежским, исчезло, когда завоеватели смешались с местными франками, приняли французские идеалы и заговорили на французском языке. Они так быстро переняли и улучшили римскую цивилизацию туземцев, что из грубого племени язычников-викингов они развились в течение одного столетия в самых изысканных и интеллектуальных людей во всей Европе. Союз норвежской и французской (т. е. римско-галльской) крови здесь произвел расу, обладающую лучшими качествами обеих, — силой воли и энергией одной, жадным любопытством и живым воображением другой. Когда эти нормандско-французские люди появились в англосаксонской Англии, они принесли с собой три примечательные вещи: живой кельтский нрав, энергичную и прогрессивную латинскую цивилизацию и романский язык. Поэтому мы должны думать о завоевателях, как они думали и говорили о себе в Книге Страшного суда и всей своей современной литературе, не как о норманнах, а как о франках, то есть французах.
ЗАВОЕВАНИЕ.
===========
В битве при Гастингсе (1066) власть Гарольда, последнего из саксонских королей, была сломлена, и Вильгельм, герцог Нормандии, стал хозяином Англии. О завершении этого колоссального Завоевания, которое началось в Гастингсе и изменило цивилизацию целой нации, здесь не место говорить. Мы просто укажем на три великих результата Завоевания, которые имеют прямое отношение к нашей литературе.
Во-первых, несмотря на легионы Цезаря и монахов Августина, норманны были первыми, кто принес культуру и практические идеалы римской цивилизации домой к английскому народу; и это в критическое время, когда Англия произвела на свет лучшее, что у нее было, а ее собственная литература и цивилизация уже начали приходить в упадок.
Во-вторых, они навязали Англии национальную идею, то есть сильное централизованное правительство, чтобы заменить слабую власть саксонского вождя над его соплеменниками. И мировая история показывает, что без великой национальности великая литература невозможна.
В-третьих, они принесли в Англию богатство нового языка и литературы, и наш английский постепенно впитал и то, и другое. В течение трех столетий после Гастингса французский был языком высших классов, судов, школ и литературы; однако простые люди так цепко цеплялись за свою собственную сильную речь, что в конце концов английский впитал почти весь корпус французских слов и стал языком страны. Именно слияние саксонского и французского в одну речь создало богатство нашего современного английского языка.
Естественно, такие важные изменения в нации не были вызваны внезапно. Сначала норманны и саксы жили отдельно в отношениях хозяев и слуг, с большим или меньшим презрением с одной стороны и ненавистью с другой; но в удивительно короткое время эти две расы были сильно сближены, как два человека с разными характерами, которых часто приводит к прочной дружбе притяжение противоположных качеств, каждый из которых дополняет то, чего не хватает другому. Англосаксонская хроника, которая продолжалась в течение столетия после Гастингса, находит много похвал в завоевателях; с другой стороны, норманны, даже до завоевания, не питали большой любви к французской нации. После завоевания Англии они начали считать ее своим домом и быстро развили новое чувство национальности. Популярная «История» Джеффри, написанная менее чем через столетие после завоевания, заставила завоевателей и побежденных гордиться своей страной благодаря историям о героях, которые, как ни странно, не были ни нормандцами, ни саксами, а творениями коренных кельтов. Так литература, будь то боевая песня или история, часто играет главную роль в развитии национальности. Как только взаимное недоверие было преодолено, две расы постепенно объединились, и из этого союза саксов и нормандцев возникла новая английская жизнь и литература.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИДЕАЛЫ НОРМАНЦЕВ.
==============================
Изменение в жизни завоевателей от норманнов к норманнам, от викингов к французам наиболее ясно показано в литературе, которую они привезли с собой в Англию. Старая норвежская сила и величие, великолепные саги, повествующие о трагической борьбе людей и богов, которые все еще глубоко волнуют нас, — все это исчезло. На их месте яркая, разнообразная, разговорчивая литература, которая доходит до бесконечных стихов и которая превращает каждый предмет, которого касается, в прекрасный роман. Темой может быть религия, любовь, рыцарство или история, деяния Александра или злодеяния монаха; но цель автора никогда не меняется. Он должен рассказать романтическую историю и развлечь свою аудиторию; и чем больше чудес и невозможностей он рассказывает, тем больше ему верят. Читая, мы вспоминаем местных галлов, которые останавливали каждого путешественника и заставляли его рассказать историю, прежде чем он уходил. В завоевателях было больше галльского, чем скандинавского, и гораздо больше фантазии, чем мысли или чувства в их литературе. Если вы хотите увидеть это в конкретной форме, прочтите «Песнь о Роланде», французский национальный эпос (который норманны впервые облекли в литературную форму), в противовес «Беовульфу», который выражает мысли и чувства саксонцев перед глубокой тайной человеческой жизни. Наша цель не в том, чтобы обсуждать очевидные достоинства или серьезные недостатки нормандско-французской литературы, а только в том, чтобы указать на два факта, которые производят впечатление на студента, а именно, что англосаксонская литература одно время была намного выше французской, и что последняя, ;;с ее очевидной неполноценностью, абсолютно заменила первую. «Слишком часто игнорируется тот факт», — говорит профессор Скофилд, — «что до 1066 года у англосаксов была собственная литература, явно превосходившая любую, которой могли похвастаться нормандцы или французы в то время; их проза в особенности не имела себе равных по объему и силе ни на одном европейском языке». Почему же тогда эта превосходная литература исчезает, а французский язык на протяжении почти трех столетий остается главенствующим, настолько, что писатели на английской земле, даже когда они не используют французский язык, по-прежнему рабски копируют французские образцы?
Чтобы понять этот любопытный феномен, необходимо только вспомнить относительные условия двух рас, которые жили бок о бок в Англии. С одной стороны, англосаксы были завоеванным народом, а без свободы великая литература невозможна. Набеги датчан и их собственные племенные войны уже уничтожили большую часть их писаний, и в своем новом положении рабства они едва ли могли сохранить то, что осталось. Завоеватели-норманны, с другой стороны, представляли цивилизацию Франции, которая в раннем Средневековье была литературным и образовательным центром всей Европы. Они прибыли в Англию в то время, когда идея национальности была мертва, когда культура почти исчезла, когда англичане жили отдельно в тесной изоляции; и они принесли с собой закон, культуру, престиж успеха и, прежде всего, сильный импульс участвовать в великой мировой работе и присоединиться к движущимся потокам мировой истории. Неудивительно, что молодые англосаксы почувствовали оживление этой новой жизни и естественным образом обратились к культурным и прогрессивным норманнам как к своим литературным образцам.
II. ЛИТЕРАТУРА НОРМАНСКОГО ПЕРИОДА
=====================================
В библиотеке адвокатов в Эдинбурге есть прекрасно иллюстрированная рукопись, написанная около 1330 года, которая дает нам прекрасную картину литературы нормандского периода. Изучая ее, мы должны помнить, что литература находилась в руках духовенства и знати; что простые люди не умели читать и имели лишь несколько песен и баллад в качестве своей литературной доли. Мы должны помнить также, что пергаменты были редки и очень дороги, и что одна рукопись часто содержала все читаемое в замке или деревне. Поэтому эта старая рукопись столь же показательна, как и современная библиотека. Она содержит более сорока различных произведений, большая часть которых — романы. Есть метрические или стихотворные романы о французских, кельтских и английских героях, таких как Роланд, Артур и Тристрам, и Бевис из Хэмптона. Есть истории об Александре, греческий роман «Флорес и Бланшфлер» и сборник восточных сказок под названием «Семь мудрых мастеров». Есть легенды о Деве Марии и святых, парафраз Писания, трактат о семи смертных грехах, немного библейской истории, спор птиц о женщинах, одна или две любовные песни, видение Чистилища, вульгарная история с галльским привкусом, хроника английских королей и нормандских баронов и политическая сатира. Есть еще несколько произведений, столь же несообразных, сгруппированных в этой типичной рукописи, которая теперь является немым свидетельством литературного вкуса того времени.
Очевидно, что невозможно классифицировать такое разнообразие. Мы просто отметим, что оно средневековое по духу и французское по стилю и выражению; и это подводит итог эпохи. Все научные труды того периода, такие как «История» Уильяма Малмсбери, «Cur Deus Homo» Ансельма[46] и «Opus Majus» Роджера Бэкона, начало современной экспериментальной науки, были написаны на латыни; в то время как почти все другие работы были написаны на французском или же представляли собой английские копии или переводы французских оригиналов. За исключением продвинутого студента, поэтому они едва ли принадлежат к истории английской литературы. Мы отметим здесь только один или два отмеченных литературных типа, такие как «Riming Chronicle» (или стихотворная история) и «Metrical Romance», и несколько писателей, чье творчество имеет особое значение.
ДЖЕФФРИ ИЗ МОНМУТА
===================
(ум. 1154).
Historia Regum Britanniae Джеффри заслуживает внимания не как литература, а скорее как источник, из которого многие более поздние авторы черпали свои литературные материалы. Среди местных кельтских племен огромное количество легенд, многие из которых были изысканной красоты, сохранилось благодаря четырем последовательным завоеваниям Британии. Джеффри, валлийский монах, собрал некоторые из этих легенд и, опираясь, главным образом, на свое воображение, написал полную историю бриттов. Его предполагаемым авторитетом была древняя рукопись на родном валлийском языке, содержащая жизнь и деяния всех их королей, от Брута, предполагаемого основателя Британии, до прихода Юлия Цезаря.[47] С этой книги Джеффри написал свою историю, вплоть до смерти Кадваладера в 689 году.
«История» — это любопытная смесь языческих и христианских легенд, хроник, комментариев и чистого вымысла, — все записано в мельчайших подробностях и с серьезностью, которая ясно показывает, что у Джеффри не было совести или же он был большим шутником. Как история, все это — чепуха; но она имела необычайный успех в то время и заставила всех, кто ее слышал, будь то норманны или саксы, гордиться своей собственной страной. Она интересна для нас, потому что дала новое направление литературе Англии, показав богатство поэзии и романтики, которые лежали в ее собственных традициях Артура и его рыцарей. «Король Лир» Шекспира, «Смерть Артура» Мэлори и «Идиллии короля» Теннисона были основаны на трудах этого монаха, который был гением, чтобы облечь неписаные кельтские традиции в устойчивую форму латинской прозы.
РАБОТЫ ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.
=============================
Французская литература нормандского периода интересна главным образом из-за жадности, с которой иностранные писатели ухватились за местные легенды и сделали их популярными в Англии. До появления нелепой хроники Джеффри эти легенды не использовались в какой-либо степени как литературный материал. Действительно, они были едва известны в Англии, хотя были знакомы французским и итальянским менестрелям. Легенды об Артуре и его дворе, вероятно, были впервые завезены в Бретань валлийскими эмигрантами в пятом и шестом веках. Они стали чрезвычайно популярными везде, где их рассказывали, и постепенно разносились менестрелями и рассказчиками по всей Европе.
То, что они никогда не получили литературной формы или признания, было обусловлено особенностью средневековой литературы, которая требовала, чтобы каждая история имела под собой некий древний авторитет. Джеффри выполнил это требование, создав историческую рукопись валлийской истории. Этого было достаточно для того времени. С Джеффри и его предполагаемой рукописью в качестве опоры нормандско-французские писатели могли свободно использовать увлекательные истории, которые на протяжении столетий находились во владении их странствующих менестрелей. Латинская история Джеффри была переложена на французский стих Геймаром (ок. 1150) и Уэйсом (ок. 1155), и с этих французских версий произведение было впервые переведено на английский язык. Примерно с 1200 года Артур и Гвиневра и несравненный отряд кельтских героев, которых мы встречаем позже (1470) в «Смерти Артура» Мэлори, стали постоянным достоянием нашей литературы.
LAYAMON'S BRUT
==============
(ок. 1200).
Это самая важная из английских риминговых хроник, то есть история, рассказанная в форме стиха-доггереля, вероятно, потому, что поэзия легче запоминается, чем проза. Мы приводим здесь свободный перевод избранных строк в начале поэмы, которые рассказывают нам все, что мы знаем о Лайамоне, первом, кто когда-либо писал как англичанин для англичан, включая в этот термин всех, кто любил Англию и называл ее домом, независимо от того, где родились их предки.
В то время в стране был священник по имени Лайамон. Он был сыном Леовената — да будет Бог милостив к нему. Он жил в Эрнли, в благородной церкви на берегу Северна. Он прочитал много книг, и ему пришло в голову рассказать о благородных деяниях англичан. Затем он начал путешествовать по стране вдали от дома, чтобы добыть благородные книги для авторитета. Он взял английскую книгу, которую сделал Святой Беда, другую на латыни, которую сделал Святой Альбин[48], и третью книгу, которую сделал французский клерк по имени Уэйс. Лайамон положил эти труды перед собой и перевернул страницы; с любовью он их рассматривал. Он взял перо и написал на книжной обложке, и сделал из трех книг одну.
Поэма начинается с разрушения Трои и бегства «Энея-герцога» в Италию. Брут, правнук Энея, собирает свой народ и отправляется на поиски новой земли на Западе. Затем следует основание королевства бриттов, а последняя треть поэмы, которая насчитывает более тридцати тысяч строк, посвящена истории Артура и его рыцарей.
Если бы Брут не имел собственных достоинств, он все равно был бы нам интересен, поскольку он знаменует первое появление легенд об Артуре на нашем родном языке. Здесь приводится один отрывок из предсмертной речи Артура, знакомой нам по Morte d'Arthur Теннисона. Читатель заметит здесь две вещи: во-первых, что хотя поэма почти чисто англосаксонская, наша первая речь уже опустила многие интонации и читается легче, чем Беовульф; во-вторых, что французское влияние уже действует в рифмах и ассонансе Лайамона, то есть гармонии, возникающей в результате использования одного и того же гласного звука в нескольких последовательных строках:
МЕТРИЧЕСКИЕ РОМАНСЫ.
=====================
Любовь, рыцарство и религия, все пронизанные духом романтики, — вот три великих литературных идеала, которые находят свое выражение в метрических романах. Прочтите эти романы сейчас, с их рыцарями и прекрасными дамами, их опасными приключениями и нежными любовными утехами, их менестрелями, турнирами и великолепными кавалькадами, — как будто человечество на параде, а сама жизнь — один шумный праздник на открытом воздухе, — и вы получите воплощение всей детской, доверчивой души Средневековья.
Норманны первыми привезли этот тип любовных романов в Англию, и он стал настолько популярен, настолько полно выражал романтический дух того времени, что быстро затмил все другие формы литературного выражения.
Хотя метрические романсы сильно различались по форме и тематике, общий тип оставался тем же — длинная бессвязная поэма или серия поэм, трактующих о любви или рыцарских приключениях, или и том, и другом. Его герой — рыцарь; его персонажи — прекрасные дамы в беде, воины в доспехах, великаны, драконы, чародеи и различные враги Церкви и Государства; и его акцент почти неизменно делается на любви, религии и долге, как это определено рыцарством. Во французских оригиналах этих романсов строки были определенной длины, точный метр, а рифмы и ассонансы использовались для придания мелодичности. В Англии эта метрическая система соприкоснулась с неровными строками, сильным акцентом и аллитерацией местных песен; и именно благодаря постепенному объединению двух систем, французской и саксонской, наш английский стал способен к мелодичности и удивительному разнообразию стихотворных форм, которые впервые нашли свое выражение в поэзии Чосера.
В огромном количестве этих стихотворных романсов мы замечаем три основных подразделения, в соответствии с темой, на романсы (или так называемые материи) Франции, Рима и Британии.
Материя Франции в основном касается подвигов Карла Великого и его пэров, и главный из этих карловинских циклов - Chanson de Roland, национальный эпос, который прославляет героизм Роланда в его последней битве против сарацинов при Ронсевале. Первоначально эти романсы назывались Chansons de Geste; и название значимо, поскольку указывает на то, что поэмы изначально были короткими песнями, прославляющими деяния (gesta) известных героев. Позже различные песни об одном герое были собраны вместе, и Geste стал эпосом, как Chanson de Roland, или своего рода непрерывным балладным рассказом, едва ли заслуживающим названия эпоса, как Geste о Робин Гуде.
История Рима в основном состояла из рассказов из греческих и римских источников; и два больших цикла этих романов повествуют о деяниях Александра, любимого героя, и осаде Трои, с которой бритты считали, что у них есть некая историческая связь.
К ним было добавлено большое количество историй из восточных источников; и в бурном воображении последних мы видим влияние, которое сарацины — эти изобретательные умники, давшие нам первые современные науки и до сих пор упивающиеся «Тысячей и одной ночью» — начали оказывать на литературу Европы.
Для английского читателя, по крайней мере, наиболее интересными из романов являются те, которые повествуют о подвигах Артура и его рыцарей Круглого стола, — богатейшее хранилище романов, которое когда-либо находила наша литература. Было много циклов артуровских романов, главными из которых являются «Гавейн», «Ланселот», «Мерлин», «Поиски Святого Грааля» и «Смерть Артура». В предыдущих разделах мы видели, как эти захватывающие романы использовались Джеффри и французскими писателями, и как через французов они попали в английский язык, впервые появившись в нашей речи в «Брюте» Лайамона. Следует помнить, что, хотя легенды имеют кельтское происхождение, их литературная форма обязана своим происхождением французским поэтам, которые создали метрический роман. Все наши ранние английские романы являются либо копиями, либо переводами французских; и это касается не только Франции и Рима, но и кельтских героев, таких как Артур, и английских героев, таких как Гай Уорик и Робин Гуд.
Наиболее интересными из всех артуровских романов являются романы цикла Гавейна, и из них история сэра Гавейна и Зеленого Рыцаря лучше всего заслуживает прочтения по многим причинам. Во-первых, хотя материал взят из французских источников, английское мастерство является лучшим из наших ранних романов. Во-вторых, неизвестный автор этого романа, вероятно, написал также «Жемчужину» и является величайшим английским поэтом нормандского периода. В-третьих, сама поэма с ее драматическим интересом, яркими описаниями и моральной чистотой является одним из самых восхитительных старых романов на любом языке.
По форме «Сэр Гавейн» представляет собой интересное сочетание французских и саксонских элементов. Он написан в сложной строфе, сочетающей метр и аллитерацию. В конце каждой строфы находится рифмованный рефрен, называемый французами «tail rime». Мы приводим здесь краткий обзор истории; но если читатель желает саму поэму, ему рекомендуется начать с современной версии, так как оригинал написан на диалекте Западного Мидленда и его чрезвычайно трудно понять.
В первый день Нового года, когда Артур и его рыцари празднуют Рождественский пир в Камелоте, в банкетный зал въезжает гигантский рыцарь в зеленом верхом на коне и бросает вызов самому храброму из присутствующих рыцарей на обмен ударами; то есть он подставит свою шею удару своего большого боевого топора, если какой-либо рыцарь согласится выдержать ответный удар. После некоторого естественного смятения и прекрасной речи Артура Гавейн принимает вызов, берет боевой топор и одним ударом отправляет голову великана катиться по залу. Зеленый Рыцарь, который, очевидно, является ужасным магом, поднимает его голову и садится на коня. Он протягивает голову, и ужасные губы говорят, предупреждая Гавейна быть верным своему обещанию и искать по всему миру, пока не найдет Зеленую Часовню. Там, в следующий Новый год, Зеленый Рыцарь встретит его и ответит ударом.
Вторая песня поэмы описывает долгое путешествие Гавейна по пустыне на его коне Гринголете и его приключения с бурей и холодом, с дикими зверями и монстрами, пока он тщетно ищет Зеленую Часовню. В канун Рождества, посреди огромного леса, он возносит молитву «Марии, кротчайшей матери, столь дорогой», и вознаграждается видом большого замка. Он входит и его по-королевски развлекают хозяин, пожилой герой, и его жена, которая является самой красивой женщиной, которую когда-либо видел рыцарь. Гавейн узнает, что он наконец-то около Зеленой Часовни, и устраивается, чтобы немного утешиться после своих долгих поисков.
Следующая песня показывает жизнь в замке и описывает любопытный договор между хозяином, который каждый день отправляется на охоту, и рыцарем, который остается в замке, чтобы развлекать молодую жену. Договор заключается в том, что ночью каждый мужчина должен отдавать другому все хорошее, что он получит за день. Пока хозяин охотится, молодая женщина тщетно пытается склонить Гавейна к любви с ней и заканчивает тем, что целует его. Когда хозяин возвращается и отдает гостю дичь, которую он убил, Гавейн отвечает поцелуем. На третий день, когда ее искушения дважды потерпели неудачу, дама предлагает Гавейну кольцо, от которого он отказывается; но когда она предлагает волшебный зеленый пояс, который убережет владельца от смерти, Гавейн, помнящий о топоре великана, который вскоре упадет ему на шею, принимает пояс как «драгоценность от опасности» и обещает даме сохранить подарок в тайне.
Последняя песня приводит нашего рыцаря в Зеленую часовню, после того как его неоднократно предупреждают повернуть назад перед лицом неминуемой смерти. Часовня — ужасное место посреди запустения; и когда Гавейн приближается, он слышит ужасающий звук, скрежет стали о камень, где великан точит новый боевой топор. Появляется Зеленый рыцарь, и Гавейн, верный своему договору, подставляет свою шею для удара. Дважды топор взмахивает безвредно; в третий раз он падает на его плечо и ранит его. После чего Гавейн прыгает к своим доспехам, выхватывает меч и предупреждает великана, что договор требует только одного удара, и что, если будет предложен еще один, он будет защищаться.
Затем Зеленый рыцарь все объясняет. Он — хозяин замка, где Гавейн развлекался в течение последних дней. Первые два взмаха топора были безвредны, потому что Гавейн был верен своему договору и дважды ответил на поцелуй. Последний удар ранил его, потому что он скрыл дар зеленого пояса, который принадлежит Зеленому Рыцарю и был соткан его женой. Более того, все это было подстроено Моргейн, феей (врагом королевы Гвиневры, которая часто появляется в романах о короле Артуре). Полный стыда, Гавейн отбрасывает подарок и готов искупить свой обман; но Зеленый Рыцарь думает, что он уже искупил, и преподносит зеленый пояс в качестве подарка. Гавейн возвращается ко двору Артура, откровенно рассказывает всю историю, и с тех пор рыцари Круглого Стола носят зеленый пояс в его честь.
ЖЕМЧУЖИНА.
=========
В той же рукописи, что и «Сэр Гавейн», находятся три других замечательных стихотворения, написанных около 1350 года и известных нам по порядку как «Жемчужина», «Чистота» и «Терпение». Первое из них самое красивое и получило свое название от переводчика и редактора Ричарда Морриса в 1864 году. «Терпение» — это парафраз книги Ионы; «Чистота» морализирует на основе библейских историй; но «Жемчужина» — это глубоко человечная и реалистичная картина скорби отца по его маленькой дочери Маргарет,
«Моя драгоценная жемчужина без единого пятнышка».
Это самое грустное из всех наших ранних стихотворений.
На могиле своего малыша, покрытой цветами, отец изливает свою любовь и горе, пока в летней тишине он не засыпает, в то время как мы слышим в солнечном свете сонное жужжание насекомых и далекий звук серпов жнецов. Он мечтает там, и сон вырастает в прекрасное видение. Его тело неподвижно лежит на могиле, в то время как его дух отправляется в страну, прекрасную за пределами всех слов, где он внезапно натыкается на ручей, который он не может перейти. Когда он бродит вдоль берега, тщетно ища брод, перед его глазами возникает чудо, хрустальный утес и сидящая под ним маленькая девица, которая поднимает счастливое, сияющее лицо, — лицо его маленькой Маргарет.
Он не смеет говорить из-за страха разрушить чары; но нежная, как лилия, она спускается по берегу кристального ручья, чтобы встретиться и поговорить с ним, и рассказать ему о счастливой жизни на небесах и о том, как жить, чтобы быть достойным ее. В своей радости он слушает, забывая все свое горе; затем сердце мужчины взывает о своем собственном, и он изо всех сил пытается пересечь ручей, чтобы присоединиться к ней. В борьбе сон исчезает; он просыпается и обнаруживает, что его глаза мокрые, а голова на небольшом холмике, который отмечает место, где похоронено его сердце.
Из идеалов этих трех поэм, а также из особенностей стиля и метра, вероятно, что их автор написал также «Сэра Гавейна и Зеленого Рыцаря». Если так, то неизвестный автор — единственный гений эпохи, чья поэзия сама по себе имеет силу интересовать нас, и который стоит между Киневульфом и Чосером как достойный последователь одного и предшественник другого.
РАЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА НОРМАНСКОГО ПЕРИОДА.
======================================
Почти невозможно классифицировать оставшуюся литературу этого периода, и очень мало ее сейчас читают, за исключением продвинутых студентов. Те, кто интересуется развитием «переходного» английского, найдут в Ancren Riwle, т. е. «Правиле отшельниц» (ок. 1225 г.), самое прекрасное произведение старой английской прозы, когда-либо написанное. Это книга превосходных религиозных советов и утешения, написанная для трех женщин, которые хотели жить религиозной жизнью, не становясь, однако, монахинями и не вступая в какие-либо религиозные ордена.
Автором был епископ Пур из Солсбери, согласно Мортону, который первым отредактировал эту старую классику в 1853 году. Ormulum Орма, написанный вскоре после Brut, является парафразом евангельских уроков на год, несколько в манере парафраза Кэдмона, но без поэтического огня и оригинальности Кэдмона. Cursor Mundi (ок. 1320) — очень длинная поэма, которая делает своего рода метрический роман из библейской истории и показывает все отношения Бога с человеком от Сотворения мира до Страшного суда. Она интересна тем, что показывает параллель с циклами пьес-чудес, которые пытаются охватить ту же обширную область. Они формировались в эту эпоху; но мы изучим их позже, когда попытаемся понять подъем драмы в Англии.
Помимо этих более крупных произведений, в этот век появилось огромное количество басен и сатир, скопированных или переведенных с французского, как и метрические романсы. Наиболее известными из них являются «Сова и соловей» — долгий спор между двумя птицами, одна из которых представляла веселую сторону жизни, другая — более суровую сторону закона и морали, — и «Земля Кокейна», то есть «Роскошная земля», острая сатира на монахов и монашескую религию.
В то время как большая часть литературы того времени была копией французской и предназначалась только для высших классов, кое-где были певцы, которые писали баллады для простого народа; и они, наряду с метрическими романсами, являются наиболее интересными и значительными из всех произведений нормандского периода. Из-за своего неясного происхождения и устной передачи баллада всегда является самым трудным из литературных предметов.[58] Мы делаем здесь только три предположения, которые вполне можно иметь в виду: что баллады постоянно создавались в Англии с англосаксонских времен до семнадцатого века; что на протяжении столетий они были единственной действительно популярной литературой; и что только в балладах можно понять простых людей. Прочтите, например, баллады о «merrie greenwood men», которые постепенно собрались в Geste of Robin Hood, и вы поймете лучше, возможно, чем из чтения многих историй, что чувствовали и думали простые люди Англии, пока их лорды и хозяева были заняты невозможными метрическими романсами.
В этих песнях говорит сердце английского народа. Действительно, беззаконие есть; но это, кажется, оправдано гнетом времени и варварской строгостью законов об игре. Сильная ненависть к обману и несправедливости таится в каждой песне; но ненависть спасается от горечи юмором, с которым пленники, особенно богатые церковники, торжественно читают лекции бандитам, в то время как они извиваются при виде дьявольских пыток, приготовленных у них на глазах, чтобы заставить их отдать свои золотые кошельки; и сцена обычно заканчивается немного дикой возней. Достаточно сражений, и засады и внезапная смерть подстерегают на каждом повороте одиноких дорог; но есть также грубое, честное рыцарство по отношению к женщинам и щедрое разделение добычи с бедными и нуждающимися. Вся литература - это всего лишь выраженная мечта, и "Робин Гуд" - это мечта невежественного и угнетенного, но по сути благородного народа, борющегося и решившего стать свободным.
Гораздо более поэтичны, чем баллады, и даже более интересны, чем романсы, маленькие тексты того периода, — те слезы и улыбки давних времен, которые кристаллизовались в поэмы, чтобы рассказать нам, что сердца людей одинаковы во все века. Из них наиболее известны «Luve Ron» (руна или письмо любви) Томаса де Галя (ок. 1250 г.); «Springtime» (ок. 1300 г.), начинающаяся «Lenten (spring) ys come with luve to toune»; и мелодичная любовная песня «Alysoun», написанная в конце тринадцатого века неизвестным поэтом, который возвещает о приходе Чосера:
РЕЗЮМЕ НОРМАНСКОГО ПЕРИОДА.
===========================
Норманны изначально были выносливой расой морских разбойников, населявших Скандинавию. В десятом веке они завоевали часть северной Франции, которая до сих пор называется Нормандией, и быстро переняли французскую цивилизацию и французский язык.
Их завоевание англосаксонской Англии под руководством Вильгельма, герцога Нормандского, началось с битвы при Гастингсе в 1066 году. Литература, которую они привезли в Англию, примечательна своими яркими, романтическими историями о любви и приключениях, в резком контрасте с силой и мрачностью англосаксонской поэзии. В течение трех столетий после Гастингса норманны и саксы постепенно объединялись. Англосаксонская речь упростилась, отбросив большую часть своих тевтонских интонаций, в конечном итоге впитав большую часть французского словаря и став нашим английским языком. Английская литература также представляет собой сочетание французских и саксонских элементов. Три главных результата завоевания были:
(1) привнесение римской цивилизации в Англию;
(2) рост национальности, т. е. сильное централизованное правительство вместо свободного союза саксонских племен;
(3) новый язык и литература, которые были провозглашены у Чосера.
Сначала новая литература была удивительно разнообразной, но имела небольшую внутреннюю ценность; и сейчас ее читают очень мало. В нашем исследовании мы отметили:
(1) «История» Джеффри, которая ценна как источник литературы, поскольку содержит местные кельтские легенды об Артуре.
(2) Работы французских писателей, которые сделали легенды об Артуре популярными. (3) «Риминговые хроники», т. е. история в стихах-доггерелях, как «Брут» Лайамона.
(4) Метрические романсы, или рассказы в стихах. Их было много, и они были четырех видов:
(a) «Дело Франции», рассказы, сосредоточенные вокруг Карла Великого и его пэров, главный из которых — «Песнь о Роланде»;
(b) «Дело Греции и Рима», бесконечная серия сказочных рассказов об Александре и о падении Трои;
(c) «Дело Англии», рассказы о Бевисе из Хэмптона, Гае Уорике, Робин Гуде и т. д.; (
d) Matter of Britain, рассказы, в которых героями являются Артур и его рыцари Круглого стола. Лучший из этих романов — «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь».
(5) Разная литература — «Ancren Riwle», наше лучшее произведение ранней английской прозы; «Ormulum» Орма; «Cursor Mundi» с его наводящими на размышления параллелями к пьесам «Miracle»; и баллады, такие как «King Horn» и «Robin Hood songs», которые были единственной поэзией простого народа.
ГЛАВА IV
ЭПОХА ЧОСЕРА (1350-1400)
========================
НОВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРА
=======================================
ИСТОРИЯ ПЕРИОДА.
================
В сложной жизни Англии в четырнадцатом веке можно отметить два великих движения. Первое — политическое, достигшее кульминации в правление Эдуарда III. Оно показывает рост английского национального духа после побед Эдуарда и Черного Принца на французской земле во время Столетней войны. В порыве этого великого национального движения, отделяющего Англию от политических связей Франции и, в меньшей степени, от церковной зависимости от Рима, взаимное недоверие и ревность, разделявшие дворян и простолюдинов, были на мгновение сметены волной патриотического энтузиазма. Французский язык утратил свой официальный престиж, и английский стал языком не только простых людей, но также судов и парламента.
Второе движение социальное; оно в значительной степени относится к правлению преемника Эдуарда, Ричарда II, и отмечает растущее недовольство контрастом между роскошью и бедностью, между праздными богатыми классами и перегруженными налогами крестьянами. Иногда это движение тихое и сильное, как когда Уиклиф пробуждает совесть Англии; снова оно имеет зловещий гул приближающейся бури, как когда Джон Болл обращается к множеству недовольных крестьян на общинных землях Блэк-Хит, используя знаменитый текст:
Когда Адам пахал, а Ева пряла
Кто тогда был джентльменом?
И снова это выливается в яростное восстание Уота Тайлера. Все это показывает тот же саксонский дух, который завоевал себе свободу в тысячелетней борьбе с иноземными врагами, а теперь чувствует себя угнетенным социальной и промышленной тиранией в своей собственной среде.
За исключением этих двух движений, век был веком необычайного движения и прогресса. Рыцарство, этот средневековый институт смешанного добра и зла, переживало свой бабий упадок, — скорее сентимент, чем практическая система.
Торговля и ее проистекающие из нее богатство и роскошь росли чрезвычайно. Вслед за торговлей, как викинги следовали за славой, англичане стали завоевателями и колонистами, как англосаксы. Туземец отбросил часть своей замкнутости и стал путешественником, отправляясь сначала посмотреть места, где торговля открыла путь, и возвращаясь с более широкими интересами и большим горизонтом. Прежде всего, первый рассвет Возрождения возвещается в Англии, как и в Испании и Италии, появлением национальной литературы.
ПЯТЬ ПИСАТЕЛЕЙ ЭПОХИ.
=====================
Литературное движение эпохи ясно отражает бурную жизнь того времени. Есть Лэнгленд, выражающий социальное недовольство, проповедующий равенство людей и достоинство труда; Уиклиф, величайший из английских религиозных реформаторов, дающий Евангелие людям на их родном языке и свободу Евангелия в бесчисленных трактатах и ;;обращениях; Гауэр, ученый и литератор, критикующий эту энергичную жизнь и явно боящийся ее последствий; и Мандевиль, путешественник, романтизирующий о чудесах, которые можно увидеть за границей. И выше всех есть Чосер, — ученый, путешественник, бизнесмен, придворный, разделяющий всю бурную жизнь своего времени и отражающий ее в литературе так, как никто другой, кроме Шекспира, никогда не делал. За пределами Англии наибольшее литературное влияние эпохи оказали Данте, Петрарка и Боккаччо, чьи произведения, тогда находившиеся на пике своего влияния в Италии, глубоко повлияли на литературу всей Европы.
ЧОСЕР
=====
(1340?-1400)
«Что за человек?» — спросил он;
«Ты смотришь, как будто хочешь найти зайца,
Ибо вечно на земле я вижу, как ты смотришь».
Подойди ближе и взгляни с радостью…».
По своему содержанию он кажется эльфом».
(Описание Чосера Хозяином,
Пролог,
Сэр Топас)
О ЧТЕНИИ ЧОСЕРА.
================
Трудности чтения Чосера скорее кажущиеся, чем реальные, в основном из-за устаревшего правописания, и нет особой необходимости использовать какие-либо современные версии произведений поэта, которые, кажется, лишены тихого очарования и сухого юмора оригинала. Если читатель будет соблюдать следующие общие правила (которые по необходимости игнорируют многие различия в произношении английского языка четырнадцатого века), он может за час или два научиться читать Чосера почти так же легко, как Шекспира: (1) Уловите ритм строк и позвольте самому размеру решить, как должны произноситься последние слоги. Помните, что Чосер — один из самых музыкальных поэтов, и что мелодия есть почти в каждой строке. Если стих кажется грубым, это потому, что мы неправильно его читаем. (2) Гласные в Чосере имеют почти такое же значение, как в современном немецком языке; согласные практически такие же, как в современном английском. (3) Произносите вслух любые странно выглядящие слова. Там, где глаз подводит, ухо часто распознает значение. Если и глаз, и ухо подводят, то обратитесь к словарю, который есть в каждом хорошем издании произведений поэта. (4) Конечное e обычно произносится (как a в Вирджинии), за исключением случаев, когда следующее слово начинается с гласной или с h. В последнем случае последний слог одного слова и первый слог следующего слова сливаются вместе, как при чтении Вергилия. В конце строки thee, если произносится легко, добавляет мелодии стиху.
Имея дело с шедевром Чосера, читателю настоятельно рекомендуется сначала читать много, просто ради удовольствия от историй, и помнить, что поэзия и романтика интереснее и важнее среднеанглийского. Когда мы полюбим и оценим Чосера — его поэзию, его юмор, его хорошие истории, его доброе сердце — у нас будет достаточно времени, чтобы изучить его язык.
ЖИЗНЬ ЧОСЕРА.
=============
Для нашего удобства жизнь Чосера разделена на три периода.
Первый, тридцатилетний, охватывает его юность и раннюю зрелость, в это время он находился под влиянием почти исключительно французских литературных образцов. Второй период, пятнадцатилетний, охватывает активную жизнь Чосера как дипломата и делового человека; и в этом итальянское влияние кажется сильнее французского. Третий, пятнадцатилетний, обычно известный как английский период, является временем самого богатого развития Чосера. Он живет дома, наблюдает за жизнью пристально, но доброжелательно, и хотя французское влияние все еще сильно, как показано в Кентерберийских рассказах, он, кажется, становится более независимым от иностранных образцов и в основном находится под влиянием энергичной жизни своего собственного английского народа.
Детство Чосера прошло в Лондоне, на Темз-стрит, недалеко от реки, где мировая торговля постоянно прибывала и убывала. Там он ежедневно видел шкипера Кентерберийских рассказов, только что вернувшегося домой на своем добром судне «Моделейн», с очарованием неизведанных земель в его одежде и разговоре. О его образовании мы ничего не знаем, кроме того, что он был большим читателем. Его отец был виноторговцем, поставщиком королевского двора, и из этой случайной связи между торговлей и королевской властью, возможно, возник тот факт, что в семнадцать лет Чосер был назначен пажом принцессы Елизаветы. Это было началом его связи с блестящим двором, который в последующие сорок лет, при трех королях, он знал так близко.
В девятнадцать лет он отправился с королем в одну из многочисленных экспедиций Столетней войны, и здесь он увидел рыцарство и всю пышность средневековой войны на пике их внешнего великолепия. Взятый в плен при неудачной осаде Реймса, он, как говорят, был выкуплен деньгами из королевского кошелька. Вернувшись в Англию, он через несколько лет стал оруженосцем королевского двора, личным слугой и доверенным лицом короля. Именно в этот первый период он женился на фрейлине королевы. Вероятно, это была Филиппа Роэт, сестра жены Джона Гонта, знаменитого герцога Ланкастера. Из многочисленных причудливых упоминаний в его ранних поэмах считалось, что этот брак с дворянской семьей не был счастливым; но это всего лишь вопрос предположения или сомнительного вывода.
В 1370 году Чосер был отправлен за границу с первой из тех дипломатических миссий, которые должны были занять большую часть следующих пятнадцати лет. Два года спустя он совершил свой первый официальный визит в Италию, чтобы заключить торговый договор с Генуей, и с этого времени заметно быстрое развитие его литературных способностей и значимость итальянских литературных влияний. В перерывах между своими различными миссиями он занимал различные должности на родине, главной из которых была должность контролера таможни в порту Лондона. Было задействовано огромное количество личного труда; но Чосер, кажется, нашел время, чтобы следовать своему духу в новых областях итальянской литературы:
В 1386 году Чосер был избран членом парламента от Кента, и начинается отчетливо английский период его жизни и творчества. Хотя он был чрезвычайно занят в государственных делах и в качестве сборщика таможенных пошлин, его сердце все еще было со своими книгами, от которых его могла отвоевать только природа:
В четырнадцатом веке политика, похоже, была для честных людей очень ненадежным делом. Чосер естественным образом примкнул к партии Джона Гонта, и его состояние росло или падало вместе с состоянием его лидера. С этого времени и до своей смерти он поднимался и опускался по политической лестнице: сегодня с деньгами и хорошими перспективами, завтра в нищете и забвении, сочиняя свою «Жалобу на его пустые кошельки», которую он с юмором называет своей «saveour doun in this werlde here». Эта поэма привлекла внимание короля к нуждам поэта и увеличила его пенсию; но у него было всего несколько месяцев, чтобы насладиться эффектом этой необычной «Жалобы». Ибо он умер в следующем году, 1400, и был с почестями похоронен в Вестминстерском аббатстве. Последний период его жизни, хотя внешне наиболее беспокойный, был самым плодотворным из всех. Его «Истина», или «Добрый совет», раскрывает тихий, прекрасный дух его жизни, не испорченный ни жадностью торговли, ни хитростью политики:
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧОСЕРА,
====================
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД.
==============
Произведения Чосера можно условно разделить на три класса, соответствующие трем периодам его жизни. Однако следует помнить, что невозможно установить точные даты для большинства его произведений. Некоторые из его «Кентерберийских рассказов» были написаны раньше английского периода и были сгруппированы с другими только в его окончательном расположении.
Самая известная, хотя и не лучшая, поэма первого периода — «Роман о розе», перевод с французского «Романа о розе», самой популярной поэмы Средних веков, — изящная, но чрезвычайно утомительная аллегория всего пути любви. Роза, растущая в своем мистическом саду, типична для дамы Красавицы. «Сбор розы» представляет собой попытку влюбленного завоевать благосклонность своей дамы; и различные пробужденные чувства — Любовь, Ненависть, Зависть, Ревность, Праздность, Нежные взгляды — являются аллегорическими персонажами драмы поэта. Чосер перевел эту всеобщую любимицу, добавив несколько оригинальных английских штрихов; но из настоящего «Романа» только первые семнадцать сотен строк считаются собственным произведением Чосера.
Возможно, лучшая поэма этого периода — «Dethe of Blanche the Duchesse», более известная как «Boke of the Duchesse», поэма значительной драматической и эмоциональной силы, написанная после смерти Бланш, жены покровителя Чосера, Джона Гонта. Дополнительные поэмы — «Compleynte to Pite», изящная любовная поэма; «A B C», молитва Деве Марии, переведенная с французского монахом-цистерцианцем, ее стихи начинаются с последовательных букв алфавита; и ряд того, что Чосер называет «балладами, хороводами и вирелями», которыми, как говорит его друг Гауэр, «была наполнена земля». Последние были подражаниями распространенным французским любовным песенкам.
ВТОРОЙ ПЕРИОД.
==============
Главное произведение второго или итальянского периода — «Троил и Крессида», поэма из восьми тысяч строк. Оригинальная история была любимой многими авторами в Средние века, и Шекспир использует ее в своей «Троиле и Крессиде». Непосредственным источником поэмы Чосера является «Il Filostrato» Боккаччо, «влюбленный»; но он использует свой материал очень свободно, чтобы отразить идеалы своего времени и общества, и таким образом придает всей истории драматическую силу и красоту, которых она никогда не знала прежде.
«Дом славы» — одно из незаконченных стихотворений Чосера, в котором редкое сочетание возвышенной мысли и простого, домашнего языка, демонстрирующее влияние великого итальянского мастера. В стихотворении автор во сне уносится огромным орлом из хрупкого храма Венеры, в песчаной пустыне, в зал славы. В этот дом приходят все слухи земли, как искры летят вверх. Дом стоит на ледяной скале
напиши полные имен Людей, которые имели великую славу.
Многие из них исчезли, когда растаял лед;
но старые имена ясны, как и тогда, когда они были впервые написаны.
Многими своими идеями Чосер обязан Данте, Овидию и Вергилию, но необычная концепция и великолепное мастерство исполнения — все это его собственные.
Третья великая поэма этого периода — «Легенда о доброй женщине». Пока он отдыхает в полях среди маргариток, он засыпает, и приближается веселая процессия. Первым идет бог любви, ведя за руку Алкестиду, образец всех женских добродетелей, чьей эмблемой является маргаритка; а за ними следует группа славных женщин, все из которых были верны в любви. Они собираются вокруг поэта; бог упрекает его за то, что он перевел «Роман о розе», и за его ранние поэмы, размышляющие о тщеславии и непостоянстве женщин. Алкестида заступается за него и предлагает прощение, если он искупит свои ошибки, написав «славную легенду о добрых женщинах». Чосер обещает, и как только он просыпается, он приступает к выполнению задачи. Было написано девять легенд, из которых «Фисба», пожалуй, лучшая. Вероятно, Чосер намеревался сделать ее своим шедевром, посвятив много лет историям о знаменитых женщинах, которые были верны любви; но то ли потому, что ему наскучила тема, то ли потому, что план «Кентерберийских рассказов» все больше созревал в его голове, он оставил эту задачу на середине своей девятой легенды — возможно, к счастью, поскольку читатель найдет Пролог более интересным, чем любая из легенд.
ТРЕТИЙ ПЕРИОД.
==============
Шедевр Чосера, «Кентерберийские рассказы», ;;одно из самых известных произведений во всей литературе, заполняет третий или английский период его жизни. План произведения великолепен: представить широкий размах английской жизни, собрав вместе разношерстную компанию и позволив каждому классу общества рассказать свои собственные любимые истории. Хотя великий труд так и не был закончен, Чосеру удалось достичь своей цели настолько хорошо, что в «Кентерберийских рассказах» он дал нам картину современной английской жизни, ее работы и развлечений, ее деяний и мечтаний, ее веселья и сочувствия и сердечной радости жизни, с которой не сравнится ни одно другое произведение литературы.
ПЛАН «КЕНТЕРБЕРИЙСКИХ РАССКАЗОВ».
=================================
Напротив старого Лондона, на южном конце Лондонского моста, когда-то стояла гостиница «Табард Инн» в Саутуорке, квартале, прославившемся не только «Кентерберийскими рассказами», но и первыми театрами, где обучался Шекспир.
Этот Саутуарк был отправной точкой всех путешествий на юг Англии, особенно средневековых паломничеств к святыне Томаса Бекета в Кентербери. Весенним вечером, в то вдохновляющее время года, когда «люди долго отправляются в паломничества», Чосер выходит из таверны «Табард» и обнаруживает, что она занята разнообразной компанией людей, решивших отправиться в паломничество. Только случай свел их вместе; поскольку у паломников был обычай ждать в какой-нибудь дружелюбной таверне, пока не соберется достаточное количество людей, чтобы сделать путешествие приятным и безопасным от грабителей, которые могли встретиться по пути. Чосер присоединяется к этой компании, которая включает все классы английского общества, от оксфордского ученого до пьяного мельника, и с радостью принимает их приглашение отправиться с ними на следующее утро.
За ужином веселый хозяин гостиницы «Табард» предлагает, чтобы оживить путешествие, каждому из компании рассказать четыре истории, две уходящие и две приходящие, на ту тему, которая ему больше всего подходит. Хозяин будет путешествовать с ними как ведущий церемонии, и тот, кто расскажет лучшую историю, получит прекрасный ужин за общий счет, когда все вернутся обратно, — умное дело и прекрасная идея, как соглашаются все паломники.
Когда они тянут жребий на первую историю, шанс достается Рыцарю, который рассказывает одну из лучших Кентерберийских рассказов, рыцарскую историю «Паламон и Аркита». Затем рассказы следуют быстро, каждый со своим прологом и эпилогом, рассказывающими, как возникла история, и ее влияние на веселую компанию. Перерывы многочисленны; повествование полно жизни и движения, как когда мельник напивается и настаивает на том, чтобы рассказать свою историю не вовремя, или когда они останавливаются в дружелюбной гостинице на ночь, или когда поэт с лукавым юмором начинает свою историю «Сэра Топаса», в тоскливой имитации метрических романов того времени, и на него рычит хозяин за его «дерзкое рифмование». Вместе с Чосером мы смеемся над ним самим и готовы к следующей истории.
По числу человек в компании (всего тридцать два человека) очевидно, что Чосер задумал грандиозное произведение из ста двадцати восьми рассказов, которые должны были охватить всю жизнь Англии.
Было написано всего двадцать четыре; некоторые из них незакончены, а другие взяты из его более ранних работ, чтобы заполнить общий план «Кентерберийских рассказов». Несмотря на свою неполноту, они охватывают широкий диапазон, включая истории о любви и рыцарстве, о святых и легендах, путешествиях, приключениях, баснях о животных, аллегории, сатире и грубом юморе простых людей. Хотя все, кроме двух, написаны в стихах и изобилуют изысканными поэтическими штрихами, это рассказы и поэмы, и Чосера следует считать нашим первым рассказчиком коротких рассказов, а также нашим первым современным поэтом. Произведение заканчивается добрым прощанием поэта со своим читателем, и поэтому «здесь берет свое слово создатель этой книги».
ПРОЛОГ К КЕНТЕРБЕРИЙСКИМ РАССКАЗАМ.
==================================
В знаменитом «Прологе» поэт знакомит нас с различными персонажами своей драмы. До времен Чосера популярная литература была занята в основном богами и героями золотого века; она была по сути романтической и поэтому никогда не пыталась изучать мужчин и женщин такими, какие они есть, или описывать их так, чтобы читатель узнавал в них не идеальных героев, а своих собственных соседей. Чосер не только попытался выполнить эту новую реалистическую задачу, но и выполнил ее так хорошо, что его персонажи были мгновенно признаны правдоподобными, и с тех пор они стали постоянным достоянием нашей литературы. Беовульф и Роланд — идеальные герои, по сути, создания воображения; но веселый хозяин таверны «Табард», мадам Эглантин, толстый монах, приходской священник, добрый пахарь, бедный ученый с его «черно-красными книгами» — все они кажутся скорее личными знакомыми, чем персонажами в книге. Драйден говорит: «Я вижу всех паломников, их настроение, их черты лица и даже их одежду так отчетливо, как если бы я ужинал с ними в «Табарде» в Саутуарке». Чосер — первый английский писатель, который привнес атмосферу романтического интереса в жизнь мужчин и женщин и в повседневную работу собственного мира, что является целью почти всей современной литературы.
Историк нашей литературы испытывает искушение задержаться на этом «Прологе» и цитировать из него отрывок за отрывком, чтобы показать, как проницательно и в то же время доброжелательно наш первый современный поэт наблюдал за своими собратьями.
Персонажи также привлекают, как хорошая пьеса: «очень парфит благородный рыцарь» и его мужественный сын, скромная настоятельница, образец благочестия и светских манер, резвый монах и толстый монах, благоразумный законник, упитанный сельский помещик, моряк, только что вернувшийся с моря, хитрый доктор, милый приходской священник, который учил свою паству истинной религии, но «сначала он сам следовал ей»; грубая, но добросердечная Виф из Бата, вороватый мельник, ведущий паломников под музыку своей волынки, — все эти и многие другие из всех слоев английской жизни, и все они описаны с тихим, добрым юмором, который инстинктивно ищет лучшее в человеческой природе и который имеет обширную одежду милосердия, чтобы прикрыть даже ее недостатки и слабости. «Вот», действительно, как говорит Драйден, «Божье изобилие». Вероятно, ни один более проницательный или более добрый критик никогда не описывал своих собратьев; и в этом бессмертном "Прологе" Чосер является образцом для всех тех, кто хотел бы записать нашу человеческую жизнь. Студент должен прочитать его целиком, как введение не только к поэту, но и ко всей нашей современной литературе.
РЫЦАРСКИЙ РАССКАЗ.
===================
Как история, «Паламон и Аркита» во многих отношениях является лучшим из «Кентерберийских рассказов», отражая идеалы того времени в отношении романтической любви и рыцарского долга. Хотя его диалоги и описания несколько слишком длинны и прерывают повествование, тем не менее, он показывает Чосера в его лучшем проявлении — в его драматической силе, его изысканном восприятии природы и его нежной, но глубокой философии жизни, которая могла бы игнорировать многие человеческие слабости в мысли о том, что
Бесконечны были скорби и горести
Старого народа и народа нежных лет.
Идея рассказа была заимствована у Боккаччо; но части оригинальной истории были намного старше и принадлежали к общему литературному запасу Средних веков. Как и Шекспир, Чосер брал материал для своих поэм везде, где он его находил, и его оригинальность состоит в том, чтобы придать старой истории некоторый современный человеческий интерес, заставив ее выразить жизнь и идеалы его собственного века. В этом отношении «Рассказ рыцаря» примечателен. Его имена принадлежат древней цивилизации, но его персонажи — мужчины и женщины английской знати, какими их знал Чосер.
В результате в рассказе присутствует множество анахронизмов, таких как средневековый турнир перед храмом Марса; однако читатель едва ли замечает эти вещи, поглощенный драматическим интересом повествования.
Вкратце, «Рассказ рыцаря» — это история двух молодых людей, верных друзей, которых находят ранеными на поле боя и увозят в Афины. Там из окна своей темницы они видят прекрасную деву Эмили; оба отчаянно влюбляются в нее, и их дружба превращается в напряженное соперничество. Один из них прощен; другой сбегает; а затем рыцари, империи, природа — вся вселенная следует за их отчаянными попытками завоевать одну маленькую девушку, которая тем временем молится об избавлении от обоих ее надоедливых женихов. Поскольку лучшие из «Кентерберийских рассказов» теперь легкодоступны, мы опускаем здесь все цитаты. Рассказ следует читать целиком, с рассказом настоятельницы о Хью из Линкольна, рассказом клерка о терпеливой Гризельде и веселой историей монахини-священника о Шантиклере и Лисе, если читатель хочет оценить разнообразие и очарование нашего первого современного поэта и рассказчика.
ФОРМА ПОЭЗИИ ЧОСЕРА.
====================
В стихах Чосера можно найти три основных размера. В «Кентерберийских рассказах» он использует строки из десяти слогов и пяти ударений каждая, а строки идут двустишиями:
Глаза его сверкнули в его глазах,
как звезды в морозную ночь.
Тот же музыкальный размер, организованный в семистрочные строфы, но с другой рифмой, называемой «королевской рифмой», в своей наиболее совершенной форме встречается в «Троиле».
О блаженный свет, чье сияние ясно
Украшает всю третью небесную прекрасную землю!
О сыновья листья, о дочь Юпитера там,
Удовольствие любви, о благостная любезность,
В нежных сердцах готов к восстановлению!
О великая причина здоровья и радости,
Да будут наследуемы твоя мощь и твоя доброта!
В небе и аду, в земле и соли см.
Чувствуется твоя мощь, если я хорошо ее распознаю;
Как человек, невеста, лучшее, рыба, трава и зеленое дерево
Ты чувствовал себя во времени с паром вечным.
Бог любит, и любить не будет ничего;
И в этом мире нет живого существа,
Без любви, не стоит и не может выжить.
Третий метр — восьмисложная строка с четырьмя ударениями, строки объединены в двустишия, как в «Книге герцогини»:
Она могла так хорошо украсить себя,
что, услышав ее, я осмелился увидеть,
что она подобна яркому факелу,
так что каждый человек может получить достаточно света,
и он никогда не станет меньше.
Помимо этих основных метров, Чосер в своих коротких поэмах использовал много других поэтических форм, смоделированных по образцу французов, которые в четырнадцатом веке были искусными работниками в каждой форме стиха. Главными среди них являются трудный, но изысканный рондель «Now welcom Somer with your sonne softe», который завершает «Parliament of Fowls», и баллада «Flee fro the prees», которая уже цитировалась. В «Monk's Tale» есть мелодичный размер, который, возможно, послужил моделью для знаменитой строфы Спенсера. Поэзия Чосера чрезвычайно музыкальна и должна оцениваться скорее на слух, чем на глаз. Современному читателю строки кажутся ломаными и неровными; но если перечитать их несколько раз, то вскоре можно уловить идеальный ход размера и обнаружить, что он находится в руках мастера, чье ухо тонко чувствительно к мельчайшему акценту. Во всех его строках есть мелодия, которая изумительна, если учесть, что он первый, кто показал нам поэтические возможности языка. Он заслуживает нашей благодарности вдвойне: во-первых, за открытие музыки, которая есть в нашей английской речи; и, во-вторых, за его влияние на установление диалекта Мидленда как литературного языка Англии.
СОВРЕМЕННИКИ ЧОСЕРА
====================
УИЛЬЯМ ЛЭНГЛЕНД (1332? ….?)
===========================
ЖИЗНЬ.
========
О Лэнгленде известно очень мало. Он родился, вероятно, недалеко от Малверна, в Вустершире, сын бедного свободного человека, и в молодости жил в полях пастухом. Позже он отправился в Лондон со своей женой и детьми, зарабатывая на жизнь голодным трудом клерка в церкви. Его настоящая жизнь тем временем была жизнью провидца, пророка по сердцу Исайи, если судить по пророчеству, которое вскоре нашло голос в Пирсе Пахарь. В 1399 году, после успеха своего великого труда, он, возможно, писал еще одну поэму под названием «Ричард Неисправимый», протест против Ричарда II; но мы не уверены в авторстве этой поэмы, которая осталась незаконченной из-за убийства короля. После 1399 года Лэнгленд полностью исчезает, и дата его смерти неизвестна.
ПИРС ПАХАРЬ.
==============
«Голос вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу», — вполне можно было бы написать в начале этой замечательной поэмы. Истина, искренность, прямой и практический призыв к совести и видение торжества справедливости над несправедливостью — вот элементы всякого пророчества; и, несомненно, именно эти элементы в «Пирсе Пахаре» произвели такое впечатление на народ Англии. В течение столетий литература была занята главным образом тем, чтобы угождать высшим классам; но вот наконец появилась великая поэма, которая обращалась непосредственно к простым людям, и ее успех был огромен. Традиционно вся поэма приписывается Лэнгленду; но теперь известно, что она была работой нескольких разных писателей. Впервые она появилась в 1362 году как поэма из тысячи восьмисот строк, и это, возможно, была работа Лэнгленда. В последующие тридцать лет, в период отчаянных социальных условий, приведших к восстанию Тайлера, произведение неоднократно перерабатывалось и дополнялось разными авторами, пока не достигло окончательного вида, насчитывающего около пятнадцати тысяч строк.
Поэма, как мы ее сейчас читаем, состоит из двух отдельных частей: первая содержит видение Пирса, вторая — серию видений под названием «Поиск Dowel, Dobet, Dobest» (преуспевай, лучше, наилучший). Вся поэма состоит из сильно акцентированных, аллитерационных строк, что-то вроде «Беовульфа», и ее огромная популярность показывает, что простые люди все еще дорожили этой легко запоминающейся формой саксонской поэзии.
Её огромный призыв к справедливости и общей честности, её громкий призыв к каждому человеку, будь то король, священник, дворянин или рабочий, исполнить свой христианский долг, лишает её всякого следа предрассудков или фанатизма, которыми обычно изобилуют подобные произведения. Её преданность Церкви, в то же время осуждая злоупотребления, которые вкрались в нее в тот период, была одним из великих влияний, которые привели к Реформации в Англии. Её два великих принципа, равенство людей перед Богом и достоинство честного труда, пробудили целую нацию свободных людей. В целом это одно из величайших произведений мира, отчасти из-за его национального влияния, отчасти потому, что это самая лучшая картина общественной жизни четырнадцатого века, которой мы обладаем:
Вкратце, Пирс Пахарь — это аллегория жизни. В первом видении, «Поле, полное людей», поэт ложится на холмы Малверн майским утром, и видение приходит к нему во сне. На равнине под ним собирается множество людей, огромная толпа, выражающая разнообразную жизнь мира. Все классы и условия присутствуют там; рабочие трудятся, чтобы другие могли захватить все первые плоды их труда и жить на широкую ногу; и гений толпы — леди Взяточничество, мощно нарисованная фигура, выражающая коррумпированную общественную жизнь того времени.
Следующие видения — это видения Семи Смертных Грехов, аллегорические фигуры, но такие же сильные, как в «Путешествии Пилигрима», по сравнению с которыми аллегории «Романа о Розе» кажутся тенями. Все они пришли к Пирсу, спрашивая путь к Истине; но Пирс пашет свои пол-акра и отказывается оставить свою работу и вести их. Он заставляет их всех честно трудиться как наилучшее возможное средство от их пороков и проповедует евангелие труда как подготовку к спасению. На протяжении всей поэмы Пирс очень похож на Иоанна Крестителя, проповедующего толпам в пустыне. Более поздние видения — это провозглашения нравственной и духовной жизни человека. Поэма становится драматичной в своей интенсивности, достигая наивысшей силы в триумфе Пирса над Смертью. И затем поэт просыпается от своего видения со звоном пасхальных колоколов в ушах.
ДЖОН УИКЛИФ
============
(1324?-1384)
Уиклиф, как человек, безусловно, является самой влиятельной английской фигурой четырнадцатого века. Огромное влияние его проповедей на родном языке и сила его лоллардов волновать души простого народа слишком хорошо известны исторически, чтобы нуждаться в повторении. Хотя он был университетским человеком и глубоким ученым, он встал на сторону Ленгленда, и его интересы были связаны с народом, а не с привилегированными классами, для которых писал Чосер. Его великая работа, которая принесла ему титул «отца английской прозы», — это перевод Библии. Сам Уиклиф перевел Евангелия и многое другое из Нового Завета; остальное было завершено его последователями, особенно Николасом Херефордским. Эти переводы были сделаны с латинской Вульгаты, а не с оригинального греческого и еврейского, и вся работа была пересмотрена в 1388 году Джоном Пурви, учеником Уиклифа. Невозможно переоценить влияние этой работы как на нашу английскую прозу, так и на жизнь английского народа.
Хотя труды Уиклифа теперь не читают, за исключением редких ученых, он все еще занимает очень высокое место в нашей литературе. Его перевод Библии медленно копировался по всей Англии, и таким образом был установлен национальный стандарт английской прозы, заменивший различные диалекты. Части этого перевода, в форме любимых отрывков из Писания, копировались тысячами, и впервые в нашей истории стандарт чистого английского языка был установлен в домах простых людей.
Чтобы дать представление о языке того времени, процитируем несколько знакомых предложений из Нагорной проповеди, как они приведены в более поздней версии Евангелия Уиклифа:
И Он открыл уста Свои, и учил их, и сказал: «Блаженны люди духом, ибо Царство Небесное есть здесь». Блаженны люди смиренные, ибо их школы обретают земную. Блаженны те, которые утром, ибо их школы обретают утешение. Блаженны те, которые жаждут и жаждут праведной мудрости, ибо их школы обретают исполнение. Блаженны люди милостивые, ибо их школы обретают милость. Блаженны те, которые чисты сердцем, ибо их школы обретают Бога. Блаженны люди скорбные, ибо их школы обретают ясность Божьи дети». Благословенны те, кто претерпевает преследования за свою правоту, ибо царство небесное — здесь. …
Скоро вы узнаете, что сказано было старейшинам: «Не оставь, но предай Господу иное». Но Я говорю вам, что вы ни в чем не клялись;… но да будет слово ваше, да, да; нет, нет; а что больше этого, то от вас.
Вы слышали, что было сказано: «Возлюби ближнего своего и ненавидь врага своего». Но я говорю вам: любите врагов ваших, будьте добры к ненавидящим вас и охотьтесь на преследующих и оскорбляющих вас; да будете вы сынами вашего Праведника, который на небесах, который заставляет свое солнце восходить над добрыми и добрыми людьми и покоится на праведных и неправедных... Поэтому будьте совершенны, как совершен ваш небесный Праведник.
ДЖОН МАНДЕВИЛЛЬ
================
Около 1356 года в Англии появилась необычная книга под названием «Путешествие и страдания сэра Джона Мондевиля», написанная в превосходном стиле на диалекте Мидленда, который тогда становился литературным языком Англии. В течение многих лет эта интересная работа и ее неизвестный автор были предметом бесконечных споров; но теперь совершенно очевидно, что этот сборник рассказов путешественников — просто компиляция из Одорика, Марко Поло и различных других источников. Оригинальная работа, вероятно, была на французском языке, который был быстро переведен на латынь, затем на английский и другие языки; и где бы она ни появлялась, она становилась чрезвычайно популярной, ее чудесные истории о чужих землях в точности соответствовали доверчивому духу эпохи. В настоящее время, как говорят, существует триста копий рукописей «Мандевилля» на разных языках — вероятно, больше, чем у любой другой работы, за исключением евангелий. В прологе английской версии автор называет себя Джоном Мондевилем и дает обзор своих обширных путешествий в течение тридцати лет; Однако название, скорее всего, «прикрытие», пролог более или менее поддельный, а настоящего составителя еще предстоит найти.
Современный читатель может провести час или два очень приятно в этой старой стране чудес. С литературной стороны книга замечательна, хотя и является переводом, как первое прозаическое произведение на современном английском языке, имеющее отчетливо литературный стиль и колорит. В остальном это весьма интересный комментарий к общей культуре и доверчивости четырнадцатого века.
РЕЗЮМЕ ЭПОХИ ЧОСЕРА.
====================
Четырнадцатый век исторически примечателен упадком феодализма (организованным норманнами), ростом английского национального духа во время войн с Францией, выдающимся положением Палаты общин и растущей властью трудящихся классов, которые до этого находились в состоянии, едва ли превосходящем рабство.
Век породил пять выдающихся писателей, один из которых, Джеффри Чосер, является одним из величайших английских писателей. Его поэзия замечательна своим разнообразием, интересным сюжетом и прекрасной мелодичностью. Творчество Чосера и перевод Библии Уиклифом превратили диалект Мидленда в национальный язык Англии.
В нашем исследовании мы отметили:
(1) Чосер, его жизнь и творчество; его ранний или французский период, в который он перевел «Роман о Розе» и написал много второстепенных поэм; его средний или итальянский период, из которых главными поэмами являются «Троил и Крессида» и «Легенда о добрых женщинах»; его поздний или английский период, в который он работал над своим шедевром, знаменитыми «Кентерберийскими рассказами».
(2) Ленгленд, поэт и пророк социальных реформ. Его главная работа — «Пахарь Пирс».
(3) Уиклиф, религиозный реформатор, который первым перевел Евангелия на английский язык и своим переводом установил общий стандарт английской речи.
(4) Мандевиль, предполагаемый путешественник, который представляет новый интерес англичан к далеким странам после развития внешней торговли. Он известен «Путешествиями Мандевиля», книгой, в которой повествуется о чудесах, которые можно увидеть за границей.
Пятым писателем эпохи является Гауэр, который писал на трех языках: французском, латыни и английском. Его главное английское произведение — Confessio Amantis, длинная поэма, содержащая сто двенадцать рассказов. Из них только «Рыцарь Флорент» и еще два-три интересны современному читателю.
ГЛАВА V
ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
=======================
(1400-1550)
ИСТОРИЯ ПЕРИОДА
===================
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
========================
Полтора столетия после смерти Чосера (1400-1550) являются самым вулканическим периодом английской истории. Страна охвачена огромными изменениями, неотделимыми от быстрого накопления национальной власти; но поскольку власть является самым опасным из даров, пока люди не научатся ее контролировать, эти изменения на первый взгляд кажутся не имеющими определенной цели или направления. Генрих V, чья беспорядочная, но энергичная жизнь, как ее изобразил Шекспир, была типичной для жизни его времени, сначала позволил Европе почувствовать мощь нового национального духа. Чтобы отвлечь этот растущий и неуправляемый дух от мятежа дома, Генрих повел свою армию за границу в, казалось бы, невозможной попытке получить для себя три вещи: французскую жену, французские доходы и саму французскую корону. Битва при Азенкуре произошла в 1415 году, а пять лет спустя, по Договору в Труа, Франция признала его право на все его возмутительные требования.
Бесполезность ужасной борьбы на французской земле доказывается быстротой, с которой были сметены все ее результаты. Когда Генрих умер в 1422 году, оставив своего сына наследником корон Франции и Англии, в Вестминстерском аббатстве была установлена ;;великолепная лежачая статуя с головой из чистого серебра в память о его победах. Серебряная голова была вскоре украдена, и эта потеря типична для всего, за что он боролся. Его сын, Генрих VI, был всего лишь тенью короля, марионеткой в ;;руках могущественных дворян, которые захватили власть в Англии и обратили ее к самоуничтожению. Тем временем все его иностранные владения были отвоеваны французами под магическим руководством Жанны д'Арк. Восстание Кэда (1450) и кровавые Войны роз (1455-1485) — это названия, показывающие, как энергия Англии яростно разрушала сама себя, словно огромный двигатель, потерявший свое колесо баланса. Затем последовало ужасное правление Ричарда III, которое, однако, имело то искупительное качество, что оно ознаменовало конец гражданских войн и самоуничтожение феодализма и сделало возможным новый рост английского национального чувства при популярной династии Тюдоров.
В период длительного правления Генриха VIII изменения были менее резкими, но имели больше цели и значения.
Его век отмечен устойчивым ростом национальной мощи дома и за рубежом, приходом Реформации «через боковую дверь» и окончательным отделением Англии от всех церковных уз в знаменитом парламентском Акте о супремати. В предыдущие царствования рыцарство и старая феодальная система были практически изгнаны; теперь монашество, третий средневековый институт с его смешанным злом и добром, получило свой смертельный удар в результате тотального подавления монастырей и удаления аббатов из Палаты лордов. Несмотря на злой характер короля и лицемерие провозглашения такого существа главой любой церкви или защитником любой веры, мы молчаливо соглашаемся с заявлением Стабба, что «мир обязан некоторыми из своих величайших долгов людям, от памяти которых мир отшатывается».
В то время как Англия в этот период находилась в постоянной политической борьбе, но медленно, подобно спиральному полету орла, поднималась к высотам национального величия, интеллектуально она продвигалась вперед с ошеломляющей быстротой. Книгопечатание было принесено в Англию Кэкстоном (ок. 1476 г.), и впервые в истории стало возможным, чтобы книга или идея достигли всей нации. Школы и университеты были основаны на месте старых монастырей; греческие идеи и греческая культура пришли в Англию в эпоху Возрождения, а духовная свобода человека была провозглашена в Реформацию. Великие имена этого периода многочисленны и значительны, но литература странно молчалива. Вероятно, сама суматоха века помешала любому литературному развитию, поскольку литература является одним из искусств мира; она требует тишины и размышления, а не деятельности, и волнующая жизнь Возрождения должна была сначала быть прожита, прежде чем она смогла выразить себя в новой литературе елизаветинского периода.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ.
======================
Возрождение обучения обозначает, в самом широком смысле, постепенное просветление человеческого разума после тьмы Средних веков. Названия Возрождение и Гуманизм, которые часто применяются к одному и тому же движению, на самом деле имеют более узкое значение. Термин Возрождение, хотя и используется многими писателями «для обозначения всего перехода от Средних веков к современному миру», более правильно применять к возрождению искусства, возникшему в результате открытия и подражания классическим образцам в четырнадцатом и пятнадцатом веках.
Гуманизм относится к возрождению классической литературы и был так назван ее лидерами, следуя примеру Петрарки, потому что они считали, что изучение классики, literae humaniores, — т. е. «более человеческих произведений», а не старой теологии, — было лучшим средством продвижения самых больших человеческих интересов. Мы используем термин Возрождение обучения, чтобы охватить все движение, суть которого, согласно Ламартину, заключалась в том, что «человек открыл себя и вселенную», а согласно Тэну, что человек, так долго ослепленный, «вдруг открыл глаза и увидел».
Мы поймем это лучше, если вспомним, что в Средние века весь мир человека состоял из узкого Средиземноморья и народов, которые теснились вокруг него; и что этот маленький мир казался ограниченным непреодолимыми барьерами, как если бы Бог сказал своим морякам: «До сих пор ты дойдешь, но не дальше». Ум человека также был ограничен теми же узкими линиями. Его культура, измеряемая великой дедуктивной системой схоластики, состояла не в открытии, а скорее в принятии определенных принципов и традиций, установленных божественным и церковным авторитетом как основа всей истины. Это были его Геркулесовы столпы, его умственные и духовные границы, которые он не должен был переходить, и внутри них, как ребенок, играющий с кубиками с буквами, он продолжал строить свою интеллектуальную систему. Только когда мы помним их ограничения, мы можем оценить героизм этих тружеников Средних веков, гигантов интеллекта, но играющих с детскими игрушками; невежественные в отношении законов и сил вселенной, но при этом обсуждающие сущность и движение ангелов; жаждущие знаний, но которым запрещено вступать в новые области в праве свободного исследования и радости индивидуального открытия.
Возрождение взволновало этих людей, как путешествия Да Гамы и Колумба взволновали моряков Средиземноморья. Сначала появились науки и изобретения арабов, медленно пробивающиеся сквозь предрассудки властей и открывающие людям глаза на неизведанные царства природы. Затем пришел поток греческой литературы, которую новое искусство книгопечатания быстро принесло в каждую школу Европы, открыв новый мир поэзии и философии.
Ученые толпами устремились в университеты, как авантюристы в новый мир Америки, и там старый авторитет получил смертельный удар. Только истина была авторитетом; искать истину повсюду, как люди искали новые земли, золото и фонтан молодости, — таков был новый дух, который пробудился в Европе с Возрождением Учения.
II.ЛИТЕРАТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ
=========================
Сто пятьдесят лет периода Возрождения были исключительно бедны хорошей литературой. Умы людей были слишком заняты религиозными и политическими изменениями и быстрым расширением умственного горизонта, чтобы найти время для того покоя и досуга, которые необходимы для литературных результатов. Возможно, также, потоки недавно открытых классических произведений, которые занимали как ученых, так и новые печатные станки, были по своей силе и изобилию обескураживающим фактором для местных талантов. Роджер Эшем (1515-1568), известный ученый-классик, опубликовавший в 1545 году книгу под названием «Токсофил» («Школа стрельбы»), выражает в своем предисловии, или «извинении», весьма распространенное недовольство пренебрежением к родной литературе, когда говорит: «А что касается латыни или греческого языка, то в них все сделано настолько превосходно, что никто не может сделать лучше. В английском языке, напротив, все так подло, как по содержанию, так и по обработке, что никто не может сделать хуже».
На континенте этот новый интерес к классике также послужил сдерживанию роста местных литератур. В Италии, особенно в течение целого столетия после блестящего века Данте и Петрарки, не было создано никакой великой литературы, и сам итальянский язык, казалось, пошел назад.[107] Правда в том, что эти великие писатели, как и Чосер, намного опередили свое время, и что средневековый ум был слишком узок, слишком скудно снабжен идеями, чтобы создать разнообразную литературу. Пятнадцатый век был веком подготовки, изучения начал науки и знакомства с великими идеалами — суровым законом, глубокой философией, наводящей на размышления мифологией и благородной поэзией греков и римлян. Так ум был снабжен идеями для новой литературы.
За исключением «Смерти Артура» Мэлори (которая по духу все еще средневекова), учащийся не найдет ничего интересного в литературе этого периода.
Мы приводим здесь краткий обзор людей и книг, наиболее «достойных упоминания»; но для того, чтобы познакомиться с подлинной литературой эпохи Возрождения, необходимо перейти на полтора столетия вперед, в эпоху Елизаветы.
Две величайшие книги, появившиеся в Англии в этот период, несомненно, являются «Похвала Глупости» (Encomium Moriae) Эразма и «Утопия» Мора, знаменитое «Королевство Нигде». Обе были написаны на латыни, но были быстро переведены на все европейские языки. «Похвала Глупости» подобна победной песне Нового Учения, которое изгнало порок, невежество и суеверие, трех врагов человечества. Она была опубликована в 1511 году после вступления на престол Генриха VIII. Глупость представлена ;;надевающей колпак и колокольчики и восходящей на кафедру, где порок и жестокость королей, эгоизм и невежество духовенства и глупые стандарты образования высмеиваются без жалости.
«Утопия» Мора, опубликованная в 1516 году, является мощным и оригинальным исследованием социальных условий, не похожим ни на что, когда-либо появлявшееся в литературе. В наши дни мы увидели его влияние в «Взгляде назад» Беллами, чрезвычайно успешной книге, которая недавно заставила людей задуматься о ненужной жестокости современных социальных условий. Мор узнает от моряка, одного из спутников Америго Веспуччи, о чудесном Королевстве Нигде, в котором все вопросы труда, управления, общества и религии легко решаются простой справедливостью и здравым смыслом. В этой «Утопии» мы впервые находим в качестве основ цивилизованного общества три великих слова: Свобода, Братство, Равенство, которые сохранили свое вдохновение во всем насилии Французской революции и которые до сих пор являются неосуществленным идеалом каждого свободного правительства. Когда он слышит об этой замечательной стране, Мор удивляется, почему после пятнадцати столетий христианства его собственная земля так мало цивилизована; и когда мы читаем эту книгу сегодня, мы задаем себе тот же вопрос. Великолепная мечта все еще далека от осуществления; однако кажется, что любая нация может стать Утопией за одно поколение, настолько просты и справедливы требования.
Более значительным влиянием на простых людей, чем любая из этих книг, оказался перевод Нового Завета, выполненный Тиндейлом (1525 г.), который установил стандарт хорошего английского языка и в то же время принес этот стандарт не только в среду ученых, но и в дома простых людей.
Тиндейл сделал свой перевод с греческого оригинала, а позже перевел части Ветхого Завета с еврейского. Большая часть работы Тиндейла была включена в Библию Кранмера, известную также как Великая Библия, в 1539 году и читалась в каждой приходской церкви Англии. Она стала основой для Авторизованной версии, которая появилась почти столетие спустя и стала стандартом для всей англоговорящей расы.
УАЙАТТ И СУРРЕЙ.
=================
В 1557 году появился, вероятно, первый печатный сборник разнородных английских стихотворений, известный как Сборник Тоттеля. Он содержал работы так называемых придворных творцов, или поэтов, которые до сих пор распространялись в рукописной форме для пользы двора. Около половины этих стихотворений были работами сэра Томаса Уайетта (1503?-1542) и Генри Говарда, графа Суррея (1517?-1547). Оба вместе писали любовные сонеты, смоделированные по образцу итальянских, представляя новую стихотворную форму, которая, хотя и очень трудная, с тех пор стала любимой у наших английских поэтов. Суррей известен не какой-либо особой ценностью или оригинальностью своих собственных стихотворений, а скорее своим переводом двух книг Вергилия «в странном размере». Странным размером был белый стих, который никогда ранее не появлялся на английском языке. Поэтому главная литературная работа этих двух людей состоит в том, чтобы ввести сонет и белый стих — один из самых изящных, другой — наиболее гибких и характерных форм английской поэзии, — которые в руках Шекспира и Мильтона были использованы для создания мировых шедевров.
СМЕРТЬ АРТУРА МЭЛОРИ.
=====================
Величайшим английским произведением этого периода, если судить по его влиянию на последующую литературу, несомненно, является СМЕРТЬ АРТУРА , сборник романов о короле Артуре, рассказанных простой и яркой прозой. О сэре Томасе Мэлори, авторе, Кэкстон в своем введении говорит, что он был рыцарем и завершил свой труд в 1470 году, за пятнадцать лет до того, как Кэкстон его напечатал. В записи добавляется, что «он был слугой Иисуса и днем, и ночью». Кроме этого мы мало что знаем, за исключением того, что можно вывести из самого великолепного произведения.
Мэлори группирует легенды вокруг центральной идеи поиска Святого Грааля.
По содержанию книга принадлежит к средневековью; но сам Мэлори, с его желанием сохранить литературные памятники прошлого, принадлежит к эпохе Возрождения; и он заслуживает нашей вечной благодарности за попытку сохранить легенды и поэзию Британии в то время, когда ученые были заняты в основном классикой Греции и Рима. Поскольку легенды о короле Артуре являются одним из великих повторяющихся мотивов английской литературы, творчество Мэлори должно быть более известным. Его истории могут и должны быть рассказаны каждому ребенку как часть его литературного наследия. Затем Мэлори можно читать из-за его стиля, его английской прозы и его выражения средневекового духа. А затем эти истории можно снова прочитать в «Идиллиях» Теннисона, чтобы показать, как эти изысканные старые фантазии обращаются к умам наших современных поэтов.
РЕЗЮМЕ ПЕРИОДА ВОЗРОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.
=======================================
Этот переходный период является сначала периодом упадка после Эпохи Чосера, а затем интеллектуальной подготовки к Эпохе Елизаветы. В течение полутора столетий после Чосера не появилось ни одного великого английское произведение, и общий уровень литературы был очень низким. Есть три основные причины, объясняющие это:
(1) длительная война с Францией и гражданские войны Алой и Белой розы отвлекли внимание от книг и поэзии и уничтожили или разорили многие знатные английские семьи, которые были друзьями и покровителями литературы;
(2) Реформация во второй половине периода наполнила умы людей религиозными вопросами;
(3) Возрождение обучения побудило ученых и литераторов к усердному изучению классики, а не к созданию родной литературы.
В историческом плане эта эпоха примечательна своим интеллектуальным прогрессом, появлением книгопечатания, открытием Америки, началом Реформации и ростом политической власти простых людей.
В нашем исследовании мы отметили:
(1) Возрождение Учения, что это было, и значение терминов Гуманизм и Возрождение;
(2) три влиятельных литературных произведения — «Похвала Глупости» Эразма, «Утопия» Мора и перевод Нового Завета Тиндейла;
(3) Уайетт и Суррей и так называемые куртуазные творцы или поэты;
(4) «Смерть Артура» Мэлори, сборник легенд о короле Артуре в английской прозе. Чудо и мистерии были самой популярной формой развлечения в эту эпоху; но мы оставили их для специального изучения в связи с Подъемом Драмы в следующей главе.
ГЛАВА VI
ЭПОХА ЕЛИЗАВЕТЫ (1550-1620)
=============================
ИСТОРИЯ ПЕРИОДА
=================
ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ.
====================
В эпоху Елизаветы все сомнения, кажется, исчезают из английской истории. После правления Эдуарда и Марии, с поражениями и унижениями за границей и преследованиями и мятежами дома, восшествие на престол популярного монарха было подобно восходу солнца после долгой ночи, и, по словам Мильтона, мы внезапно видим Англию, «благородную и могущественную нацию, пробуждающуюся, как сильный человек после сна, и потрясающую своими непобедимыми кудрями». С характером королевы, странным смешением легкомыслия и силы, которое напоминает железный истукан на глиняных ногах, нам вообще нечего делать. Именно национальная жизнь волнует литературного студента, поскольку даже новичок должен заметить, что любое большое развитие национальной жизни неизменно связано с развитием национальной литературы. Поэтому для нашей цели достаточно указать на два факта: что Елизавета, при всем ее тщеславии и непоследовательности, неизменно любила Англию и величие Англии; и что она вдохновляла весь свой народ безграничным патриотизмом, который ликует в Шекспире, и личной преданностью, которая находит голос в Королеве Фей. Под ее управлением английская национальная жизнь прогрессировала гигантскими скачками, а не медленным историческим процессом, и английская литература достигла самой высокой точки своего развития. Можно указать только несколько общих характеристик этого великого века, которые имели прямое отношение к его литературе.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛИЗАВЕТИАНСКОГО ВЕКА.
=====================================
Наиболее характерной чертой века была сравнительная религиозная терпимость, которая была обусловлена ;;в основном влиянием королевы. Ужасающие эксцессы религиозной войны, известной как Тридцатилетняя война на континенте, не нашли себе равных в Англии. После своего восшествия на престол Елизавета обнаружила, что все королевство разделено между собой; Север был в основном католическим, в то время как южные графства были столь же сильно протестантскими. Шотландия следовала Реформации своим собственным интенсивным путем, в то время как Ирландия оставалась верна своим старым религиозным традициям, и обе страны были открыто мятежными. Двор, состоящий из обеих партий, был свидетелем соперничающих интриг тех, кто стремился получить королевскую милость. Частично из-за интенсивного поглощения умов людей религиозными вопросами предыдущее столетие, хотя и было веком прогрессирующего обучения, едва ли произвело какую-либо литературу, достойную этого названия. Елизавета благоволила обеим религиозным партиям, и вскоре мир с изумлением увидел, как католики и протестанты действуют вместе как доверенные советники великого государя. Поражение испанской Армады утвердило Реформацию как факт в Англии и в то же время объединило всех англичан в великолепном национальном энтузиазме. Впервые с начала Реформации фундаментальный вопрос религиозной терпимости, казалось, был решен, и разум человека, освобожденный от религиозных страхов и преследований, обратился с большим творческим импульсом к другим формам деятельности. Отчасти именно из этой новой свободы разума Век Елизаветы получил свой великий литературный стимул.
2.
Это был век сравнительного социального удовлетворения, в резком контрасте с днями Ленгленда. Быстрый рост промышленных городов дал работу тысячам людей, которые до этого были праздны и недовольны. Растущая торговля принесла огромное богатство Англии, и это богатство было разделено в той степени, по крайней мере, что впервые была предпринята попытка какой-то систематической заботы о нуждающихся. Приходы были сделаны ответственными за своих собственных бедных, а богатые были обложены налогом, чтобы содержать их или предоставить им работу. Рост благосостояния, улучшение жизни, возможности для труда, новое социальное содержание — все это также факторы, помогающие объяснить новую литературную деятельность.
3.
3. Это век мечтаний, приключений, безграничного энтузиазма, берущего начало в новых землях сказочных богатств, открытых английскими исследователями. Дрейк плавает вокруг света, формируя могучий курс, которому английские колонизаторы будут следовать на протяжении столетий; и в настоящее время молодой философ Бэкон уверенно говорит: «Я взял все знания для своей провинции». Ум должен искать дальше, чем глаз; с новыми, богатыми землями, открытыми для взора, воображение должно создавать новые формы для населения новых миров. Знаменитые «Собрание путешествий» Хаклуйта и «Пурчас, его паломничество» были даже более стимулирующими для английского воображения, чем для английской стяжательности. Пока ее исследователи ищут в новом мире Источник молодости, ее поэты создают литературные произведения, которые вечно молоды. Марстон пишет:[114] «Да ведь все их поддоны для сбора капель — чистое золото. Захваченные ими пленники закованы в золото; а что касается рубинов и алмазов, то они выходят на берег моря по праздникам и собирают их, чтобы повесить на пальто своих детей». Это больше похоже на описание поэзии Шекспира, чем на описание индейцев в Вирджинии. Просперо в «Буре», с его контролем над могущественными силами и гармонией природы, — это всего лишь литературная мечта той науки, которая только что начала бороться с силами вселенной. Кэбот, Дрейк, Фробишер, Гилберт, Рэли, Уиллоуби, Хокинс — десяток исследователей открывают человеческим глазам новую землю, и литература мгновенно создает новые небеса, соответствующие ей.
Так мечты и деяния растут бок о бок, и мечта все больше превосходит деяние.
В этом смысл литературы.
4.
Подводя итог, можно сказать, что эпоха Елизаветы была временем интеллектуальной свободы, растущего интеллекта и комфорта среди всех классов, безграничного патриотизма и мира дома и за рубежом. Для параллели мы должны вернуться к эпохе Перикла в Афинах или Августа в Риме, или немного продвинуться вперед к великолепному двору Людовика XIV, когда Корнель, Расин и Мольер довели драму во Франции до того уровня, на котором Марло, Шекспир и Джонсон оставили ее в Англии на полвека раньше. Такая эпоха великой мысли и великого действия, апеллирующая как к глазам, так и к воображению и интеллекту, находит лишь одно адекватное литературное выражение; ни поэзия, ни история не могут выразить всего человека — его мысли, чувства, действия и вытекающий из этого характер; поэтому в эпоху Елизаветы литература инстинктивно обратилась к драме и быстро довела ее до высшей стадии своего развития.
II.
НЕДРАМАТИЧЕСКИЕ ПОЭТЫ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО ВЕКА
==========================================
ЭДМУНД СПЕНСЕР
==============
(1552-1599)
(Кадди):
«Пирс, я так долго играл на свирели с болью,
Что все мои овсяные трости были порваны и изношены,
И моя бедная Муза растратила свои сэкономленные запасы,
Но мало добра получила, и еще меньше пользы.
Такое удовольствие делает кузнечика таким бедным,
И таким лежащим, когда зима напрягает его.
Я не буду придумывать щегольские песенки,
Чтобы накормить фантазию юности и стайку мальков
Сколько света — на что я поставлю пари?
Они — удовольствие, я — скудный приз:
Я бью по кустам, и птицы к ним летят:
Какая польза может возникнуть от этого для Кадди?
(Пирс):
Кадди, похвала лучше цены,
Слава гораздо больше выгоды:…"
Пастуший календарь, октябрь
В этих словах, с их печальным намеком на Деора, Спенсер раскрывает свое собственное сердце, возможно, неосознанно, как ни один биограф не смог бы сделать этого. Его жизнь и творчество, кажется, сосредоточены вокруг трех великих влияний, суммированных в трех названиях: Кембридж, где он познакомился с классиками и итальянскими поэтами; Лондон, где он испытал гламур и разочарование придворной жизни; и Ирландия, которая погрузила его в красоту и образность старой кельтской поэзии и впервые дала ему досуг, чтобы написать свой шедевр.
ЖИЗНЬ.
=====
О ранней жизни и происхождении Спенсера мы мало что знаем, кроме того, что он родился в Ист-Смитфилде, недалеко от Тауэра, и был беден. Его образование началось в Школе купцов-портных в Лондоне и продолжилось в Кембридже, где он, будучи бедным стипендиатом и тяжело работал для богатых студентов, зарабатывал скудное существование. Здесь, в славном мире, который только бедный ученый умеет создавать для себя, он читал классиков, знакомился с великими итальянскими поэтами и писал бесчисленные собственные маленькие поэмы. Хотя Чосер был его любимым учителем, его амбициями было не соперничество с Кентерберийскими рассказами, а скорее выражение мечты об английском рыцарстве, во многом как Ариосто сделал для Италии в «Неистовом Роланде».
Покинув Кембридж (1576), Спенсер отправился на север Англии, на какую-то неизвестную работу или поиски. Здесь его главным занятием было влюбиться и записать свою меланхолию по потерянной Розалинд в Пастушьем календаре. По совету своего друга Харви он приехал в Лондон, привезя свои стихи; и здесь он встретил Лестера, тогда находившегося на пике королевской милости, и последний взял его жить в Лестер-хаус. Здесь он закончил Пастуший календарь, и здесь он встретил Сидни и всех фаворитов королевы. Двор был полон интриг, лжи и лести, и мнение Спенсера о его собственном неудобном положении лучше всего выражено в нескольких строках из «Рассказа матери Хаббард»:
Мало ли ты знаешь, что не пробовал,
Какой это ад, долго ждать:
Терять хорошие дни, которые можно было бы провести с большей пользой;
Тратить долгие ночи в задумчивом недовольстве;
Терзать душу свою крестами и заботами;
Точить сердце свое безутешными отчаяниями;
Подлизываться, приседать, ждать, скакать, бежать,
Тратить, давать, хотеть, погибать.
В 1580 году, благодаря влиянию Лестера, Спенсер, который был совершенно измотан своим зависимым положением, был назначен секретарем лорда Грея, заместителя королевы в Ирландии, и начался третий период его жизни. Он сопровождал своего начальника в одной кампании дикой жестокости по подавлению ирландского восстания и получил огромное поместье с замком Килколман в Манстере, которое было конфисковано у графа Десмонда, одного из ирландских лидеров. Свою жизнь здесь, где согласно условиям его гранта он должен был проживать как английский поселенец, он считал одиноким изгнанием:
Мой несчастный жребий,
Который изгнал меня, как покинутого упыря,
В ту пустыню, где я был совершенно забыт.
Интересно отметить здесь мягкий поэтический взгляд на «несчастный остров». После почти шестнадцатилетнего проживания он написал «Взгляд на состояние Ирландии» (1596),свое единственное прозаическое произведение, в котором он представляет план «умиротворения угнетенного и мятежного народа». Он заключался в том, чтобы ввести в страну огромные силы кавалерии и пехоты, дать ирландцам короткое время подчиниться, а затем преследовать их, как диких зверей.
Он рассчитал, что холод, голод и болезни помогут делу меча, и что после того, как мятежников будут преследовать в течение двух зим, следующим летом страна будет мирной. Этот план поэта гармонии и красоты был несколько мягче, чем обычное обращение с храбрым народом, чьей обидой была любовь к свободе и религии. Как ни странно, «Взгляд» считался самым государственным и был отлично принят в Англии.
В Килколмане, в окружении прекрасной природы, Спенсер закончил первые три книги «Королевы фей». В 1589 году его посетил Рэли, с энтузиазмом выслушал поэму, поторопил поэта в Лондон и представил его Элизабет. Первые три книги имели мгновенный успех после публикации и были признаны величайшим произведением на английском языке. Ежегодная пенсия в пятьдесят фунтов была назначена ему Элизабет, но выплачивалась редко, и поэт вернулся в изгнание, то есть снова в Ирландию.
Вскоре после возвращения Спенсер влюбился в свою прекрасную Элизабет, ирландскую девушку; написал свои Amoretti, или сонеты, в ее честь; и впоследствии представил ее в Faery Queen как прекрасную женщину, танцующую среди граций. В 1594 году он женился на Элизабет, отпраздновав свою свадьбу своим "Epithalamion", одним из самых красивых свадебных гимнов на любом языке.
Следующий визит Спенсера в Лондон состоялся в 1595 году, когда он опубликовал «Астрофель», элегию на смерть своего друга Сиднея, и еще три книги «Королевы фей». Во время этого визита он снова жил в Лестер-хаусе, который теперь занимал новый фаворит Эссекс, где он, вероятно, встретил Шекспира и других литературных светил елизаветинской эпохи. Вскоре после возвращения в Ирландию Спенсер был назначен шерифом Корка, странная должность для поэта, которая, вероятно, и привела к его краху. В том же году в Манстере вспыхнуло восстание Тирона. Килколман, древний дом Десмонда, был одним из первых мест, атакованных мятежниками, и Спенсер едва спасся с женой и двумя детьми. Предполагается, что некоторые незаконченные части «Королевы фей» были сожжены в замке.
От потрясения, вызванного этим ужасным событием, Спенсер так и не оправился.
Он вернулся в Англию убитым горем, и в следующем году (1599) умер в гостинице в Вестминстере. По словам Бена Джонсона, он умер «от недостатка хлеба»; но было ли это поэтическим способом сказать, что он потерял свое имущество, или он действительно умер от нищеты, вероятно, никогда не узнаем. Он был похоронен рядом со своим учителем Чосером в Вестминстерском аббатстве, поэты того времени толпами стекались на его похороны и, по словам Кэмдена, «бросали свои элегии и перья, которые их написали, в его могилу».
ПРОИЗВЕДЕНИЯ СПЕНСЕРА.
=====================
«Королева фей» — великое произведение, на котором в основном и покоится слава поэта. Первоначальный план поэмы включал двадцать четыре книги, каждая из которых должна была повествовать о приключениях и триумфе рыцаря, олицетворяющего моральную добродетель. Цель Спенсера, как указано в письме к Рэли, предваряющем поэму, заключается в следующем:
Создать в Артуре, до того как он стал королем, образ храброго рыцаря, усовершенствованного в двенадцати личных нравственных добродетелях, как это изобрел Аристотель; это и есть цель этих первых двенадцати книг; если я найду их хорошо принятыми, то, быть может, меня вдохновит составить другую часть «Полных добродетелей» в его лице после того, как он стал королем.
Каждая из Добродетелей предстает в образе рыцаря, сражающегося с противостоящим ему Пороком, и поэма рассказывает историю конфликтов. Поэтому она чисто аллегорична не только в своих персонифицированных добродетелях, но и в своем представлении жизни как борьбы добра и зла. В своем сильном моральном элементе поэма радикально отличается от «Неистового Роланда», по образцу которого она была написана. Спенсер завершил только шесть книг, прославляя Святость, Умеренность, Целомудрие, Дружбу, Справедливость и Учтивость. У нас также есть фрагмент седьмой, посвященный Постоянству; но остальная часть этой книги не была написана или же сгорела в пожаре в Килколмане. Первые три книги, безусловно, лучшие; и судя по тому, как интерес угасает, а аллегория становится непонятной, возможно, для репутации Спенсера хорошо, что остальные восемнадцать книг остались мечтой.
АРГУМЕНТ КОРОЛЕВЫ ФЕЙ.
======================
Из вступительного письма мы узнаем, что герой посещает двор королевы в Стране Фей, когда она устраивает двенадцатидневный фестиваль.
Каждый день неожиданно появляется какой-нибудь несчастный человек, рассказывает горестную историю о драконах, волшебницах или о несчастной красоте или добродетели и просит найти защитника, который исправит несправедливость и отпустит угнетенных на свободу. Иногда рыцарь добровольно или умоляет об опасной миссии; снова обязанность назначается королевой; и путешествия и приключения этих рыцарей являются темами нескольких книг. Первая повествует о приключениях рыцаря Красного Креста, представляющего Святость, и леди Уны, представляющей Религию. Их состязания символизируют всемирную борьбу между добродетелью и верой, с одной стороны, и грехом и ересью, с другой. Вторая книга рассказывает историю сэра Гийона, или Умеренности; третья — о Бритомартис, представляющей Целомудрие; четвертая, пятая и шестая — о Камбеле и Триамонде (Дружбе), Артегалле (Справедливости) и сэре Калидоре (Вежливости). План Спенсера был очень гибким, и он заполнил меру своего повествования всем, что ему нравилось, — историческими событиями и персонажами под аллегорическими масками, прекрасными дамами, благородными рыцарями, великанами, монстрами, драконами, сиренами, чародеями и приключениями, которых хватило бы, чтобы наполнить библиотеку художественной литературы. Если вы читали Гомера или Вергилия, вы узнаете его тему в первой же сильной строке; если вы читали «Парафраз» Кэдмона или эпос Мильтона, введение даст вам тему; но великая поэма Спенсера — за исключением одной строки в прологе, «Жестокие войны и верная любовь должны морализировать мою песнь» — едва ли дает намек на то, что грядет.
Что касается смысла аллегорических фигур, то обычно возникают сомнения. В первых трех книгах призрачная Королева Фей иногда представляет славу Божию, а иногда — Элизабет, которой, естественно, льстила эта параллель. Бритомартис — это также Элизабет. Рыцарь Красного Креста — это Сидни, образцовый англичанин. Артур, который всегда появляется, чтобы спасти угнетенных, — это Лестер, что является еще одной возмутительной лестью. Уна иногда представляет собой религию, а иногда — протестантскую церковь; в то время как Дуэсса представляет Марию Стюарт, королеву Шотландии, или общий католицизм. В последних трех книгах Элизабет снова появляется как Мерцилла; Генрих IV Французский — как Бурбон; война в Нидерландах — как история леди Бельге; Рэли — как Тимиас; графы Нортумберленд и Уэстморленд (любовники Марии или Дуэссы) — как Бландамур и Париделл; и так далее через широкий спектр современных персонажей и событий, пока аллегория не становится столь же трудной для понимания, как вторая часть «Фауста» Гете.
ПОЭТИЧЕСКАЯ ФОРМА.
==================
Для Королевы Фей Спенсер изобрел новую стихотворную форму, которая с его дней называется спенсеровской строфой. Из-за своей редкой красоты она часто использовалась почти всеми нашими поэтами в их лучших работах. Новая строфа была улучшенной формой ottava rima Ариосто (т. е. восьмистрочной строфы) и имеет близкое сходство с одной из самых музыкальных стихотворных форм Чосера в «Рассказе монаха». Строфа Спенсера состоит из девяти строк, восемь из которых по пять стоп, а последняя — из шести стоп, rimingababbcbcc. Несколько отрывков из первой книги, которые лучше всего прочесть, воспроизведены здесь, чтобы показать стиль и мелодию стиха.
Нежный рыцарь кололся на равнине,
Икладд [в могучих руках и серебряном щите,
Где старые вмятины глубоких ран остались
Жестокие знаки многих кровавых полей;
Но до того времени он никогда не держал в руках оружия:
Его разъяренный конь бранил свои надвигающийся удила,
С таким презрением отступая к уздечке:
Он казался полным рыцарем, и прекрасно сидел,
Как тот, кто подходит для рыцарских подвигов [и жестоких схваток].
А на груди своей он носил кровавый крест,
Дорогую память о своем умирающем господине,
Ради которого он носил этот славный знак,
И мертвым, как и живым, его почитали:
На его щите также было выжжено подобное,
За суверенную надежду, которую он имел в своей помощи,
Правдивым и верным он был в деле и слове;
Но его веселье казалось слишком торжественным и печальным;
Но он ничего не боялся, но всегда был рад.
Этот сонный отрывок из жилища Морфея приглашает нас задержаться:
И, чтобы еще больше убаюкать его в его мягком сне,
Струящийся ручей с высокой скалы, падающий вниз,
И вечно моросящий дождь на чердаке,
Смешанный с журчащим ветром, очень похожим на сеяние
Роящихся пчел, бросил его в сон.
Никакого другого шума, ни тревожных криков людей,
Как это до сих пор не тревожит обнесенный стеной город,
Не могли бы быть услышаны: кроме беспечной тихой лжи,
Окутанной вечной тишиной вдали от врагов.
Описание Уны демонстрирует чувство идеальной красоты поэта:
Однажды, почти устав от утомительного пути,
Она сошла со своего неторопливого коня;
И на траве легли ее изящные члены
В тайной тени, вдали от людских взоров;
С ее прекрасной головы она сняла свою повязку
И отложила свою накидку в сторону; Ее ангельское лицо,
Как великое око небес, ярко сияло,
И создало солнечный свет в тенистом месте;
Никогда смертный глаз не видел такой небесной благодати.
Случилось так, что из самого густого леса
Внезапно выскочил неистовый лев,
Охотясь с жадностью на спасительную кровь:
Как только он увидел королевскую Деву,
С разинутым ртом жадно бросился на нее,
Чтобы сразу пожрать ее нежное тело:
Но к молитве, когда он вытащил больше крови,
Его кровавая ярость разгорелась с раскаянием,
И, изумленный видом, он забыл свою яростную силу.
Вместо этого он поцеловал ее усталые ноги,
И лизал ее лиловые руки подобострастными щипцами;
Когда он пил ее оскорбленную невинность.
О, как может красота повелительница самого сильного,
И простая истина смирить мстительную несправедливость!
МАЛЕНЬКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ.
========================
После его шедевра «Пастуший календарь» (1579) является наиболее известным из стихотворений Спенсера; хотя, как его первое произведение, оно уступает многим другим по мелодичности. Оно состоит из двенадцати пасторальных стихотворений, или эклог, по одному на каждый месяц года. Темы, как правило, сельская жизнь, природа, любовь в полях; а говорящие — пастухи и пастушки. Чтобы усилить деревенский эффект, Спенсер использует странные формы речи и устаревшие слова, до такой степени, что Джонсон жаловался, что его произведения не являются английскими или какими-либо другими языками. Некоторые из них — меланхоличные стихотворения о его потерянной Розалинде; некоторые — сатиры на духовенство; одно, «Шиповник и дуб», — аллегория; одно льстит Элизабет, а другие — чистые басни, тронутые пуританским духом. Они написаны в разных стилях и размерах и ясно показывают, что Спенсер практиковался и готовился к более великой работе.
Другие заслуживающие внимания стихотворения: «Рассказ матери Хаббард», сатира на общество; «Астрофель», элегия на смерть Сиднея; Аморетти, или сонеты, его Элизабет; брачный гимн «Эпиталамия» и четыре «Гимна» о Любви, Красоте, Небесной Любви и Небесной Красоте. Существует множество других стихотворений и сборников стихотворений, но эти показывают масштаб его работы и лучше всего заслуживают прочтения.
ЗНАЧЕНИЕ КАЛЕНДАРЯ ПАСТУХА.
===========================
Публикация этого произведения в 1579 году неизвестным писателем, скромно подписавшимся «Immerito», знаменует собой важную эпоху в нашей литературе. Мы лучше оценим это, если вспомним долгие годы, в течение которых Англия была без великого поэта. Чосера и Спенсера часто изучают вместе как поэтов эпохи Возрождения, и преобладает идея, что они были почти современниками. Фактически, прошло почти два столетия после смерти Чосера — годы огромного политического и интеллектуального развития, — и не только у Чосера не было преемника, но и наш язык изменился так быстро, что англичане утратили способность правильно читать его строки.[125]
Это первое опубликованное произведение Спенсера примечательно по крайней мере в четырех отношениях: во-первых, оно знаменует собой появление первого национального поэта за два столетия; во-вторых, оно вновь демонстрирует разнообразие и мелодичность английского стиха, которые во многом стали традицией со времен Чосера; в-третьих, это была наша первая пастораль, начало длинной серии английских пасторальных композиций, созданных по образцу Спенсера, и как таковые оказали сильное влияние на последующую литературу; и, в-четвертых, оно знаменует собой реальное начало всплеска великой елизаветинской поэзии.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЭЗИИ СПЕНСЕРА.
================================
Пять основных качеств поэзии Спенсера: (1) совершенная мелодия; (2) редкое чувство прекрасного; (3) великолепное воображение, которое могло собрать в одной поэме героев, рыцарей, дам, гномов, демонов и драконов, классическую мифологию, истории о рыцарстве и многочисленные идеалы Возрождения, — все это проходит в великолепной процессии по вечно меняющемуся и вечно прекрасному ландшафту; (4) высокая моральная чистота и серьезность; (5) тонкий идеализм, который мог сделать всю природу и каждую обычную вещь прекрасной.
В противовес этим превосходным качествам читатель, вероятно, отметит странный вид его строк из-за его любви к устаревшим словам, таким как eyne (глаза) и shend (стыд), а также его склонности придумывать другие, например, mercify (милосердие), для достижения своих целей.
Именно идеализм Спенсера, его любовь к красоте и его изысканная мелодия сделали его известным как «поэт поэтов». Почти все наши последующие певцы признают свое восхищение им и свою признательность. Маколей единственный из критиков говорит об ошибке, которую все, кто не являются поэтами, быстро чувствуют, а именно, что при всех превосходствах Спенсера, его трудно читать. Современный человек теряется в запутанной аллегории Королевы Фей, пропускает все, кроме отмеченных отрывков, и мягко закрывает книгу в легкой усталости. Даже лучшие из его длинных стихотворений, хотя и изысканно выполненные и восхитительно мелодичные, обычно не могут удержать внимание читателя. Движение вялое; в нем мало драматического интереса, и только намек на юмор. Сама мелодия его стихов иногда становится монотонной, как вальс Штрауса, который слишком долго продолжается. Мы сможем лучше всего оценить Спенсера, прочитав сначала лишь несколько тщательно подобранных отрывков из «Королевы фей» и «Пастушьего календаря», а также несколько небольших стихотворений, демонстрирующих его замечательную мелодичность.
СРАВНЕНИЕ ЧОСЕРА И СПЕНСЕРА.
=============================
Для начала следует помнить, что, хотя Спенсер считал Чосера своим учителем, между ними два столетия, и что их произведения не имеют почти ничего общего. Мы лучше оценим это, кратко сравнив наших первых двух современных поэтов.
Чосер был одновременно поэтом и деловым человеком, причем последнее преобладало. Хотя он в основном имел дело с древним или средневековым материалом, у него был любопытно современный взгляд на жизнь. Действительно, он наш единственный автор, предшествовавший Шекспиру, с которым мы чувствуем себя совершенно как дома. Он отбросил в сторону устаревший метрический роман, который был практически единственной формой повествования в его время, изобрел искусство повествования в стихах и довел его до степени совершенства, которая, вероятно, никогда не была достигнута с тех пор. Хотя он был учеником классики, он жил полностью в настоящем, изучал мужчин и женщин своего времени, рисовал их такими, какими они были, но всегда добавлял немного доброго юмора или романтики, чтобы сделать их более интересными.
Так что его миссия, по-видимому, заключается просто в том, чтобы развлекать себя и своих читателей. Его мастерство в разнообразных и мелодичных стихах было изумительным и никогда не было превзойдено в нашем языке; но английский язык его времени быстро менялся, и за несколько лет люди не смогли оценить его искусство, так что даже Спенсеру и Драйдену, например, он казался недостаточным в метрическом мастерстве. По этой причине его влияние на нашу литературу было гораздо меньшим, чем мы могли бы ожидать от качества его работы и от его положения как одного из величайших английских поэтов.
Так что его миссия, по-видимому, заключается просто в том, чтобы развлекать себя и своих читателей. Его мастерство в разнообразных и мелодичных стихах было изумительным и никогда не было превзойдено в нашем языке; но английский язык его времени быстро менялся, и за несколько лет люди не смогли оценить его искусство, так что даже Спенсеру и Драйдену, например, он казался недостаточным в метрическом мастерстве. По этой причине его влияние на нашу литературу было гораздо меньшим, чем мы могли бы ожидать от качества его работы и от его положения как одного из величайших английских поэтов.
Как и Чосер, Спенсер был занятым человеком дел, но в нем всегда преобладает поэт и ученый. Он пишет как идеалист, описывая людей не такими, какие они есть, а такими, какими, по его мнению, они должны быть; у него нет чувства юмора, и его миссия — не развлекать, а реформировать. Как и Чосер, он изучает классиков и современных французских и итальянских писателей; но вместо того, чтобы адаптировать свой материал к современным условиям, он делает поэзию, как, например, в своих «Эклогах», более искусственной, чем его иностранные образцы. Там, где Чосер оглядывается вокруг и описывает жизнь такой, какой он ее видит, Спенсер всегда оглядывается назад в поисках вдохновения; он мечтательно живет в прошлом, в сфере чисто воображаемых эмоций и приключений. Его первое качество — воображение, а не наблюдение, и он первый из наших поэтов, создавший мир грез, фантазий и иллюзий. Его второе качество — удивительная чувствительность к красоте, которая проявляется не только в его предмете, но и в манере его поэзии. Подобно Чосеру, он почти идеальный мастер; но, читая Чосера, мы думаем главным образом о его природных характерах или его идеях, тогда как, читая Спенсера, мы думаем о красоте выражения. Изысканная спенсеровская строфа и богатая мелодия стихов Спенсера сделали его образцом для всех наших современных поэтов.
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПОЭТЫ
=====================
Хотя Спенсер — единственный великий недраматический поэт елизаветинской эпохи, множество второстепенных поэтов требуют внимания ученика, который хотел бы понять колоссальную литературную активность этого периода. Достаточно прочитать «Рай Дейнти Девайс» (1576) или «Великолепную галерею галантных изобретений» (1578) или любой другой из разнообразных сборников, чтобы найти сотни песен, многие из которых являются изысканным произведением, написанных поэтами, чьи имена теперь не вызывают никакого отклика. Достаточно одного взгляда, чтобы убедиться, что по всей Англии «поднялся сладкий дух песни, как первое щебетание птиц после шторма». За короткий период с 1558 по 1625 год записано около двухсот поэтов, и многие из них были плодовитыми писателями. В работе, подобной этой, мы едва ли можем сделать больше, чем упомянуть нескольких самых известных писателей и уделить хотя бы мгновение произведениям, которые напоминают описание Марло «бесконечных богатств в маленькой комнате». Читатель сам отметит интересное сочетание действия и мысли у этих людей, столь характерное для елизаветинской эпохи; ведь большинство из них были заняты в основном бизнесом, войной или политикой, а литература была для них скорее приятным развлечением, чем увлекательной профессией.
ТОМАС САКВИЛЛЬ (1536-1608).
===========================
Сэр Томас Саквилл, граф Дорсет и лорд-казначей Англии, обычно причисляется вместе с Уайеттом и Сурреем к предшественникам елизаветинской эпохи. Подражая «Аду» Данте, Саквилл создал проект великой поэмы под названием «Зеркало для магистратов». Под руководством аллегорического персонажа по имени Сорроу он встречается с духами всех важных действующих лиц английской истории. Идея состояла в том, чтобы следовать «Падению принцев» Лидгейта и позволить каждому персонажу рассказать свою собственную историю; так что поэма станет зеркалом, в котором нынешние правители смогут увидеть себя и прочитать это предупреждение: «Кто безрассудно правит правильно, вскоре может надеяться пожалеть». Саквилл закончил только «Введение» и «Жалобу герцога Бекингема». Они написаны римским королевским шрифтом и отмечены сильным поэтическим чувством и экспрессией. К сожалению, Сэквилл обратился от поэзии к политике, и поэму продолжили два менее известных поэта — Уильям Болдуин и Джордж Феррерс.
Сэквилл также написал в связи с Томасом Нортоном первую английскую трагедию «Феррекс и Поррекс», также называемую «Горбодук», которая будет рассмотрена в следующем разделе, посвященном расцвету драмы.
ФИЛИПП СИДНИ (1554-1586).
=========================
Сидни, идеальный джентльмен, сэр Калидор из «Легенды о вежливости» Спенсера, гораздо интереснее как человек, чем как писатель, и ученикам рекомендуется читать его биографию, а не его книги. Его жизнь лучше, чем любое отдельное литературное произведение, выражает два идеала эпохи — личную честь и национальное величие.
Как писатель он известен тремя основными работами, все из которых были опубликованы после его смерти, показывая, как мало значения он придавал собственному творчеству, даже когда он поощрял Спенсера. «Аркадия» — пасторальный роман, перемежаемый эклогами, в котором пастухи и пастушки воспевают прелести сельской жизни. Хотя работа была воспринята праздно как летнее времяпрепровождение, она стала чрезвычайно популярной и была подражаема сотням поэтов. «Апология поэзии» (1595), обычно называемая «Защита поэзии», появилась в ответ на памфлет Стивена Госсона под названием «Школа злоупотреблений» (1579), в котором поэзия того времени и ее необузданное удовольствие были осуждены с пуританской основательностью и убежденностью. «Апология» — одно из первых критических эссе на английском языке; и хотя его стиль теперь кажется вымученным и неестественным, — пагубный результат Эвфуэса и его школы, — он по-прежнему является одним из лучших выражений места и смысла поэзии на любом языке. Astrophel and Stella — это сборник песен и сонетов, адресованных леди Пенелопе Деверё, с которой Сидни когда-то был помолвлен. Они изобилуют изысканными строками и отрывками, содержащими больше поэтического чувства и выражения, чем песни любого другого второстепенного писателя того времени.
ДЖОРДЖ ЧЭПМЕН (1559?-1634).
==========================
Чэпмен провел свою долгую, тихую жизнь среди драматургов и писал в основном для сцены. Его пьесы, которые по большей части были просто поэмами в диалогах, были намного ниже высокого драматургического стандарта его времени и теперь почти не читаются. Его самые известные работы - метрический перевод «Илиады» (1611) и «Одиссеи» (1614). «Гомер» Чэпмена, хотя и лишен простоты и величия оригинала, обладает силой и быстротой движения, что делает его во многих отношениях превосходящим более известный перевод Поупа.
Чепмен также запомнился как завершитель поэмы Марло «Герой и Леандр», в которой, помимо драмы, движение Возрождения, возможно, представлено в своей высшей точке в английской поэзии. Из десятков длинных поэм того периода «Герой и Леандр» и «Королева фей» — единственные две, которые хотя бы немного известны современным читателям.
МАЙКЛ ДРЕЙТОН (1563-1631).
==========================
Дрейтон — самый объемный и, по крайней мере для любителей древностей, самый интересный из второстепенных поэтов. Он — Лайамон елизаветинского века, и гораздо более учёный, чем его предшественник. Его главная работа — «Полиольбион», огромная поэма из многих тысяч двустиший, описывающая города, горы и реки Британии, с интересными легендами, связанными с каждым из них. Это чрезвычайно ценная работа, представляющая собой целую жизнь изучения и исследования. Два других больших произведения — «Войны баронов» и «Героическое послание Англии»; и кроме них было много второстепенных поэм. Одна из лучших из них — «Битва при Азенкуре», баллада, написанная в живом размере, который Теннисон использовал с некоторыми вариациями в «Атаке лёгкой бригады», и которая показывает старую английскую любовь к храбрым подвигам и песням, которые волнуют сердца людей в память о благородных предках.
III. ПЕРВЫЕ АНГЛИЙСКИЕ ДРАМАТУРГИ
=================================
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДРАМЫ.
====================
Сначала поступок, затем история, затем пьеса; это, по-видимому, естественное развитие драмы в ее простейшей форме. Великие деяния народа хранятся в его литературе, и последующие поколения представляют в игре или пантомиме определенные части истории, которые наиболее сильно апеллируют к воображению. Среди примитивных рас деяния их богов и героев часто представляются на ежегодных празднествах; и среди детей, чьи инстинкты еще не притуплены искусственными привычками, можно увидеть, как история, услышанная перед сном, повторяется на следующий день в энергичном действии, когда наши мальчики превращаются в разведчиков, а наши девочки в принцесс, точно так же, как наши первые драматурги обратились к старым легендам и героям Британии для своих первых сценических постановок. Играть роль кажется человечеству таким же естественным, как рассказывать историю; и изначально драма - это всего лишь старая история, пересказанная глазу, история, приведенная в действие живыми исполнителями, которые на мгновение «притворяются» или воображают себя старыми героями.
Проще говоря, была великая жизнь, прожитая тем, кого называли Христом. Неизбежно эта жизнь нашла свое отражение в литературе, и у нас есть Евангелия. Вокруг жизни и литературы возникла великая религия. Ее поклонение было сначала простым — общая молитва, совместная вечерняя трапеза, памятные слова Учителя и заключительный гимн. Постепенно был установлен ритуал, который становился все более сложным и впечатляющим с течением веков. Сцены из жизни Учителя начали представлять в церквях, особенно во время Рождества, когда история рождения Христа становилась более эффективной для глаз людей, которые не умели читать, с помощью младенца в яслях, окруженного волхвами и пастухами, с хором ангелов,
поющих Gloria in Excelsis.[126] Затем последовали другие впечатляющие сцены из Евангелия; затем был призван Ветхий Завет, пока не был установлен полный цикл пьес от Сотворения до Страшного Суда, и мы имеем мистерии и чудесные пьесы Средневековья. Отсюда и возникла драма елизаветинской эпохи.
ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ДРАМЫ
======================
1. РЕЛИГИОЗНЫЙ ПЕРИОД.
======================
В Европе, как и в Греции, драма имела отчетливо религиозное происхождение.[127] Первые персонажи были взяты из Нового Завета, и целью первых пьес было сделать церковную службу более впечатляющей или подчеркнуть моральные уроки, показывая награду за добро и наказание злодея. В последние дни Римской империи Церковь обнаружила, что сцена захвачена ужасными пьесами, которые унижали мораль народа, уже падшего слишком низко. Реформа казалась невозможной; продажная драма была изгнана со сцены, и пьесы всех видов были запрещены. Но человечество любит зрелища, и вскоре сама Церковь предоставила замену запрещенным пьесам в знаменитых Мистериях и Чудесах.
ПЬЕСЫ О ЧУДЕСАХ И ТАЙНАХ.
========================
Самое раннее чудо, о котором у нас есть какие-либо записи в Англии, это Ludus de Sancta Katharina, которое было поставлено в Данстейбле около 1110 года.[128] Неизвестно, кто написал оригинальную пьесу Святой Екатерины, но нашу первую версию подготовил Джеффри из Сент-Олбанса, французский школьный учитель из Данстейбла. Была ли пьеса дана на английском языке, неизвестно, но в самых ранних пьесах было принято, чтобы главные актеры говорили на латыни или французском, чтобы показать свою значимость, в то время как второстепенные и комические части той же пьесы давались на английском.
В течение четырех столетий после этой первой записанной пьесы число и популярность «Чудес» в Англии неуклонно росли. Сначала их ставили очень просто и впечатляюще в церквях; затем, по мере того как актеров становилось все больше, а пьесы — все более живыми, они переполняли церковные дворы; но когда веселье и уморительное веселье стали преобладать даже в самых священных представлениях, возмущенные священники вообще запретили пьесы на церковной территории.
К 1300 году «Чудеса» вышли из-под контроля церкви и с энтузиазмом были приняты городскими гильдиями; и в последующие два столетия мы видим, как Церковь проповедует против злоупотребления религиозной драмой, которую она сама ввела и которая поначалу служила исключительно религиозным целям.[129] Но к этому времени «Чудеса» уже прочно укоренились в английском народе и продолжали пользоваться огромной популярностью, пока в шестнадцатом веке их не заменила елизаветинская драма.
Ранние пьесы-мираклы в Англии делились на два класса: первый, дававшийся на Рождество, включал все пьесы, связанные с рождением Христа; второй, на Пасху, включал пьесы, связанные с его смертью и триумфом. К началу четырнадцатого века все эти пьесы в разных местах были объединены в единые циклы, начинавшиеся с Сотворения и заканчивавшиеся Страшным судом. Полный цикл представлялся каждую весну, начиная с дня Тела Христова; и поскольку представление стольких пьес означало непрерывный фестиваль на открытом воздухе в течение недели или больше, этот день с нетерпением ждали как самый счастливый в году.
Вероятно, каждый важный город в Англии имел свой собственный цикл пьес для своих гильдий, но почти все они были утеряны. В настоящее время существует только четыре цикла (за исключением наиболее фрагментарного состояния), и они, хотя и представляют собой интересный комментарий к тому времени, добавляют очень мало к нашей литературе. Четыре цикла — это пьесы Честера и Йорка, названные так по названиям городов, в которых они были даны; пьесы Таунли или Уэйкфилда, названные в честь семьи Таунли, которая долгое время владела рукописью; и пьесы Ковентри, которые по сомнительным свидетельствам были связаны с Серыми Монахами (францисканцами) Ковентри. Цикл Честера насчитывает 25 пьес, Уэйкфилда — 30, Ковентри — 42 и Йорка — 48. Невозможно установить ни дату, ни авторство любой из этих пьес; мы знаем наверняка, что они были в большом фаворе с двенадцатого по шестнадцатый век. Пьесы Йорка, как правило, считаются лучшими; но те, что принадлежат Уэйкфилду, показывают больше юмора и разнообразия, и лучшее мастерство. Первый цикл особенно показывает определенное единство, вытекающее из его цели представить всю жизнь человека от рождения до смерти.
То же самое заметно и в «Курсоре мира», который, наряду с циклами Йорка и Уэйкфилда, относится к XIV веку.
Сначала актерами, а также авторами Чудес были священники и их избранные помощники. Позже, когда городские гильдии взялись за пьесы и каждая гильдия стала отвечать за одну или несколько серий, актеры тщательно отбирались и обучались. К четырем часам утра в праздник Тела Христова все актеры должны были быть на своих местах в передвижных театрах, которые были разбросаны по всему городу на площадях и открытых площадках. Каждый из этих театров состоял из двухэтажной платформы, установленной на колесах. Нижний этаж был гримерной для актеров; верхний этаж был собственно сценой, и на нее можно было попасть через люк снизу. Когда пьеса заканчивалась, платформу убирали, и на ее место вставала следующая пьеса цикла. Таким образом, на одной площади несколько пьес представлялись в быстрой последовательности одной и той же аудитории. Тем временем первая пьеса перемещалась на другую площадь, где ее ждала другая публика.
Хотя пьесы были отчетливо религиозными по своему характеру, едва ли найдется хоть одна без юмористического элемента. Например, в пьесе о Ное сварливая жена Ноя развлекает публику, препираясь со своим мужем. В пьесе о Распятии Ирод — это озорной тиран, который покидает сцену, чтобы браниться перед зрителями; так что «перехитрить Ирода» стало распространенной поговоркой. Во всех пьесах дьявол — любимый персонаж и объект каждой шутки. Он также покидает сцену, чтобы устроить шалость или напугать удивленных детей. Сбоку от сцены часто можно было увидеть огромную голову дракона с разинутой красной пастью, изрыгающую огонь и дым, из которой вырывалось шумное стадо дьяволов с дубинками, вилами и решетками, чтобы наказать злых персонажей и, в конце концов, утащить их, воющих и визжащих, в адскую пасть, как называли голову дракона. Так страх перед адом укоренился в невежественном народе на четыре столетия. Эти ужасы чередовались с грубыми шутками и бытовыми сценами мира и доброты, представляющими жизнь английских полей и домов.
К ним относились песни и колядки, например, рождественские:
Когда я ехал этой ночью (прошлой) ночью,
Я увидел зрелище трех веселых пастухов,
И вокруг их стада ярко сияла звезда;
Они пели "терли терлоу",
Так весело пастухи могли дуть в свои свирели.
С небес, с небес, столь высоких,
Спустилась большая компания ангелов
С весельем, радостью и великой торжественностью;
Они пели terli terlow,
Так весело пастухи могут дуть в свои свирели.
Такие песни зрители забирали домой и пели в течение сезона, подобно тому, как сейчас популярные мелодии подхватывают со сцены и поют на улицах; порой к припеву присоединялась вся публика.
После того, как эти пьесы были написаны в соответствии с общим планом библейских историй, никаких изменений не допускалось, зрители настаивали, как дети в «Панче и Джуди», на том, чтобы видеть одно и то же из года в год. Поэтому никакая оригинальность в сюжете или трактовке была невозможна; единственное разнообразие заключалось в новых песнях и шутках, а также в проделках дьявола. Какими бы детскими ни казались нам такие пьесы, они являются частью религиозного развития всех необразованных людей. Даже сейчас персидская пьеса «Мученичество Али» празднуется ежегодно, а знаменитая «Страсти Христовы», настоящее чудо, ставится каждые десять лет в Обераммергау.
2. МОРАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДРАМЫ.
==========================
Второй или моральный период драмы показан растущим распространением пьес Морали. В них персонажами были аллегорические персонажи — Жизнь, Смерть, Раскаяние, Доброта, Любовь, Жадность и другие добродетели и пороки. Морали можно рассматривать, таким образом, как драматический аналог некогда популярной аллегорической поэзии, примером которой является Роман о Розе. Нашим первым неизвестным драматургам не приходило в голову изображать мужчин и женщин такими, какие они есть, пока они не создали персонажей с абстрактными человеческими качествами. Тем не менее, Морали знаменует собой явный прогресс по сравнению с Чудом в том, что она давала свободу воображению для новых сюжетов и событий. В Испании и Португалии эти пьесы под названием ауто были чудесно развиты гением Кальдерона и Жиля Висенте; но в Англии Морали были унылым видом представления, как и аллегорическая поэзия, которая им предшествовала.
Чтобы оживить публику, был введен дьявол из пьес Miracle; и еще один живой персонаж, называемый Vice, был предшественником нашего современного клоуна и шута. Его занятием было мучить «добродетелей» озорными выходками, и особенно делать жизнь дьявола обузой, избивая его пузырем или деревянным мечом при каждом удобном случае. Morality обычно заканчивался торжеством добродетели, дьявол прыгал в адскую пасть с Vice на спине.
Самая известная из Моралей — «Everyman», которая недавно возродилась в Англии и Америке. Тема пьесы — призыв каждого человека Смертью; а мораль заключается в том, что ничто не может избавить от ужаса неизбежного призыва, кроме честной жизни и утешений религии. В своем драматическом единстве она предполагает чистую греческую драму; нет смены времени или места действия, и сцена никогда не пустует от начала до конца представления. Другие известные Морали — «Pride of Life», «Hyckescorner» и «Castell of Perseverance». В последней человек представлен запертым в замке, охраняемом добродетелями и осажденном пороками.
Как и пьесы Miracle, большинство старых Moralities неизвестны по дате и происхождению. Из известных авторов Moralities двое лучших — Джон Скелтон, написавший «Великолепие» и, вероятно, также «Некроманта»; и сэр Дэвид Линдсей (1490-1555), «поэт шотландской Реформации», чьей религиозной обязанностью было вызывать у правителей дискомфорт, сообщая им неприятные истины в форме поэзии. С этими людьми в Moralities вошел новый элемент. Они высмеивают или осуждают злоупотребления Церкви и Государства и вводят живых персонажей, тонко замаскированных под аллегории; так что сцена впервые становится силой в формировании событий и исправлении злоупотреблений.
ИНТЕРЛЮДИИ
==========
Невозможно провести четкую границу между Моралью и Интерлюдиями. В общем, мы можем думать о последних как о драматических сценах, иногда дававшихся сами по себе (обычно с музыкой и пением) на банкетах и ;;развлечениях, где требовалось немного веселья;и снова вошел в игру Миракл, чтобы оживить публику после торжественной сцены. Так, на полях страницы одной из старых пьес Честера мы читаем: «Бой и свинья, когда короли ушли». Конечно, это не было частью оригинальной сцены между Иродом и тремя королями. Так же и ссора между Ноем и его женой, вероятно, является поздним дополнением к старой пьесе. Интермедии, несомненно, возникли в чувстве юмора; и Джону Хейвуду (1497?-1580?), любимому вассалу и шуту при дворе Марии, принадлежит заслуга возведения Интермедии в особую драматическую форму, известную как комедия.
Интермедии Хейвуда были написаны между 1520 и 1540 годами. Его самая известная из них — «Четыре П», состязание в остроумии между «Продавцом, Паломником, Коробейником и Лекарем». Персонажи здесь сильно напоминают персонажей Чосера.[131] Другая интересная интермедия называется «Пьеса о погоде». В ней Юпитер и боги собираются, чтобы выслушать жалобы на погоду и исправить злоупотребления. Естественно, каждый хочет свою погоду. Кульминация достигается мальчиком, который объявляет, что удовольствие мальчика состоит в двух вещах: ловле птиц и метании снежков, и просит о погоде, чтобы он всегда мог делать и то, и другое. Юпитер решает, что он будет делать с погодой все, что ему заблагорассудится, и все расходятся по домам довольные.
Все эти ранние пьесы были написаны, по большей части, в смеси прозы и жалких стишков и ничего не добавили к нашей литературе. Их великая работа состояла в том, чтобы обучать актеров, поддерживать живой драматический дух и готовить путь для истинной драмы.
3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРИОД ДРАМЫ.
==============================
Художественный период является заключительным этапом в развитии английской драмы. Он радикально отличается от двух других тем, что его главная цель — не указывать на мораль, а представлять человеческую жизнь такой, какая она есть. Художественная драма может иметь цель, не меньшую, чем пьеса Miracle, но мотив всегда подчинен главной цели представления самой жизни.
Первой настоящей пьесой на английском языке с регулярным сюжетом, разделенным на акты и сцены, вероятно, является комедия «Ральф Ройстер Дойстер». Она была написана Николасом Юдаллом, учителем Итона, а позднее Вестминстерской школы, и впервые была поставлена ;;его учениками незадолго до 1556 года.
История повествует о тщеславном щеголе, влюбленном в вдову, которая уже помолвлена ;;с другим мужчиной. Пьеса представляет собой адаптацию Miles Gloriosus, классической комедии Плавта, и английские персонажи более или менее искусственны; но как образец ясного сюжета и естественного диалога влияние этой первой комедии с ее смесью классических и английских элементов вряд ли можно переоценить.
Следующая пьеса, «Игла бабушки Гертон» (ок. 1562 г.), представляет собой бытовую комедию, подлинный образец английского реализма, изображающую жизнь крестьянского класса.
Гаммер Гертон латает кожаные штаны своего мужчины Ходжа, когда кот Гиб попадает в молочник. Пока Гаммер гонится за котом, семейная игла теряется, что в те дни было настоящим бедствием. Весь дом переворачивается с ног на голову, и в это дело втягиваются соседи. Различные комичные ситуации возникают из-за Диккона, воровки-бродяги, который говорит Гаммер, что ее соседка, Дама Чатт, забрала ее иглу, и который затем спешит сказать Даме Чатт, что Гаммер обвиняет ее в краже любимого петуха. Естественно, происходит ужасная ссора, когда две разгневанные старухи встречаются и не понимают друг друга. Диккон также втягивает в ссору Доктора Рэта, викария, говоря ему, что если он только прокрадется в коттедж Дамы Чатт скрытым путем, он найдет ее с украденной иглой. Затем Диккон тайно предупреждает Даму Чатте, что человек Гаммер Гертон Ходж идет, чтобы украсть ее кур; и старуха прячется в темном коридоре и крепко бьет викария дверным засовом. Все стороны наконец предстают перед судом, когда Ходж внезапно и мучительно находит потерянную иглу, которая все время торчит в его кожаных штанах, и сцена заканчивается шумно и для зрителей, и для актеров.
Эта первая полностью английская комедия полна веселья и грубого юмора и удивительно верна жизни, которую она представляет. Ее долго приписывали Джону Стиллу, впоследствии епископу Бата; но теперь авторство определенно приписывают Уильяму Стивенсону.[132] Наше самое раннее издание пьесы было напечатано в 1575 году; но похожая пьеса под названием «Dyccon of Bedlam» была лицензирована в 1552 году, за двенадцать лет до рождения Шекспира.
Чтобы передать дух и метрическую форму пьесы, приводим фрагмент описания мальчиком тупицы Ходжи, пытающейся разжечь огонь в очаге из кошачьих глаз, и еще один фрагмент старинной застольной песни в начале второго акта.
Наконец в темном углу ему показалось, что он видит две искры
которые на самом деле были не чем иным, как двумя глазами нашего кота Джиба.
«Пых!» — пробормотал Ходж, думая таким образом, несомненно, разжечь огонь;
С этими словами Джиб закрыл свои два глаза, и огонь погас.
И вот они открылись, как и прежде;
С этими словами появились искры, как и прежде.
И, как только Ходж раздул огонь, как он и думал,
Джиб, почувствовав порыв ветра, сразу же начал шевелиться,
Пока Ходж не упал от ругани, как ему и пришлось,
Огонь был, несомненно, заколдован, и потому не будет гореть.
Наконец, Гайб поднялся на стеллажи, среди старых столбов и шпилей,
И Ходж гнался за ним, пока не сломались обе его голени,
Проклятия и ругань другие были не его поступками,
Что Гайб спалил бы дом, если бы ее не взяли.
Первая песня:
Назад и вбок, иди голышом, к голышу;
Садись ногами и руками, иди холодом;
Но, верь, Бог пошлет тебе достаточно хорошего эля,
Неважно, новый он или старый!
Я не могу есть, кроме как мало мяса,
Мой желудок нехорош;
Но я уверен, что смогу выпить
С тем, кто носит капюшон.
Хотя я иду голым, не беспокойтесь,
Мне совсем не холодно,
Я так набиваю свое тело
Очень хорошим элем и старым.
Спина и сайд, иди голым и т. д.
Наша первая трагедия, "Горбодук", была написана Томасом Сэквиллом и Томасом Нортоном и была поставлена ;;в 1562 году, всего за два года до рождения Шекспира. Она примечательна не только как наша первая трагедия, но и как первая пьеса, написанная белым стихом, причем последнее наиболее значимо, поскольку оно положило начало драме в стиле стиха, наиболее подходящему гению английских драматургов.
История «Горбодука» взята из ранних анналов Британии и напоминает историю, использованную Шекспиром в «Короле Лире». Горбодук, король Британии, делит свое королевство между сыновьями Феррексом и Поррексом.
Сыновья ссорятся, и Поррекс, младший, убивает своего брата, который является фаворитом королевы. Видена, королева, убивает Поррекса в отместку; народ восстает и убивает Видену и Горбодука; затем дворяне убивают мятежников и в свою очередь начинают сражаться друг с другом. Линия Брута пресекается со смертью Горбодука, страна впадает в анархию, мятежники, дворяне и шотландский захватчик — все борются за право наследования. Занавес падает, и мы видим сцену кровопролития и полного беспорядка.
Художественное завершение этой первой трагедии омрачено очевидным намерением авторов убедить Элизабет выйти замуж. Она направлена ;;на то, чтобы показать опасность, которой подвергается Англия из-за неопределенности престолонаследия. В остальном план пьесы следует классическому правилу Сенеки. На сцене очень мало действий; кровопролитие и битва возвещаются посланником; а хор из четырех стариков Британии подводит итог ситуации несколькими моральными замечаниями в конце каждого из первых четырех актов.
КЛАССИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДРАМУ.
==============================
Возрождение латинской литературы оказало решающее влияние на английскую драму, которая развилась из пьес Miracle. В пятнадцатом веке учителя английского языка, чтобы повысить интерес к латыни, начали позволять своим мальчикам играть пьесы, которые они читали как литературу, точно так же, как наши колледжи сейчас представляют греческие или немецкие пьесы на ежегодных фестивалях. Сенека был любимым латинским автором, и все его трагедии были переведены на английский язык между 1559 и 1581 годами. Это был как раз тот период, когда первые английские драматурги формировали свои собственные идеи; но суровая простота классической драмы, казалось, поначалу только сковывала бурлящий английский дух. Чтобы понять это, нужно только сравнить трагедию Сенеки или Еврипида с трагедией Шекспира и увидеть, насколько сильно различаются методы этих двух мастеров.
В классической пьесе строго соблюдались так называемые драматические единства времени, места и действия. Время и место должны были оставаться теми же; пьеса могла представлять период всего в несколько часов, и любое введенное действие должно было происходить в том месте, где пьеса началась. Персонажи, следовательно, должны были оставаться неизменными на протяжении всей пьесы;не было никакой возможности, чтобы ребенок стал мужчиной, или чтобы мужчина рос с изменением обстоятельств. Поскольку пьеса проходила в помещении, все энергичные действия считались неуместными на сцене, а битвы и важные события просто объявлялись посланником. Классическая драма также проводила резкую границу между трагедией и комедией, все веселье строго исключалось из серьезных представлений.
Английская драма, с другой стороны, стремилась представить весь размах жизни в одной пьесе. Сцена быстро менялась; одни и те же актеры появлялись то дома, то при дворе, то на поле битвы; и энергичное действие заполняло сцену перед глазами зрителей. Ребенок одного акта появлялся как мужчина следующего, и воображение зрителя было призвано перекинуть мост через пробелы от места к месту и из года в год. Таким образом, драматург имел полную свободу действий, чтобы представить всю жизнь в одном месте и в один час. Более того, поскольку мир всегда смеется и всегда плачет в один и тот же момент, трагедия и комедия были представлены бок о бок, как и в самой жизни. Как поет Гамлет после пьесы, которая развеселила двор, но вселила в короля смертельный страх:
Пусть плачет раненый олень,
Пусть играет невозмутимый олень;
Ибо кто-то должен бодрствовать, а кто-то спать:
Так убегает мир.
Естественно, что с этими двумя идеалами, борющимися за господство над английской драмой, возникли две школы писателей. Университетские «Две школы» «Остроумцы», как называли людей образованных, в целом от Драмы поддерживали классический идеал и высмеивали грубость новых английских пьес. Сэквилл и Нортон были из этого класса, и «Горбодук» был классическим по своей конструкции. В «Защите поэзии» Сидни поддерживает классику и высмеивает слишком амбициозный размах английской драмы. Им противостояли популярные драматурги Лили, Пил, Грин, Марло и многие другие, которые признавали английскую любовь к действию и игнорировали драматические единства в своем стремлении представить жизнь такой, какая она есть. В конце концов, возобладала местная драма, которой способствовал народный вкус, воспитанный четырьмя веками «Чудес». Наши первые пьесы, особенно романтического типа, были чрезвычайно грубыми и часто приводили к смехотворно экстравагантным сценам; и именно здесь классическая драма оказала огромное положительное влияние, настаивая на красоте формы и определенности структуры в то время, когда тенденция была направлена ;;на удовлетворение вкуса к сценическим зрелищам без оглядки на то и другое.
В 1574 году королевское разрешение актерам лорда Лестера позволило им «давать пьесы в любом месте нашего королевства Англии», и это следует считать началом регулярной драмы. Два года спустя первый театр, известный как «Театр», был построен для этих актеров Джеймсом Бербеджем в Финсбери-Филдс, к северу от Лондона. Вероятно, именно в этом театре Шекспир нашел работу, когда впервые приехал в город. Успех этого предприятия был немедленным, и в последующие тридцать лет появилось два десятка театральных компаний, по крайней мере семь постоянных театров и дюжина или более постоялых дворов, постоянно оборудованных для показа пьес, — все это было основано в городе и его ближайших пригородах. Рост кажется тем более примечательным, если вспомнить, что Лондон тех дней теперь считался бы небольшим городом, имея (в 1600 году) всего около ста тысяч жителей.
Голландский путешественник Иоганнес де Витт, посетивший Лондон в 1596 году, дал нам единственный современный рисунок интерьера одного из этих театров, которым мы располагаем. Они были построены из камня и дерева, имели круглую или восьмиугольную форму и не имели крыши, представляя собой просто закрытый двор. С одной стороны находилась сцена, а перед ней на голой земле, или яме, стояла большая часть зрителей, которые могли позволить себе заплатить только за вход. Актеры и эти зрители были подвержены воздействию непогоды; те, кто платил за места, находились в галереях, защищенных узкой крышей-крыльцом, выступающей внутрь от окружающих стен; в то время как молодые дворяне и кавалеры, которые приходили, чтобы их увидели, и которые могли позволить себе дополнительную плату, занимали места на самой сцене, курили и подшучивали над актерами и бросали орехи в зрители.[133] Вся идея этих первых театров, по словам Де Витта, была похожа на идею римского амфитеатра; и сходство усиливалось тем фактом, что, когда на подмостках не было игры, сцену могли убрать, а яму отдать под травлю быков и медведей.
Во всех этих театрах, вероятно, сцена состояла из голой платформы с занавесом или «траверсой» посередине, отделяющей переднюю сцену от задней. На последней неожиданные сцены или персонажи «открывались» просто отдергиванием занавеса. Сначала декораций использовалось мало или совсем не использовалось, единственным объявлением о смене сцены был позолоченный знак; и именно это отсутствие декораций приводило к лучшей игре, поскольку актеры должны были быть достаточно реалистичными, чтобы заставить зрителей забыть об их убогом окружении.[134] Однако ко времени Шекспира появились раскрашенные декорации, сначала в университетских пьесах, а затем и в обычных театрах.[135] Во всех наших первых пьесах женские роли исполнялись мальчиками-актерами, которые, очевидно, были более удручающими, чем грубые декорации, поскольку в современной литературе есть много сатирических ссылок на их игру,[136] и даже толерантный Шекспир пишет:
Какой-то пищащий мальчик Клеопатра, мое величие.
Как бы то ни было, сцена считалась неподходящей для женщин, и актрисы были неизвестны в Англии до Реставрации.
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ШЕКСПИРА В ДРАМАТУРГИИ.
=======================================
Английская драма, возникшая из пьес-чудес, имеет интересную историю. Она началась со школьных учителей, таких как Удалл, которые переводили и адаптировали латинские пьесы для своих мальчиков и, естественно, руководствовались классическими идеалами. Его продолжили хормейстеры собора Святого Павла, Королевской и Куинз-капеллы, чьи труппы мальчиков-хористов были известны в Лондоне и соперничали с актерами обычных театров.[137] Эти хормейстеры были нашими первыми постановщиками. Они начинали с маскарадов, интермедий и драматического изложения классических мифов по образцу итальянских; но некоторые из них, например Ричард Эдвардс (регент королевской капеллы в 1561 году), вскоре добавили фарсы из английской сельской жизни и инсценировали некоторые рассказы Чосера. Наконец, известные драматурги - Кид, Нэш, Лили, Пил, Грин и Марлоу - довели английскую драматургию до того уровня, когда Шекспир начал экспериментировать с ней.
Каждый из этих драматургов добавил или подчеркнул какой-то существенный элемент в драме, который позднее появился в творчестве Шекспира.
Так, Джон Лили (1554?-1606), который сейчас известен в основном как создатель пагубного литературного стиля, называемого эвфуизмом,[138] является одним из самых влиятельных ранних драматургов. Его придворные комедии примечательны своим остроумным диалогом и тем, что являются первыми пьесами, которые определенно нацелены на единство и художественную завершенность. Испанская трагедия Томаса Кида (ок. 1585) впервые дает нам драму, или, скорее, мелодраму страсти, скопированную Марло и Шекспиром. Это была самая популярная из ранних елизаветинских пьес; ее снова и снова пересматривали, и говорят, что Бен Джонсон написал одну версию и сыграл главную роль Иеронимо.[139] А Роберт Грин (1558?-1592) играет главную роль в раннем развитии романтической комедии и дает нам несколько превосходных сцен английской сельской жизни в таких пьесах, как «Брат Бэкон» и «Брат Бангей».
Даже краткий взгляд на жизнь и творчество этих первых драматургов показывает три примечательных момента, которые оказали влияние на карьеру Шекспира:
(1) Эти люди обычно были актерами, а также драматургами. Они знали сцену и публику, и при написании своих пьес они помнили не только актерскую роль, но и любовь публики к историям и смелым зрелищам. «Будет ли это хорошо сыграно и понравится ли это нашей публике», — были вопросы, которые больше всего волновали наших ранних драматургов.
(2) Их обучение началось как актеров; затем они перерабатывали старые пьесы и, наконец, стали независимыми писателями. В этом их работа показывает точную параллель с работой Шекспира.
(3) Они часто работали вместе, вероятно, как Шекспир работал с Марло и Флетчером, либо над пересмотром старых пьес, либо над созданием новых. У них был общий запас материала, из которого они черпали свои истории и персонажей, отсюда их частое повторение имен; и они часто создавали две или более пьес на одну и ту же тему. Как мы увидим, многое в творчестве Шекспира основано на предыдущих пьесах; даже его «Гамлет» использует материал более ранней пьесы с тем же названием, вероятно, написанной Кидом, которая была хорошо известна на лондонской сцене в 1589 году, примерно за двенадцать лет до написания великого произведения Шекспира.
Все это имеет значение, если мы хотим понять елизаветинскую драму и человека, который довел ее до совершенства. Шекспир был не просто великим гением; он был также великим тружеником, и он развивался точно так же, как и все его собратья-ремесленники. И, вопреки распространенному мнению, елизаветинская драма — это не творение, подобное Минерве, вырастающее из головы одного человека; это скорее упорядоченное, хотя и быстрое развитие, в котором принимали участие многие люди. Все наши ранние драматурги достойны изучения за ту роль, которую они сыграли в развитии драмы; но здесь мы можем рассмотреть только одного, наиболее типичного из всех, чье лучшее произведение часто ставят в один ряд с произведением Шекспира.
КРИСТОФЕР МАРЛО
===============
(1564-1593)
Марло
— одна из самых выдающихся фигур английского Возрождения и величайший из предшественников Шекспира. Слава елизаветинской драмы восходит к его «Тамерлану» (1587), в котором находит выражение весь беспокойный нрав эпохи:
Природа, которая создала нас из четырех стихий
Враждующих в наших сердцах за порядок,
Учит нас всех иметь устремленные умы:
Наши души — чьи способности могут постичь
Дивную архитектуру мира,
И измерить курс каждой блуждающей планеты,
Все еще поднимаясь к знанию бесконечному,
Хочет, чтобы мы изнуряли себя и никогда не отдыхали.
Тамбурлейн, ч. I, II, vii.
Жизнь.
======
Марло родился в Кентербери, всего за несколько месяцев до Шекспира. Он был сыном бедного сапожника, но благодаря доброте покровителя получил образование в городской гимназии, а затем в Кембридже. Когда он приехал в Лондон (ок. 1584 г.), его душа была переполнена идеалами Возрождения, которые позже нашли свое выражение в Фаусте, ученом, жаждущем безграничных знаний и власти, чтобы постичь вселенную. К сожалению, Марло также обладал необузданными страстями, которые отличают раннее, или языческое Возрождение, как называет его Тэн, и тщеславием молодого человека, только вступающего в сферу знаний. Он стал актером и жил в атмосфере низких кабаков, в атмосфере излишеств и нищеты. В 1587 г., когда ему было всего двадцать три года, он поставил «Тамерлана», который принес ему мгновенное признание.
Срублена ветвь, которая могла бы расти прямо,
И сожжена лавровая ветвь Аполлона.
Что когда-то росла внутри этого ученого человека.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАРЛО.
===================
Помимо поэмы «Герой и Леандр», на которую мы ссылались,[140] Марло известен четырьмя драмами, теперь известными как марловские или одноактные трагедии, каждая из которых вращается вокруг одной центральной личности, поглощенной жаждой власти. Первая из них — «Тамерлан», история Тимура Татарина. Тимур начинается как вождь пастухов, который сначала восстает, а затем торжествует над персидским царем. Опьяненный своим успехом, Тимур мчится, как буря, по всему Востоку. Сидя на своей колеснице, запряженной плененными царями, с запертым в клетке императором перед ним, он хвастается своей силой, которая побеждает все вещи. Затем, пораженный болезнью, он бушует против богов и хочет свергнуть их, как он сверг земных правителей. «Тамерлан» — это скорее эпос, чем драма; но можно понять его мгновенный успех у народа, лишь наполовину цивилизованного, любящего воинскую славу, и мгновенное принятие его «могучей линии» в качестве инструмента всякого драматического выражения.
Вторая пьеса, «Фауст», — одно из лучших произведений Марло.[141] Это история ученого, который жаждет бесконечного знания и который отворачивается от теологии, философии, медицины и права, четырех наук того времени, к изучению магии, подобно тому, как ребенок отвлекается от драгоценностей на мишуру и цветную бумагу. Чтобы научиться магии, он продает себя дьяволу при условии, что у него будет двадцать четыре года абсолютной власти и знаний.
Пьеса — история этих двадцати четырех лет. Как и в «Тамбурлене», в ней отсутствует драматическая конструкция[142], но есть необычное количество отрывков редкой поэтической красоты. «Сатана» Мильтона настоятельно предполагает, что автор «Потерянного рая» имел доступ к «Фаусту» и использовал его, как он, возможно, использовал «Тамерлана» для великолепной панорамы, показанной Сатаной в «Возвращенном рае». Например, более чем за пятьдесят лет до того, как герой Мильтона сказал: «Куда бы я ни повернулся, там ад, я сам ад», Марло написал:
Фауст. Как же ты выбрался из ада?
Мефисто. Почему это ад, и я не из него.
Ад не имеет границ и не ограничен
В одном месте; ибо где мы, там ад,
И где ад, там должны быть и мы.
Третья пьеса Марло — «Мальтийский еврей», исследование жажды богатства, в центре которой — Варавва, ужасный старый ростовщик, сильно напоминающий Шейлока из «Венецианского купца». Первая часть пьесы хорошо построена, показывая решительный прогресс, но последняя часть представляет собой накопление мелодраматических ужасов. Варавва останавливается в своей убийственной карьере, упав в кипящий котел, который он приготовил для другого, и умирает, богохульствуя, его единственным сожалением было то, что он не совершил большего зла в своей жизни.
Последняя пьеса Марло — Эдуард II, трагическое исследование слабости и нищеты короля. С точки зрения стиля и драматической конструкции, это, безусловно, лучшая из пьес Марло, и достойный предшественник исторической драмы Шекспира.
Марло — единственный драматург того времени, которого когда-либо сравнивали с Шекспиром.[143] Когда мы вспоминаем, что он умер в двадцать девять лет, вероятно, прежде, чем Шекспир создал хоть одну великую пьесу, мы должны задаться вопросом, что бы он мог сделать, если бы пережил свою несчастную юность и стал мужчиной. Кое-где его работа замечательна своим великолепным воображением, величественностью стиха и редкими образцами поэтической красоты; но в драматическом инстинкте, в широком знании человеческой жизни, в юморе, в изображении женского характера, в тонкой фантазии, которая представляет Ариэля так же совершенно, как Макбета, — одним словом, во всем, что делает драматического гения, Шекспир стоит особняком.
Марло просто подготовил путь для мастера, который должен был последовать за ним.
РАЗНООБРАЗИЕ РАННЕЙ ДРАМЫ.
==========================
Тридцать лет между нашими первыми регулярными английскими пьесами и первой комедией Шекспира[144] стали свидетелями развития драмы, которая поражает нас как своей быстротой, так и разнообразием. Мы лучше оценим творчество Шекспира, если бросим взгляд на пьесы, которые ему предшествовали, и заметим, как он охватывает всю область и пишет почти все формы и разновидности драмы, известные его эпохе.
Первыми по важности или, по крайней мере, по интересу публики являются новые пьесы «Хроники», основанные на исторических событиях и персонажах. Они показывают сильный национальный дух елизаветинской эпохи, и их популярность была обусловлена ;;в основном тем фактом, что зрители приходили в театры отчасти для того, чтобы удовлетворить свой пробужденный национальный дух и получить первые знания о национальной истории. Некоторые из «Нравоучений», такие как «Король Юхан» Бейля (1538), являются грубыми пьесами «Хроники», а ранние пьесы о Робин Гуде и первая трагедия, «Горбодук», показывают тот же пробужденный интерес публики к английской истории. Во время правления Елизаветы число популярных пьес «Хроники» возросло, пока у нас не стало более двухсот двадцати, половина из которых сохранилась до сих пор, и в них рассказывается почти о каждом важном персонаже, реальном или легендарном, в английской истории. Из тридцати семи драм Шекспира десять являются настоящими пьесами «Хроники» об английских королях; три взяты из легендарных анналов Британии; и еще три взяты из истории других наций.
Другие типы ранней драмы определены менее четко, но мы можем суммировать их под несколькими общими заголовками:
(1) Домашняя драма началась с грубых домашних сцен, введенных в Чудеса, и развивалась десятками различных способов, от грубого юмора Иглы Гаммер Гертон до Комедии нравов Джонсона и более поздних драматургов. Укрощение строптивой и Виндзорские насмешницы Шекспира принадлежат к этому классу.
(2) Так называемая Судебная комедия является противоположностью первой в том, что она представляла другой тип жизни и была предназначена для другой аудитории. Она была отмечена сложными диалогами, шутками, репликами и бесконечной игрой слов, а не действием.
Она стала популярной благодаря успеху Лили и была подражана в первых или «лилианских» комедиях Шекспира, таких как «Бесплодные усилия любви» и сложная «Два веронца». (3) Романтическая комедия и романтическая трагедия предлагают наиболее художественные и законченные типы драмы, которые экспериментировали Пил, Грин и Марло и которые были доведены до совершенства в «Венецианском купце», «Ромео и Джульетте» и «Буре». (4) В дополнение к вышеперечисленным типам были и другие: классические пьесы, созданные по образцу Сенеки и любимые образованной публикой; мелодрама, любимая публикой, которая зависела не от сюжета или персонажей, а от множества ярких сцен и событий; и Трагедия крови, всегда более или менее мелодраматичная, как Испанская трагедия Кида, которая стала более кровавой и громовой у Марло и достигла кульминации ужасов в «Тите Андронике» Шекспира. Примечательно, что Гамлет, Лир и Макбет все принадлежат к этому классу, но развитый гений автора поднял их на такую ;;высоту, какой Трагедия крови никогда не знала прежде.
Эти разнообразные типы вполне достаточны, чтобы показать, какими сомнительными и неуправляемыми экспериментами занимались наши первые драматурги, словно люди, впервые отправляющиеся на плотах и ;;долбленых лодках в неизведанное море. Они становятся еще интереснее, когда мы вспоминаем, что Шекспир испробовал их все; что он единственный драматург, чьи пьесы охватывают весь спектр драмы от ее зарождения до упадка. Из сценического зрелища он развил драму человеческой жизни; и вместо виршей и напыщенности наших первых пьес он дает нам поэзию Ромео и Джульетты и Сна в летнюю ночь. Одним словом, Шекспир навел порядок из драматического хаоса. За несколько коротких лет он поднял драму от неуклюжего эксперимента до совершенства формы и выражения, с которым с тех пор никто не мог соперничать.
IV. ШЕКСПИР
============
Тот, кто прочитает несколько великих пьес Шекспира, а затем скудную историю его жизни, обычно полон смутного удивления. Вот неизвестный деревенский мальчик, бедный и плохо образованный по меркам своего века, который приезжает в великий город Лондон и устраивается на случайные работы в театр. Через год или два он связывается с учеными и драматургами, мастерами своего века, пишущими пьесы о королях и шутах, о джентльменах, героях и благородных женщинах, все жизни которых он, кажется, знает по близкому знакомству. Еще через несколько лет он возглавляет всю эту блестящую группу поэтов и драматургов, которые дали бессмертную славу эпохе Елизаветы. Пьеса за пьесой выходят из-под его пера, могучие драмы человеческой жизни и характера следуют одна за другой так быстро, что хорошая работа кажется невозможной; однако они выдерживают испытание временем, и их поэзия по-прежнему не имеет себе равных ни на одном языке. За все эти великие труды автора, по-видимому, мало что волнует, поскольку он не пытается собирать или сохранять свои произведения. Тысячи ученых с тех пор были заняты сбором, идентификацией, классификацией произведений, которые этот великолепный труженик так небрежно отбросил, когда бросил драму и удалился в родную деревню. У него удивительно изобретательный и творческий ум; но он придумывает мало, если вообще придумывает, новых сюжетов или историй. Он просто берет старую пьесу или старую поэму, быстро переделывает ее, и вот! этот старый знакомый материал сияет глубочайшими мыслями и нежнейшими чувствами, которые облагораживают нашу человечность; и каждое новое поколение людей находит его более прекрасным, чем предыдущее. Как он это сделал? Это все еще неотвеченный вопрос и источник нашего удивления.
В целом, существуют две теории, объясняющие Шекспира. Романтическая школа писателей всегда считала, что в нем «все пришло изнутри»; что его гений был его достаточным проводником; и что только всепобеждающей силе его гения мы обязаны всеми его великими произведениями. Практичные, лишенные воображения люди, с другой стороны, утверждают, что в Шекспире «все пришло извне» и что мы должны изучать его окружение, а не его гений, если хотим понять его. Он жил в эпоху, любившую пьесы;
он изучал толпу, давал ей то, что она хотела, и просто отражал ее собственные мысли и чувства. Отражая английскую толпу вокруг себя, он бессознательно отражал все толпы, которые одинаковы во все века; отсюда его постоянная популярность. И, руководствуясь общественным мнением, он не был одинок, но следовал простому пути, которым каждый хороший драматург всегда следовал к успеху.
Вероятно, истина находится где-то между этими двумя крайностями. В его великом гении не может быть никаких сомнений; но есть и другие вещи, которые следует учитывать. Как мы уже заметили, Шекспир обучался, как и его коллеги по работе, сначала как актер, затем как редактор старых пьес и, наконец, как независимый драматург. Он работал с другими драматургами и узнал их секрет. Как и они, он изучал и следовал вкусам публики, и его работа указывает по крайней мере на три стадии, от его первых несколько грубых экспериментов до его законченных шедевров. Таким образом, может показаться, что в Шекспире мы имеем результат упорного труда и упорядоченного человеческого развития, а также трансцендентного гения.
ЖИЗНЬ
======
(1564-1616).
Два внешних влияния были сильны в развитии гения Шекспира: маленькая деревня Стратфорд, центр самого красивого и романтического района сельской Англии, и великий город Лондон, центр мировой политической активности. В одном он научился узнавать естественного человека в его естественной среде; в другом — социального, искусственного человека в самой неестественной среде.
Из регистрационной книги маленькой приходской церкви в Стратфорде-на-Эйвоне мы узнаем, что Уильям Шекспир был крещен там двадцать шестого апреля 1564 года (по старому стилю). Поскольку было принято крестить детей на третий день после рождения, двадцать третье апреля (3 мая по нашему современному календарю) принято считать днем ;;рождения поэта.
Его отец, Джон Шекспир, был сыном фермера из соседней деревни Сниттерфилд, который приехал в Стратфорд около 1551 года и начал преуспевать как торговец кукурузой, мясом, кожей и другими сельскохозяйственными продуктами. Его мать, Мэри Арден, была дочерью преуспевающего фермера, происходившего из старинной семьи Уорикшира смешанной англосаксонской и нормандской крови.
В 1559 году эта супружеская пара продала участок земли, и документ был подписан: «Марка + Джона Шекспера. Марка + Мэри Шекспер»; и из этого обычно делают вывод, что, как и подавляющее большинство их соотечественников, ни один из родителей поэта не умел читать и писать. Вероятно, это было верно в отношении его матери; но свидетельства из документов Стратфорда теперь указывают, что его отец умел писать, и что он также проверял городские счета; хотя при удостоверении документов он иногда делал отметку, оставляя свое имя для заполнения тем, кто составлял документ.
Об образовании Шекспира мы знаем немного, за исключением того, что в течение нескольких лет он, вероятно, посещал финансируемую гимназию в Стратфорде, где он выучил «небольшую латынь и меньше греческий», о которой упоминает его ученый друг Бен Джонсон. Его настоящими учителями, между тем, были мужчины и женщины и природные влияния, которые его окружали. Стратфорд — очаровательная маленькая деревня в прекрасном Уорикшире, и поблизости были Арденнский лес, старые замки Уорик и Кенилворт, а также старые римские лагеря и военные дороги, которые мощно апеллировали к живому воображению мальчика. Каждая фаза естественной красоты этого изысканного региона отражена в поэзии Шекспира; так же, как его персонажи отражают благородство и ничтожество, сплетни, пороки, эмоции, предрассудки и традиции людей вокруг него.
Я видел кузнеца, стоящего с молотом, таким образом,
Пока его железо на наковальне остывало,
с открытым ртом, глотая новости портного;
Который, с ножницами и меркой в руке,
Стоя на туфлях, которые его проворная поспешность
Ложно надела на противоположные ноги,
Рассказывал о многих тысячах воинственных французов
Которые были выстроены в бой и выстроены в Кенте.
Такие отрывки предполагают не только гениальность, но и проницательного, сочувствующего наблюдателя, чьи глаза видят каждую существенную деталь. Так и с няней в «Ромео и Джульетте», чьи бесконечные сплетни и пошлость не могут полностью скрыть доброе сердце. Она просто отражение какой-то забытой няни, с которой Шекспир разговаривал по дороге.
Не только сплетни, но и сны, бессознательная поэзия, спящая в сердцах простых людей, чрезвычайно привлекали воображение Шекспира и нашли отражение в его величайших пьесах.
Отелло пытается рассказать краткую историю солдата о своей любви; но рассказ похож на часть знаменитых путешествий Мандевиля, кишащую фантазиями, которые заполнили головы людей, когда огромный круглый мир был впервые представлен их вниманию смелыми исследователями. Вот немного фольклора, тронутого изысканной фантазией Шекспира, который показывает, что один мальчик слушал перед огнем на Хэллоуин:
Она приходит
В форме не больше камня агата
На указательном пальце олдермена,
Нарисованная командой маленьких атомов
Поперек носов мужчин, когда они спят;
Ее спицы повозки сделаны из длинных ног прях,
Покрытие из крыльев кузнечиков,
Следы мельчайшей паутины,
Ошейники водянистых лучей лунного света,
Ее кнут из кости сверчка, плеть из пленки,
Ее возница — маленький серый комар,
Сделанный белкой-столяром или старой личинкой,
Время вышло из ума, каретники фей.
И в таком состоянии она скачет ночь за ночью
Через мозги влюбленных, и тогда они мечтают о любви;
Над пальцами адвокатов, которые прямо мечтают о гонорарах,
Над губами дам, которые прямо мечтают о поцелуях.
Так же и с образованием Шекспира от Природы, которое пришло из того, что он держал свое сердце и глаза широко открытыми для красоты мира. Он говорит о лошади, и мы знаем тонкости чистокровной лошади; он упоминает гончих герцога, и мы слышим, как они лают на лисьей тропе, их голоса совпадали, как колокольчики в морозном воздухе; он останавливается на мгновение в размахе трагедии, чтобы отметить цветок, звезду, залитый лунным светом берег, вершину холма, тронутую восходом солнца, и мы мгновенно понимаем, что чувствовали наши собственные сердца, но не могли выразить, когда видели то же самое. Поскольку он отмечает и помнит каждую существенную вещь в меняющейся панораме земли и неба, ни один другой писатель никогда не приближался к нему в идеальной естественной обстановке его персонажей.
Когда Шекспиру было около четырнадцати лет, его отец потерял свое небольшое состояние и влез в долги, и мальчик, вероятно, бросил школу, чтобы помогать семье с младшими детьми.
Чем он занимался в течение следующих восьми лет, остается только догадываться. Из свидетельств, найденных в его пьесах, с некоторой долей авторитетности следует, что он был сельским учителем и клерком у адвоката, причем образ Олоферна в «Бесплодных усилиях любви» является основанием для одного, а знание Шекспиром юридических терминов — для другого. Но если мы возьмем такие свидетельства, то Шекспир должен был быть ботаником из-за его знания полевых цветов; моряком, потому что он разбирается в тонкостях дела; придворным из-за его необычайной легкости в остротах, комплиментах и ;;куртуазном языке; шутом, потому что никто другой не бывает столь скучным и глупым; королем, потому что Ричард и Генрих правдивы в жизни; женщиной, потому что он изучил глубину чувств женщины; и, конечно же, римлянином, потому что в «Кориолане» и «Юлии Цезаре» он показал нам римский дух лучше, чем сами римские писатели. В своем воображении он был всем, и на основании изучения сцен и персонажей, изображаемых им, невозможно составить определенное мнение о его ранних занятиях.
В 1582 году Шекспир женился на Энн Хэтэуэй, дочери крестьянской семьи Шоттери, которая была на восемь лет старше своего мужа-мальчика. Из многочисленных саркастических упоминаний о браке, сделанных персонажами его пьес, и из того факта, что он вскоре оставил жену и семью и уехал в Лондон, обычно утверждается, что брак был поспешным и несчастливым; но и здесь доказательства совершенно не заслуживают доверия. Во многих «Чудесах», а также в более поздних пьесах было принято изображать изнанку домашней жизни для развлечения толпы; и Шекспир, возможно, следовал вкусам публики в этом, как и в других вещах. Ссылок на любовь, дом и тихие радости в пьесах Шекспира достаточно, если мы принимаем такие свидетельства, чтобы твердо установить противоположное предположение, что его любовь была очень счастливой. И тот факт, что после своего огромного успеха в Лондоне он удалился в Стратфорд, чтобы тихо жить со своей женой и дочерьми, склоняет к тому же выводу.
Около 1587 года Шекспир оставил семью, отправился в Лондон и присоединился к труппе актеров Бербеджа.
Устойчивая традиция гласит, что он навлек на себя гнев сэра Томаса Люси, сначала браконьерством на оленей в парке этого дворянина, а затем, когда его привели к магистрату, написанием непристойной баллады о сэре Томасе, которая так возбудила гнев старого джентльмена, что Шекспир был вынужден бежать из страны. Старая запись[147] гласит, что поэт «был очень склонен ко всем неудачам в краже оленины и кроликов», неудача, вероятно, состояла в том, что его самого поймали, а не в отсутствии удачи в поимке кроликов. Насмешки, обрушившиеся на семью Люси в «Генрихе IV и Виндзорских проказницах», придают этому преданию некоторый вес. Николас Роу, опубликовавший первую жизнь Шекспира[148], является авторитетом для этой истории; но есть некоторые основания сомневаться, были ли в то время, когда Шекспир, как говорят, браконьерствовал в оленьем парке сэра Томаса Люси в Чарлскоте, олени или парк в упомянутом месте. Тема заслуживает некоторого скудного внимания, хотя бы для того, чтобы показать, насколько бесполезна попытка построить из слухов историю великой жизни, которая, к счастью, возможно, не имела современного биографа.
О его жизни в Лондоне с 1587 по 1611 год, в период его наибольшей литературной деятельности, мы ничего определенного не знаем. Мы можем судить только по его пьесам, и из них очевидно, что он вошел в бурлящую жизнь английской столицы с той же совершенной симпатией и пониманием, которые отличали его среди простых людей его родного Уорикшира. Первое достоверное упоминание о нем относится к 1592 году, когда появились резкие нападки Грина[149], ясно показывающие, что Шекспир за пять лет занял важное место среди драматургов. Затем появились извинения издателей памфлета Грина с их данью уважения безупречному характеру поэта и случайными литературными ссылками, которые показывают, что он был известен среди своих собратьев как «нежный Шекспир». Бен Джонсон говорит о нем: «Я любил этого человека и чту его память, по эту сторону идолопоклонства, так же, как и любую другую. Он был действительно честен и обладал открытой и свободной натурой». Если судить хотя бы по трем его самым ранним пьесам[150], то можно с достаточной степенью уверенности сказать, что за первые пять лет своей жизни в Лондоне он вошел в общество джентльменов и ученых, уловил их характерные манеры и выражения и благодаря своим знаниям и наблюдениям, а также гениальности был готов вплести в свои драмы всю волнующую жизнь английского народа.
Сами пьесы, а также свидетельства современников и его деловые успехи являются убедительным доказательством против традиции, согласно которой его жизнь в Лондоне была бурной и распутной, как у типичного актера и драматурга его времени.
Первая работа Шекспира, возможно, была работой помощника, подсобного рабочего в театре; но вскоре он стал актером, и записи старых лондонских театров показывают, что в последующие десять лет он занял видное место, хотя мало оснований полагать, что его причисляли к «звездам». В течение двух лет он работал над пьесами, и его курс здесь был точно таким же, как у других драматургов его времени. Он работал с другими людьми и пересматривал старые пьесы, прежде чем написать свою собственную, и таким образом приобрел практические знания своего искусства. Генрих VI (ок. 1590-1591) является примером этой работы по переделке, в которой, однако, его природная сила безошибочно проявляется. Три части Генриха VI (и Ричарда III, который относится к ним) представляют собой последовательность сцен из истории английских хроник, связанных вместе очень свободно; и только в последней есть некоторая определенная попытка единства. То, что он вскоре попал под влияние Марло, очевидно из зверств и напыщенности «Тита Андроника» и «Ричарда III». Первый, возможно, был написан обоими драматургами в сотрудничестве, или, возможно, был одним из ужасов Марло, оставшихся незаконченными из-за его ранней смерти и прерванных Шекспиром. Вскоре он оторвался от этой ученической работы, а затем появился в быстрой последовательности «Бесплодных усилий любви», «Комедии ошибок», «Двух веронцев», первых пьесах «Английских хроник»[151], «Сна в летнюю ночь» и «Ромео и Джульетты». Этот порядок более или менее предположителен; но широкое разнообразие этих пьес, а также их неровность и частые грубости отмечают первую или экспериментальную стадию творчества Шекспира. Это как если бы автор испытывал свою силу или, что более вероятно, испытывал характер своей аудитории. Ведь следует помнить, что, вероятно, главным мотивом Шекспира, как и других ранних драматургов, в самый активный и плодотворный период его творчества было желание угодить своей публике.
Стихи Шекспира, а не его драматические произведения, знаменуют начало его успеха. «Венера и Адонис» стала чрезвычайно популярной в Лондоне, и ее посвящение графу Саутгемптону принесло, согласно традиции, существенный денежный подарок, который, возможно, заложил основу для успеха Шекспира в бизнесе. Он, по-видимому, разумно вложил свои деньги и вскоре стал совладельцем театров «Глобус» и «Блэкфрайерс», в которых его пьесы представляли его собственные компании. Его успех и популярность росли поразительно. В течение десятилетия с момента его незаметного прибытия в Лондон он был одним из самых известных актеров и литераторов в Англии.
Стихи Шекспира, а не его драматические произведения, знаменуют начало его успеха. «Венера и Адонис» стала чрезвычайно популярной в Лондоне, и ее посвящение графу Саутгемптону принесло, согласно традиции, существенный денежный подарок, который, возможно, заложил основу для успеха Шекспира в бизнесе. Он, по-видимому, разумно вложил свои деньги и вскоре стал совладельцем театров «Глобус» и «Блэкфрайерс», в которых его пьесы представляли его собственные компании. Его успех и популярность росли поразительно. В течение десятилетия с момента его незаметного прибытия в Лондон он был одним из самых известных актеров и литераторов в Англии.
После его экспериментальной работы последовал ряд замечательных пьес: «Венецианский купец», «Как вам это понравится», «Двенадцатая ночь», «Юлий Цезарь», «Гамлет», «Макбет», «Отелло», «Король Лир», «Антоний и Клеопатра». Великие трагедии этого периода связаны с периодом уныния и печали в жизни поэта; но о его причинах мы ничего не знаем. Возможно, именно эта неизвестная грусть вернула его мысли к Стратфорду и, по-видимому, вызвала неудовлетворенность своей работой и профессией; но последнее обычно приписывают другим причинам. В его время на актеров и драматургов обычно смотрели с подозрением или презрением; и Шекспир, даже находясь в разгаре успеха, похоже, с нетерпением ждал того времени, когда он сможет удалиться в Стратфорд и жить жизнью фермера и сельского джентльмена. Его собственная семья и семья его отца были впервые освобождены от долгов; затем, в 1597 году, он купил New Place, лучший дом в Стратфорде, и вскоре добавил участок земли для фермерства, чтобы завершить свое поместье. Его профессия, возможно, помешала ему получить титул «джентльмена», или он, возможно, просто следовал обычаю того времени[152], когда он подал заявку и получил герб для своего отца, и таким образом косвенно обеспечил себе титул по наследству. Его домашние визиты становились все более частыми, пока около 1611 года он не покинул Лондон и не удалился на покой в Стратфорд.
Хотя Шекспир все еще был в расцвете сил, он вскоре оставил свою драматическую работу ради комфортной жизни сельского джентльмена. Из его поздних пьес «Кориолан», «Цимбелин», «Зимняя сказка» и «Перикл» показывают решительный отход от его предыдущей работы и указывают на еще один период экспериментов;на этот раз не для того, чтобы проверить свои силы, а чтобы уловить капризный юмор публики. Как это обычно бывает с людьми, любящими театр, они вскоре перешли от серьезной драмы к сентиментальным или более сомнительным зрелищам; и с Флетчером, который работал с Шекспиром и стал его преемником в качестве первого драматурга Лондона, упадок драмы уже начался. Однако в 1609 году произошло событие, которое дало Шекспиру шанс попрощаться с публикой. Исчез английский корабль, и все на борту были потеряны. Год спустя моряки вернулись домой, и их прибытие вызвало сильное волнение. Они потерпели крушение на неизвестных Бермудских островах и жили там десять месяцев, напуганные таинственными звуками, которые, как они думали, исходили от духов и дьяволов. Было опубликовано пять различных отчетов об этом захватывающем кораблекрушении, и Бермуды стали известны как «Остров Дьяволов». Шекспир взял эту историю, вызвавшую такой же общественный интерес, как и более позднее кораблекрушение, давшее нам Робинзона Крузо, и вплел ее в «Бурю». В том же году (1611) он, вероятно, продал свою долю в театрах «Глобус» и «Блэкфрайерс», и его драматическая работа была закончена. Несколько пьес, вероятно, остались незаконченными[153] и были переданы Флетчеру и другим драматургам.
То, что Шекспир мало думал о своем успехе и не имел ни малейшего представления о том, что его драмы были величайшими из когда-либо созданных миром, очевидно из того факта, что он не предпринял никаких попыток собрать или опубликовать свои произведения или даже спасти свои рукописи, которые были небрежно оставлены режиссерам театров и таким образом в конечном итоге попали к старьевщику. После нескольких лет тихой жизни, о которой у нас меньше записей, чем о сотнях простых сельских джентльменов того времени, Шекспир умер в вероятную годовщину своего рождения, 23 апреля 1616 года. Ему дали гробницу в алтаре приходской церкви, не из-за его превосходства в литературе, а из-за его интереса к делам сельской деревни. И по печальной иронии судьбы, широкий камень, покрывавший его гробницу — теперь объект почитания для тысяч людей, ежегодно посещающих маленькую церковь — был начертан следующим образом:
Добрый друг, ради Иисуса воздержись.
Копать пыль, заключённую в сердце;
Благословен тот человек, который пощадит эти камни,
И будь проклят тот, кто тронет мои кости.
Этот жалкий стих о величайшем поэте мира был, несомненно, предназначался как предостережение какому-нибудь глупому могильщику, чтобы он не опустошил могилу и не отдал почетное место какому-нибудь любезному джентльмену, который отдал приходу больше десятины.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ШЕКСПИРА.
======================
На момент смерти Шекспира в рукописях в различных театрах существовало двадцать одна пьеса. Несколько других уже были напечатаны в формате кварто, и последние являются единственными публикациями, которые могли получить одобрение самого поэта. Более вероятно, что они были стенографированы каким-то слушателем на пьесе, а затем «пиратски» перепечатаны каким-то издателем для собственной выгоды. Первое печатное собрание его пьес, теперь называемое Первым фолио (1623), было сделано двумя актерами, Хемингом и Конделлом, которые утверждали, что имели доступ к бумагам поэта и сделали идеальное издание, «чтобы сохранить память о столь достойном друге и товарище». Оно содержит тридцать шесть из тридцати семи пьес, обычно приписываемых Шекспиру, Перикл опущен. Это знаменитое Первое фолио было напечатано с рукописей театральных домов и с печатных кварто, содержащих множество заметок и изменений отдельных актеров и постановщиков. Более того, в нем было полно типографских ошибок, хотя редакторы заявляли о большой тщательности и точности; и поэтому, хотя это единственное авторитетное издание, которым мы располагаем, оно не представляет большой ценности для определения дат или классификации пьес, существовавших в сознании Шекспира.
Несмотря на эту неопределенность, внимательное прочтение пьес и поэм оставляет у нас впечатление четырех различных периодов творчества, вероятно, соответствующих росту и жизненному опыту поэта. Это:
(1) период ранних экспериментов. Он отмечен молодостью и буйством воображения, экстравагантностью языка и частым использованием рифмованных двустиший с белым стихом. Период датируется его прибытием в Лондон и заканчивается 1595 годом. Типичными произведениями этого первого периода являются его ранние поэмы «Бесплодные усилия любви», «Два веронца» и «Ричард III».
(2) Период быстрого роста и развития, с 1595 по 1600 год.
Такие пьесы, как «Венецианский купец», «Сон в летнюю ночь», «Как вам это понравится» и «Генрих IV», написанные в этот период, демонстрируют более тщательную и художественную работу, лучшие сюжеты и заметное увеличение знаний о человеческой природе.
(3) Период уныния и депрессии с 1600 по 1607 год, который знаменует полную зрелость его сил. Что вызвало эту очевидную печаль, неизвестно; но ее обычно приписывают какому-то личному опыту, в сочетании с политическими неудачами его друзей, Эссекса и Саутгемптона. Сонеты с их нотой личного разочарования, «Двенадцатая ночь», которая является «прощанием веселья» Шекспира, и его великие трагедии «Гамлет», «Лир», «Макбет», «Отелло» и «Юлий Цезарь» относятся к этому периоду.
(4) Период восстановленной безмятежности, затишья после бури, который ознаменовал последние годы литературного творчества поэта. «Зимняя сказка» и «Буря» — лучшие из его поздних пьес, но все они демонстрируют отход от его предыдущих работ и указывают на второй период экспериментов со вкусами капризной публики.
Прочитать подряд четыре пьесы, взяв типичное произведение из каждого из вышеуказанных периодов, — один из лучших способов быстро понять реальную жизнь и ум Шекспира. Ниже приведен полный список с приблизительными датами его произведений, классифицированных в соответствии с вышеуказанными четырьмя периодами.
Первый период, ранний эксперимент.
==================================
Венера и Адонис, Похищение Лукреции, 1594;
Тит Андроник, Генрих VI (три части), 1590-1591;
Бесплодные усилия любви, 1590;
Комедия ошибок, Два веронца, 1591-1592;
Ричард III, 1593;
Ричард II, Король Иоанн, 1594-1595.
Второй период, развитие.
===========================
«Ромео и Джульетта», «Сон в летнюю ночь», 1595;
«Венецианский купец», «Генрих IV» (первая часть), 1596;
«Генрих IV» (вторая часть), «Виндзорские проказницы», 1597;
«Много шума из ничего», 1598;
«Как вам это понравится», «Генрих V», 1599.
Третий период, Зрелость и Мрак.
================================
Сонеты (1600-?),
Двенадцатая ночь, 1600;
Укрощение строптивой, Юлий Цезарь, Гамлет, Троил и Крессида, 1601-1602;
Все хорошо, что хорошо кончается, Мера за меру, 1603;
Отелло, 1604;
Король Лир, 1605;
Макбет, 1606;
Антоний и Клеопатра, Тимон Афинский, 1607.
Четвертый период, поздний эксперимент
======================================
Кориолан, Перикл, 1608;
«Цимбелин», 1609;
«Зимняя сказка», 1610-1611;
«Буря», 1611;
«Генрих VIII» (незакончен).
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ.
=============================
В истории, легендах и рассказах Шекспир находил материал почти для всех своих драм; и поэтому их часто делят на три класса, называемые историческими пьесами, как Ричард III и Генрих V; легендарными или частично историческими пьесами, как Макбет, Король Лир и Юлий Цезарь; и вымышленными пьесами, как Ромео и Джульетта и Венецианский купец. Шекспир придумал лишь немногие, если вообще придумал, сюжеты или истории, на которых основаны его драмы, но свободно заимствовал их, следуя обычаю своего времени, где бы он их ни находил. В отношении своего легендарного и исторического материала он в основном зависел от «Хроник Англии, Шотландии и Ирландии» Холиншеда и от перевода Нортом знаменитых «Жизнеописаний» Плутарха.
Половина его пьес вымышлены, и в них он использовал самые популярные романы того времени, по-видимому, полагаясь больше всего на итальянских рассказчиков. Только два или три из его сюжетов, как в «Потерянных трудах» и «Виндзорских проказницах», считаются оригинальными, и даже они сомнительны. Иногда Шекспир переделывал более старую пьесу, как в «Генрихе VI», «Комедии ошибок» и «Гамлете»; и по крайней мере в одном случае он ухватился за инцидент с кораблекрушением, который очень интересовал Лондон, и сделал из него оригинальную и захватывающую пьесу «Буря», во многом в том же духе, который движет нашими современными драматургами, когда они драматизируют популярный роман или военную историю, чтобы завоевать общественное внимание.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ДРАМАТИЧЕСКОМУ ТИПУ.
======================================
Драмы Шекспира обычно делятся на три класса, называемые трагедиями, комедиями и историческими пьесами. Строго говоря, драма имеет только два подразделения, трагедию и комедию, в которые включены многочисленные подчиненные формы трагикомедии, мелодрамы, лирической драмы (оперы), фарса и т. д. Трагедия — это драма, в которой главные герои вовлечены в отчаянные обстоятельства или ведомы непреодолимыми страстями. Она неизменно серьезна и величественна. Движение всегда величественно, но становится все более и более быстрым по мере приближения к кульминации; и конец всегда катастрофичен, приводя к смерти или ужасному несчастью главных героев.
Как говорит монах у Чосера, прежде чем начать «разыгрывать трагедию»:
Трагедия — это история о том, кто был в великом процветании,
И упал с высоты
В нищету и закончил жалко.
Комедия, с другой стороны, является драмой, в которой персонажи помещены в более или менее юмористические ситуации. Движение легкое и часто веселое, и пьеса заканчивается всеобщей доброй волей и счастьем. Историческая драма стремится представить некоторую историческую эпоху или персонажа и может быть либо комедией, либо трагедией. Следующий список включает лучшие пьесы Шекспира в каждом из трех классов; но порядок указывает лишь на личное мнение автора об относительных достоинствах пьес в каждом классе. Таким образом, «Венецианский купец» будет первой из комедий для чтения новичком, а «Юлий Цезарь» является прекрасным введением в исторические пьесы и трагедии.
Комедии.
========
«Венецианский купец»,
«Сон в летнюю ночь»,
«Как вам это понравится»,
«Зимняя сказка»,
«Буря»,
«Двенадцатая ночь».
Трагедии.
=========
Ромео и Джульетта,
Макбет,
Гамлет,
Король Лир,
Отелло.
Исторические пьесы.
==================
Юлий Цезарь,
Ричард III,
Генрих IV,
Генрих V,
Кориолан,
Антоний и Клеопатра.
СОМНИТЕЛЬНЫЕ ПЬЕСЫ.
====================
Достаточно точно известно, что некоторые пьесы, обычно приписываемые Шекспиру, частично являются работами других драматургов. Первая из этих сомнительных пьес, часто называемая дошекспировской группой, — это «Тит Андроник» и первая часть «Генриха VI». Шекспир, вероятно, работал с Марло над двумя последними частями «Генриха VI» и над «Ричардом III». Три пьесы, «Укрощение строптивой», «Тимон» и «Перикл», являются лишь частично работами Шекспира, но другие авторы неизвестны. «Генрих VIII» — работа Флетчера и Шекспира, мнения разделились относительно того, помогал ли Шекспир Флетчеру или это была незаконченная работа Шекспира, которая была отдана в руки Флетчера для завершения. «Два знатных родственника» — пьеса, которую обычно не можно найти в изданиях Шекспира, но ее часто помещают среди его сомнительных работ. Большая часть пьесы, несомненно, принадлежит Флетчеру. «Эдуард III» — одна из нескольких примитивных пьес, которые сначала были опубликованы анонимно, а затем приписаны Шекспиру издателями, желавшими продать свой товар.
В нем есть несколько отрывков, которые явно указывают на Шекспира, однако все внешние доказательства говорят против его авторства.
СТИХОТВОРЕНИЯ ШЕКСПИРА.
=======================
Обычно утверждается, что если бы Шекспир не написал пьес, то одни его стихи дали бы ему командное место в елизаветинскую эпоху. Тем не менее, в различных историях нашей литературы прослеживается явное желание как можно быстрее восхвалять и обходить стороной все, кроме сонетов; и причину этого можно назвать откровенно. Его две длинные поэмы, «Венера и Адонис» и «Похищение Лукреции», содержат много поэтической фантазии; но следует сказать, что обе они неприятны и что они растянуты до ненужной длины, чтобы показать игру юношеского воображения. Они были чрезвычайно популярны во времена Шекспира, но по сравнению с его великими драматическими произведениями эти поэмы сейчас имеют второстепенное значение.
Сонеты Шекспира, числом сто пятьдесят четыре, являются единственным прямым выражением собственных чувств поэта, которым мы располагаем; поскольку его пьесы являются самыми безличными во всей литературе. Они были опубликованы вместе в 1609 году; но если они и имели какое-то единство в уме Шекспира, их план и цель трудно обнаружить. Некоторые критики считают их просто литературными упражнениями; другие — выражением некоего личного горя в третий период литературной карьеры поэта. Третьи, уловив намек в начале сонета «Две любви у меня, утешения и отчаяния», делят их все на два класса, адресованные мужчине, который был другом Шекспира, и женщине, которая презирала его любовь. Читатель вполне может избежать таких классификаций и прочитать несколько сонетов, как, например, двадцать девятый, и позволить им высказать свое собственное послание. Некоторые из них тривиальны и достаточно искусственны, предполагая сложные упражнения пианиста; но большинство отличается тонкими мыслями и изысканным выражением. Кое-где есть один, как тот, начинающийся
Когда к сеансам сладостной безмолвной мысли
Я вызываю воспоминания о вещах прошлых,
которая еще долго будет преследовать читателя, как воспоминание о старинной немецкой мелодии.
МЕСТО И ВЛИЯНИЕ ШЕКСПИРА.
=========================
Шекспир, по общему признанию, занимает первое место в мировой литературе, и его подавляющее величие делает затруднительным его критику или даже восхваление. Только два поэта, Гомер и Данте, были названы вместе с ним; но каждый из них писал в узких рамках, в то время как гений Шекспира включал весь мир природы и людей. Одним словом, он является универсальным поэтом. Изучать природу в его произведениях - все равно что исследовать новую и прекрасную страну; изучать человека в его произведениях - все равно что войти в большой город, рассматривая пеструю толпу, как видишь большой маскарад, в котором прошлое и настоящее смешиваются свободно и привычно, как будто все мертвые снова оживают. И чудесно то, что в этом маскараде всех видов и состояний людей, то, что Шекспир снимает маску с каждого лица, позволяет нам увидеть человека таким, какой он есть в своей собственной душе, и показывает нам в каждом из них некий зародыш добра, некую «душу добра» даже во зле. Ибо Шекспир не делает неопределенных нот и не вызывает сомнений, чтобы добавить их к бремени вашего собственного. Добро всегда побеждает зло в долгосрочной перспективе; и любовь, вера, труд и долг — это четыре элемента, которые во все века делают мир правильным. Критиковать или восхвалять гения, создавшего этих мужчин и женщин, значит критиковать или восхвалять само человечество.
О его влиянии на литературу говорить также трудно. Гёте выражает общепринятое литературное суждение, когда говорит: «Я не помню, чтобы какая-либо книга, человек или событие в моей жизни когда-либо производили на меня такое сильное впечатление, как пьесы Шекспира». Его влияние на наш собственный язык и мышление не поддается исчислению. Шекспир и Библия короля Якова — два великих хранителя английской речи; и тот, кто регулярно их читает, обнаруживает, что обладает стилем и словарным запасом, которые не поддаются критике. Даже те, кто не читал Шекспира, все равно бессознательно руководствуются им, поскольку его мысли и выражения настолько проникли в нашу жизнь и литературу, что невозможно, пока человек говорит на английском языке, избежать его влияния.
Его жизнь была нежной, и стихии
Так смешались в нем, что Природа могла бы встать
И сказать всему миру,
"Это был человек!"
V. СОВРЕМЕННИКИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ШЕКСПИРА В ДРАМАТУРГИИ
=======================================================
УПАДОК ДРАМЫ.
=============
Было неизбежно, что драма должна была прийти в упадок после Шекспира, по той простой причине, что не было никого достаточно великого, чтобы занять его место. Помимо этого, действовали и другие причины, и главная из них была у самого источника елизаветинских драм. Следует помнить, что наши первые драматурги писали, чтобы угодить своей аудитории; что драма возникла в Англии из-за желания патриотического народа увидеть что-то из волнующей жизни того времени, отраженной на сцене. Ведь в те дни не было газет или журналов, и люди приходили в театры не только для того, чтобы развлечься, но и чтобы получить информацию. Как дети, они хотели увидеть историю в действии; и как взрослые, они хотели знать, что она означает. Шекспир исполнил их желание. Он дал им их историю, и его гений был достаточно велик, чтобы показать в каждой пьесе не только их собственную жизнь и страсти, но и что-то из смысла всей жизни и той вечной справедливости, которая использует войну человеческих страстей для своих собственных великих целей. Таким образом, добро и зло свободно смешиваются в его драмах; но зло никогда не бывает привлекательным, а добро торжествует так же неизбежно, как судьба. Хотя его язык иногда груб, мы должны помнить, что в его эпоху было принято говорить несколько грубо, и что в языке, как и в мыслях и чувствах, Шекспир намного превосходит большинство своих современников.
С его преемниками все это изменилось. Сама публика постепенно изменилась, и вместо простых людей, жаждущих истории и информации, мы видим все большую и большую долю тех, кто ходил на спектакль, потому что им больше нечего было делать. Они хотели только развлечений, и поскольку они притупили праздностью желание простых и полезных развлечений, они требовали чего-то более сенсационного. Преемники Шекспира угождали извращенным вкусам этой новой публики. Им не хватало не только гения Шекспира, но и его широкого милосердия, его нравственного проникновения в жизнь. За исключением Бена Джонсона, они пренебрегли тем простым фактом, что человек в своей глубочайшей природе является нравственным существом, и что только пьеса, которая удовлетворяет всю природу человека, показывая торжество нравственного закона, может когда-либо полностью удовлетворить аудиторию или народ.~
Бомонт и Флетчер, забыв о глубоком смысле жизни, стремились к эффекту, усиливая сенсационность своих пьес; Уэбстер наслаждался кровавыми и громовыми трагедиями; Массинджер и Форд сделали ещё один шаг вниз, создавая злые и развратные сцены ради них самих, делая персонажей и ситуации всё более безнравственными, пока, несмотря на мастерство этих драматургов, сцена не стала неискренней, легкомысленной и дурной. Ода Бена Джонсона «Покиньте ненавистную сцену» – это суждение широкой и честной натуры, уставшей от пьес и актёров того времени. Мы с чувством облегчения читаем, что в 1642 году, всего через двадцать шесть лет после смерти Шекспира, обе палаты парламента проголосовали за закрытие театров как рассадников лжи и безнравственности.
БЕН ДЖОНСОН (1573?-1637)
========================
Лично Джонсон — самая влиятельная литературная фигура среди елизаветинцев. В течение двадцати пяти лет он был литературным диктатором Лондона, главой всех остроумцев, которые собирались каждый вечер в старой таверне «Дьявол». Благодаря своей большой учености, способностям и главенствующему положению поэта-лауреата, он открыто противостоял своим современникам и романтическим тенденциям того времени. Он храбро боролся за две вещи: восстановить классическую форму драмы и удержать сцену от упадка. По-видимому, он потерпел неудачу; романтическая школа укрепила свои позиции сильнее, чем когда-либо; сцена быстро пришла к концу, такому же печальному, как и у ранних драматургов. Тем не менее, его влияние жило и становилось все сильнее, пока, во многом подкрепленное французским влиянием, не привело к так называемому классицизму восемнадцатого века.
ЖИЗНЬ. Джонсон родился в Вестминстере около 1573 года. Его отец, образованный джентльмен, лишился имущества и был брошен в тюрьму королевой Марией; из этого следует, что семья была довольно знатной. От матери он унаследовал некоторые яркие черты характера, и единственное краткое упоминание в произведениях Джонсона позволяет нам представить себе, какой она была женщиной. Это происходит в тот момент, когда Джонсон рассказывает Драммонду о случае, когда его бросили в тюрьму за то, что некоторые эпизоды комедии «На восток!» оскорбили короля Якова, и ему грозила ужасная смерть после того, как ему отрезали уши и нос.
Он рассказывает, как после помилования он пировал с друзьями, когда вошла его «старая мать» и показала бумагу, полную «сильного яда», который она намеревалась подмешать ему в напиток перед казнью. И чтобы показать, что она «не грубиянка», она намеревалась сначала выпить яд сама. Этот инцидент тем более показателен, что Чепмен и Марстон, один из которых был его другом, а другой – врагом, были брошены в тюрьму как авторы романа «На восток!», а грубиян Бен Джонсон сразу же заявил, что тоже приложил руку к написанию, и присоединился к ним в тюрьме.
Отец Джонсона вышел из тюрьмы, отказавшись от своего имения, и стал священником. Он умер незадолго до рождения сына, а два года спустя мать вышла замуж за лондонского каменщика. Мальчика отправили в частную школу, а позже он самостоятельно поступил в Вестминстерскую школу, где помощник учителя, Кэмден, пораженный способностями мальчика, обучал его и во многом поддерживал. Некоторое время он, возможно, учился в Кембриджском университете; но вскоре отчим определил его на каменщика. Он сбежал оттуда и отправился с английской армией сражаться с испанцами в Нижние Земли. Его самым известным подвигом там стал поединок между рядами с одним из солдат противника на глазах у обеих армий. Джонсон убил своего человека, забрал его оружие и вернулся в свои ряды, чем порадовал старых нормандских трубадуров. Вскоре он вернулся в Англию и поспешно женился в возрасте девятнадцати или двадцати лет. Пять лет спустя мы видим его, подобно Шекспиру, работающим актёром и редактором старых пьес в театре. После этого его жизнь стала разнообразной и бурной. Он убил актёра на дуэли и избежал повешения лишь благодаря «благотворительности духовенства»[154]; однако он потерял всё своё скудное имущество и был пожизненно заклеймен на большом пальце левой руки. В своей первой великой пьесе, «Каждый в своём нраве» (1598), Шекспир сыграл одну из ролей; и, возможно, это положило начало их долгой дружбе. Вскоре последовали и другие пьесы. После восшествия на престол Якова I маски Джонсона принесли ему королевскую милость, и он был удостоен звания поэта-лауреата.
Он стал несомненным лидером литераторов своего времени, хотя его грубая честность и ненависть к литературным тенденциям того времени стали причиной его ссор практически со всеми из них. В 1616 году, вскоре после отставки Шекспира, он перестал писать для сцены и посвятил себя учёбе и серьёзной работе. В 1618 году он пешком отправился в Шотландию, где посетил Драммонда, от которого до нас дошли скудные свидетельства его богатой жизни. Впечатления от этого путешествия, названные «Пешим паломничеством», сгорели в пожаре до публикации. После этого он писал меньше, и его творчество увяло; но, несмотря на растущую бедность и немощь, мы замечаем в его поздних произведениях, особенно в незаконченном «Печальном пастухе», определённую мягкость и чуткое человеческое сочувствие, которых не хватало его ранним произведениям. Он умер в нищете в 1637 году. В отличие от Шекспира, его смерть оплакивали как национальное бедствие, и он был похоронен со всеми почестями в Вестминстерском аббатстве. На его могиле была установлена ;;мраморная плита, на которой в качестве эпитафии были высечены слова: «О, редкий Бен Джонсон».
ПРОИЗВЕДЕНИЯ БЕНА ДЖОНСОНА. Творчество Джонсона резко контрастирует с творчеством Шекспира и поздних елизаветинских драматургов. В одиночку он боролся с романтизмом своего времени и стремился восстановить классические стандарты. Поэтому всё действие его драмы обычно охватывает всего несколько часов или один день. Он никогда не вольно обращается с историческими фактами, как Шекспир, но точен до мельчайших деталей. Его драмы изобилуют классической ученостью, тщательно и логично выстроены, комедия и трагедия разделены, а не вытесняют друг друга, как это происходит у Шекспира и в жизни. В одном отношении его комедии достойны внимательного прочтения: они чрезвычайно реалистичны, представляя мужчин и женщин того времени именно такими, какими они были. Из нескольких сцен Джонсона мы можем понять — лучше, чем из всех пьес Шекспира, — как говорили и действовали мужчины в эпоху Елизаветы.
Первая комедия Джонсона, «У каждого свой юмор», служит ключом ко всем его драмам. Слово «юмор» в его эпоху обозначало какую-то характерную причуду или свойство общества. Джонсон наделяет своего главного героя ярко выраженным юмором, преувеличивает его, подобно карикатуристу, увеличивая самую характерную черту лица, и так удерживает наше внимание на ней, что все остальные качества теряются из виду.
Именно этот приём Диккенс позднее использовал во многих своих романах. «У каждого свой нрав» – первая из трёх сатир. Её основная цель – высмеять городские нравы. Вторая, «Пиршества Синтии», высмеивает придворные нравы; а третья, «Поэт», возникшая в результате ссоры с современниками, критикует ложные стандарты поэтов того времени.
Три самые известные комедии Джонсона — «Вольпоне, или Лисица», «Алхимик» и «Эпикоэна, или Молчаливая женщина». «Вольпоне» — это острый и беспощадный анализ человека, одержимого непреодолимой страстью к деньгам как таковым. Первые слова в первой сцене — ключ ко всей комедии:
(Вольпоне)
Доброе утро, день! А завтра — моё золото!
Открой святилище, чтобы я мог увидеть свою святую.
Моска отодвигает занавес и обнаруживает груды
золота, посуды, драгоценностей и т. д.
Да здравствует душа мира и моя!
Вольпоне приумножает своё богатство, играя на алчности людей. Он притворяется, будто находится при смерти, и его «женихи», зная его любовь к наживе и отсутствие наследников, лицемерно пытаются скрасить его последние минуты, одаривая его богатыми подарками, чтобы он оставил им всё своё богатство. Интриги этих женихов составляют сюжет пьесы и показывают, до каких позорных глубин может довести человека алчность.
«Алхимик» – это исследование шарлатанства, с одной стороны, и легковерия, с другой, основанное на средневековой идее философского камня, и применимое как к патентованным лекарствам и схемам быстрого обогащения наших дней, так и к специфическим формам шарлатанства, с которыми Джонсон был более знаком. По сюжету и художественному построению «Алхимик» – почти совершенный образец лучшей английской драмы. В нём есть несколько замечательно хороших отрывков, и это самая читабельная из пьес Джонсона.
«Эпикоэна, или Молчаливая женщина» — прозаическая комедия, отличающаяся искусным строем, полная жизни, изобилующая забавными и неожиданными ситуациями. Вот краткий обзор, по которому читатель может судить, из каких материалов Джонсон создавал свои комедии.
Главный герой — Мороз, богатый старикан, чье чувство юмора — панический страх перед шумом.
Он живет на такой узкой улице, что по ней не проедет ни один экипаж; он обкладывает двери мягкими войлоками; затыкает замочную скважину; кладет матрасы на лестницу. Он увольняет слугу, который носит скрипучие ботинки; заставляет всех остальных ходить в толстых чулках; и они должны отвечать ему знаками, так как он не выносит, когда кто-то говорит, кроме него самого. Он лишает наследства своего бедного племянника Эжени и, чтобы быть уверенным, что последний не получит от него никаких денег, решает жениться. Его доверенным лицом в этом деликатном деле является парикмахер Катберд, который, в отличие от себе подобных, никогда не разговаривает, пока к нему не обратятся, и даже не стучит ножницами во время работы. Катберд (который тайно в сговоре с племянником) рассказывает ему об Эпикене, редкой молчаливой женщине, и Мороз так восхищен ее молчанием, что решает жениться на ней немедля. Катберд приводит священника с сильной простудой, который может говорить только шепотом, чтобы поженить их; И когда священник кашляет после церемонии, Мороз требует вернуть пять шиллингов из платы. Чтобы сэкономить, священник кашляет ещё сильнее, и его спешно выгоняют из дома. Молчаливая женщина сразу же обретает голос после свадьбы, начинает громко разговаривать и проводить реформы в доме, доводя Мороза до отчаяния. В этот момент из соседнего дома умело направляется шумная компания, с барабанами и трубами, а также ссорящимися мужем и женой, чтобы отпраздновать свадьбу. Мороз спасается бегством и оказывается сидящим, словно обезьяна, на перекладине на чердаке, в ночных колпаках, завязанных на ушах. Он добивается развода, но приходит в отчаяние от громких аргументов адвоката и священнослужителя, которые оказываются не кем иным, как переодетым Катбердом и капитаном дальнего плавания. Когда Мороз теряет всякую надежду, племянник предлагает освободить его от жены и её шумных друзей, если тот выделит ему пятьсот фунтов в год. Мороз предлагает ему всё, что угодно, лишь бы избавиться от мучений, и подписывает соответствующий документ. Затем наступает сюрприз: Евгения срывает парик с Эпикоэны и показывает переодетого мальчика.
Можно увидеть, что «Молчаливая женщина» с ее стремительным действием и неожиданными ситуациями дает актерам прекрасную возможность проявить себя; однако прочтение пьесы, как и большинства комедий Джонсона, омрачено низкими интригами, показывающими плачевное состояние нравов среди высших классов.
Помимо этих и многих других менее известных комедий, Джонсон написал две великие трагедии, «Сеян» (1603) и «Катилина» (1611), основанные на строгих классических принципах. Оставив театральную деятельность, Джонсон написал множество масок в честь Якова I и королевы Анны, которые придворные сановники исполняли в изысканных декорациях. Лучшие из них – «Сатир», «Пенаты», «Маска черноты», «Маска красоты», «Смех и крик после Купидона» и «Маска королев». Во всех своих пьесах Джонсон демонстрировал ярко выраженный лирический дар, и некоторые из его небольших стихотворений и песен, такие как «Триумф Харис», «Пей за меня только твоими глазами» и «Памяти моей возлюбленной матери», сейчас более известны, чем его великие драматические произведения. Отдельный том прозы под названием «Лес, или Открытия, сделанные в отношении людей и материи» представляет собой интересный сборник коротких эссе, которые больше похожи на творчество Бэкона, чем на любое другое произведение того времени.
БОМОНТ И ФЛЕТЧЕР
================
Творчество этих двух людей настолько тесно переплетено, что, хотя Флетчер пережил Бомонта на девять лет, а последний не участвовал примерно в сорока пьесах, носящих их имена, мы по-прежнему объединяем их, и только учёные пытаются разделить их произведения, чтобы отдать каждому из них должное. В отличие от большинства драматургов елизаветинской эпохи, оба они происходили из знатных и образованных семей и получили университетское образование. Их творчество, в отличие от творчества Джонсона, отличается яркой романтикой, и во всём, какой бы грубой или жестокой ни была сцена, всё же присутствует, как отмечал Эмерсон, тонкое «признание аристократизма».
Бомонт (1584–1616) был братом сэра Джона Бомонта из Лестершира. Из Оксфорда он приехал в Лондон изучать право, но вскоре оставил его, чтобы писать для театра. Флетчер (1579–1625) был сыном епископа Лондонского и во всём своём творчестве демонстрирует влияние своего высокого общественного положения и кембриджского образования. Два драматурга познакомились в таверне «Русалка» под руководством Бена Джонсона и вскоре стали неразлучными друзьями, живя и работая вместе. Предание гласит, что Бомонт привнёс в пьесу рассудительность и основательность, в то время как Флетчер – возвышенную сентиментальность и лирическую поэзию, без которых пьеса елизаветинской эпохи была бы неполной.
Из их совместных пьес наиболее известны две — «Филастер», чья давняя тема, как и в «Цимбелине» и «Гризельде», — ревность влюблённого и верность девушки, и «Трагедия девицы». Что касается творчества Флетчера, наиболее интересный литературный вопрос заключается в том, насколько он был связан с шекспировским «Генрихом VIII» и насколько Шекспир помог ему в «Двух знатных родственниках».
ДЖОН ВЕБСТЕР.
=============
О биографии Вебстера нам ничего не известно, кроме того, что он был широко известен как драматург при Якове I. Его исключительная выразительная сила ставит его в один ряд с Шекспиром; но его талант, по-видимому, был в значительной степени посвящен кровавой и громовой пьесе, начатой ;;Марло. Две его самые известные пьесы — «Белый дьявол» (опубликовано в 1612 г.) и «Герцогиня Мальфи» (опубликовано в 1623 г.). Последняя, ;;несмотря на свои ужасы, делает его одним из величайших мастеров английской трагедии. Следует помнить, что в этой пьесе он стремился воспроизвести итальянскую жизнь XVI века, и для этого не нужны никакие воображаемые ужасы. История любого итальянского двора или города этого периода представляет больше порока, насилия и бесчестия, чем могло вообразить даже мрачное воображение Вебстера. Все так называемые кровавые трагедии елизаветинского периода, начиная с «Испанской трагедии» Томаса Кида, как бы они ни осуждали грубый вкус английской публики, — это всего лишь прожекторы, брошенные на историю ужасной тьмы.
ТОМАС МИДДЛТОН (1570?–1627).
===========================
Миддлтон наиболее известен двумя великими пьесами: «Подменыш»[156] и «Женщины, берегитесь женщин». По поэтичности и стилистике они порой почти достойны стоять в одном ряду с пьесами Шекспира; в остальном же, своей сенсационностью и неестественностью, они оскорбляют моральные чувства и отталкивают современного читателя. Две более ранние пьесы, «Уловка в поимке старика», его лучшая комедия, и «Честная ссора», его самая ранняя трагедия, менее зрелы по мысли и выражению, но более читабельны, поскольку, по-видимому, выражают собственное представление о драме Миддлтона, а не мнение коррумпированного двора и драматургов его позднего времени.
ТОМАС ХЕЙВУД (1580?–1650?).
==========================
Жизнь Хейвуда, о которой нам известно мало подробностей, охватывает весь период елизаветинской драмы.
По его собственному утверждению, он внёс вклад в славу этой драмы, по крайней мере, в большую часть почти двухсот двадцати пьес. Это был огромный объём работы; но, по-видимому, его вдохновлял современный литературный дух следования за лучшими рынками и ковать железо, пока горячо. Естественно, что в таких обстоятельствах создавать хорошие произведения было невозможно, даже для гения, и мало какие из его пьес известны сейчас. Две лучшие, если читатель сам захочет составить себе представление о несомненном таланте Хейвуда, — это «Женщина, убитая добротой», трогательная история из домашней жизни, и «Прекрасная дева Запада», мелодрама с обилием боевых сцен в духе народных драк.
ТОМАС ДЕККЕР (1570–?).
======================
Деккер приятно контрастирует с большинством драматургов того времени. Всё, что мы о нём знаем, почерпнуто из его произведений, которые демонстрируют весёлый и жизнерадостный характер, приятный и приятный в общении. Лучшее выражение личности и эксцентричного гения Деккера читатель найдёт в «Празднике сапожников» – юмористическом исследовании жизни простых рабочих, и «Старом Фортунатусе» – волшебной драме о шляпе, исполняющей желания, и бесконечных деньгах. Независимо от того, была ли пьеса предназначена для детей или нет, она гораздо больше очаровывала пожилых людей, чем молодёжь, и стала невероятно популярной.
МАССИНДЖЕР, ФОРД, ШИРЛИ.
=========================
Эти трое знаменуют собой конец елизаветинской драмы. Их творчество, созданное в основном в период борьбы между актёрами и коррумпированным двором, с одной стороны, и пуританами, с другой, демонстрирует сознательное отступление не только от пуританских стандартов, но и от высоких идеалов собственного искусства, чтобы потакать развращённому вкусу высших классов.
Филип Массинджер (1584–1640)
==============================
был драматическим поэтом с огромным природным дарованием; но его сюжеты и ситуации обычно настолько натянуты и искусственны, что современному читателю они неинтересны. В своей лучшей комедии «Новый способ платить старые долги» он добился огромной популярности и подарил нам образ сэра Джайлза Оверрича, одного из типичных персонажей английской сцены. Его лучшие пьесы — «Великий герцог Флоренции», «Дева-мученица» и «Фрейлина».
Джон Форд (1586–1642?) и Джеймс Ширли (1596–1666)
==================================================
оставили нам мало непреходящей литературной ценности, и их произведения читают только те, кто желает понять весь подъем и падение драмы.
Отдельная сцена в пьесах Форда столь же сильна, как и всё, что было создано в елизаветинскую эпоху; но в целом пьесы неестественны и утомительны. Вероятно, его лучшая пьеса – «Разбитое сердце» (1633). Ширли был склонен подражать своим предшественникам, и само его подражание характерно для эпохи, утратившей своё вдохновение. Одна пьеса, «Гайд-парк», с её легкомысленными, реалистичными диалогами, иногда читается как отражение модных сплетен того времени. Задолго до смерти Ширли актёры восклицали: «Прощай! Прошло время Отелло». Парламент проголосовал за закрытие театров, тем самым спасая драму от более бесславной гибели в распутстве.
VI. ПРОЗАИКИ
=============
ФРЭНСИС БЭКОН (1561-1626)
==========================
В Бэконе мы видим одну из тех сложных и противоречивых натур, которые приводят биографа в отчаяние. Если писатель восхищается Бэконом, он находит слишком много того, что ему приходится прощать или обходить молчанием; а если он, опираясь на закон, осуждает алчность и нечестность своего героя, он находит достаточно морального мужества и благородства, чтобы усомниться в справедливости собственного суждения. С одной стороны, суровая дань уважения Бена Джонсона его могуществу и способностям, а с другой – заключение Халлама о том, что он был «человеком, который, будучи наделен высшими дарами Небес, привычно злоупотреблял ими ради самых ничтожных земных целей – сдавал их за гинеи, должности и титулы на службу несправедливости, алчности и угнетению».
Отбросив чужие мнения и полагаясь лишь на факты жизни Бэкона, мы видим, с одной стороны, политика, холодного, расчётливого, эгоистичного, а с другой – литератора и учёного с впечатляющей преданностью истине ради неё самой; здесь человек, использующий сомнительные средства для достижения своих собственных интересов, а там – человек, ревностно и неустанно стремящийся проникнуть в тайные пути природы, преследуя лишь одну цель – содействовать интересам своих ближних. Итак, не зная тайных мотивов и движущих сил жизни этого человека, мы неизбежно воздерживаемся от суждений. Бэкон, по-видимому, был одной из тех двойственных натур, судить о которых дано только Богу из-за причудливого сочетания в них интеллектуальной силы и нравственной слабости.
ЖИЗНЬ. Бэкон был сыном сэра Николаса Бэкона, лорда-хранителя печати, и ученой Энн Кук, невестки лорда Берли, величайшего из государственных деятелей королевы. Благодаря этим связям, а также природным способностям, он был привлечен ко двору, и в детстве Елизавета называла его «маленьким лордом-хранителем». В двенадцать лет он поступил в Кембридж, но через два года покинул университет, заявив, что вся система образования в корне ошибочна, а система Аристотеля, лежавшая в основе всей философии того времени, – детским заблуждением, поскольку за столетия она «не принесла никаких плодов, а лишь густые сухие и бесполезные ветви». Странно, даже для четырнадцатилетнего второкурсника, так осуждать всю университетскую систему; но таков был этот мальчик и эта система! В следующем году, чтобы продолжить образование, он сопровождал английского посла во Францию, где, как говорят, занимался главным образом практическим изучением статистики и дипломатии.
Два года спустя, в связи со смертью отца, он был вынужден вернуться в Лондон. Без денег и, естественно, с расточительными вкусами, он обратился к своему дяде Берли с просьбой о высокооплачиваемой должности. Именно в этом заявлении он употребил выражение, столь характерное для елизаветинской эпохи, что «считал все знания своей вотчиной». Берли, ошибочно считавший его мечтателем и корыстолюбцем, не только отказался помогать ему при дворе, но и успешно воспрепятствовал его продвижению по службе при Елизавете. Затем Бэкон занялся изучением права и в 1582 году был принят в адвокатуру. О том, что он не утратил своей философии в лабиринтах права, свидетельствует его трактат «О величайшем рождении времени», написанный примерно в это время, который представлял собой защиту его индуктивной системы философии, выводящей рассуждения от множества фактов к одному закону, а не от предполагаемого закона к частным фактам, как это было при дедуктивном методе, применявшемся на протяжении веков. В своём знаменитом призыве к прогрессу Бэкон требовал трёх вещей: свободного исследования природы, открытия фактов вместо теорий и проверки результатов экспериментом, а не аргументами. В наши дни это азы науки, но во времена Бэкона они казались революционными.
Как юрист, он сразу же добился успеха; его познания и дар адвоката стали широко известны, и почти в самом начале своей карьеры Джонсон написал: «Каждый, кто слышал его речи, боялся, что он покончит с собой». Публикация его «Очерков» значительно укрепила его славу; но Бэкон не был удовлетворен. Голова его гудела от грандиозных планов: умиротворение несчастной Ирландии, упрощение английского права, реформа церкви, изучение природы, создание новой философии. Тем временем, как ни печально это признавать, он играл в политику ради личной выгоды. Он посвятил себя Эссексу, молодому и опасному фавориту королевы, завоевал его дружбу, а затем умело использовал его для улучшения своего положения. Когда графа судили за измену, то, по крайней мере отчасти, благодаря усилиям Бэкона, он был осужден и обезглавлен; И хотя Бэкон утверждает, что им двигало высокое чувство справедливости, мы не убеждены, что он понимал ни справедливость, ни дружбу, выступая адвокатом королевы против человека, который оказал ему поддержку. Его хладнокровие и отсутствие моральной чуткости проявляются даже в его эссе о «Любви» и «Дружбе». Более того, мы можем понять его жизнь, только исходя из того, что интеллектуальность оставила его холодным и мёртвым к высшим чувствам нашей человечности.
Во время правления Елизаветы Бэкон неоднократно добивался высоких должностей, но ему препятствовали Берли и, возможно, проницательность самой королевы в суждениях о людях. С восшествием на престол Якова I (1603) Бэкон посвятил себя новому правителю и быстро завоевал его расположение. Он был посвящён в рыцари и вскоре после этого достиг ещё одной цели своих амбиций, женившись на богатой женщине. Появление его великого труда «Развитие науки» в 1605 году во многом стало результатом умственного стимула, вызванного переменой в его благосостоянии. В 1613 году он был назначен генеральным прокурором и быстро нажил врагов, используя эту должность для достижения личных целей. Он оправдывал свой выбор преданностью делу короля и верой в то, что чем выше его положение и чем богаче его средства, тем больше он может сделать для науки.
Именно в этом году Бэкон написал серию «Государственных документов», демонстрирующую великолепное понимание политических тенденций своего времени. Если бы его совет был принят, это, несомненно, предотвратило бы вскоре последовавшую борьбу между королём и парламентом. В 1617 году он был назначен на должность своего отца – лорда-хранителя печати, а в следующем году – на высокую должность лорда-канцлера. Вместе с этой должностью он получил титул барона Верулама, а позднее – виконта Сент-Олбанского, который он с некоторым тщеславием прикрепил к своему литературному творчеству. Два года спустя появилось его величайшее произведение – «Новый Органум», названное в честь знаменитого «Органона» Аристотеля.
Бэкон недолго наслаждался своими политическими почестями. Буря, давно назревавшая против правительства Якова, внезапно обрушилась на Бэкона. Когда парламент собрался в 1621 году, он выразил свое недоверие к Якову и его любимцу Вильерсу, неожиданно нанеся удар по их главному советнику. Бэкона сурово обвинили во взяточничестве, и доказательства были настолько весомы, что он признал, что в стране процветает политическая коррупция, что он лично виновен в некоторых из них, и он отдался на милость своих судей. Парламент в то время не был настроен на милосердие. Бэкона лишили должности и приговорили к уплате огромного штрафа в 40 000 фунтов, заключению в тюрьму на время, пока не будет угодно королю, а затем к вечному изгнанию из парламента и двора. Хотя заключение длилось всего несколько дней, и штраф был в значительной степени списан, надеждам и планам Бэкона на политические почести был положен конец; И именно в этот момент ужасного испытания благородство в натуре этого человека заявляет о себе с силой. Если читатель захочет применить философию великого человека к своей жизни, эссе «Великий город» покажется ему особенно интересным.
Бэкон окончательно отошел от общественной жизни и посвятил свои блестящие способности литературному и научному труду. Он завершил «Опыты», много экспериментировал, писал исторические труды, научные статьи и один научный роман, а также дополнил свой «Instauratio Magna» – великий философский труд, который так и не был завершён. Весной 1626 года, ехав в метель, он задумался о том, что снег можно использовать в качестве консерванта вместо соли. Верный своему собственному методу постижения истины, он остановился у первого попавшегося дома, купил курицу и приступил к проверке своей теории. Эксперимент вызвал у него озноб, и вскоре он умер от переохлаждения. Как писал Маколей, «великому апостолу экспериментальной философии было суждено стать её мучеником».
СОЧИНЕНИЯ БЭКОНА.
================
Философские труды Бэкона «Прогресс наук» и «Новый Органон» лучше всего понять в связи с «Возрождением Великой философии», или «Великим установлением истинной философии», частью которого они были. «Возрождение» так и не было завершено, но сама идея работы была великолепной: уничтожить запутанную философию схоластов и университетских образовательных систем и заменить её единым великим произведением, которое должно было стать всеобъемлющим образованием, «богатым хранилищем славы Творца и облегчения человеческого состояния». Целью этого образования было принести практические результаты всем людям, а не мелкую эгоистическую культуру и множество бесполезных спекуляций, которые, по его мнению, были единственными продуктами университетов.
«Великая реставрация».
===========================
Это было самое амбициозное, хотя и не самое известное произведение Бэкона. Чтобы лучше понять замысел автора, мы предлагаем вашему вниманию краткий обзор его темы. Произведение было разделено на шесть частей:
1.Разделы наук .
==================
Это должно было стать классификацией и обобщением всех человеческих знаний. Философия и всякие спекуляции должны были быть отброшены, а естественные науки должны были стать основой всего образования. Единственной завершенной частью было «Развитие науки», служившее введением.
2.Новый метод»,
========================================
то есть использование разума и эксперимента вместо старой Аристотелевской логики.
Чтобы найти истину, необходимо сделать две вещи:
а) избавиться от всех предрассудков, или идолов, как их называл Бэкон.
Этих «идолов» четыре:
«идолы племени», то есть предрассудки, обусловленные общими для всех рас способами мышления;
«идолы пещеры или берлоги», то есть личные особенности и предрассудки;
«идолы рыночной площади», обусловленные языковыми ошибками; и
«идолы театра», то есть ненадёжные человеческие традиции.
(б) Отбросив вышеупомянутые «идолы», мы должны исследовать природу; собирать факты посредством многочисленных экспериментов, упорядочивать их и затем определять закон, лежащий в их основе.
Сразу видно, что вышеизложенное — важнейшее из произведений Бэкона. «Органум» должен был состоять из нескольких книг, из которых он завершил лишь две, и которые он писал и переписывал двенадцать раз, пока не удовлетворил его.
3. "Естественная история ",
===================================================
изучение всех явлений природы. Из четырёх частей этого труда, которые он завершил, по крайней мере одна, «Sylva Sylvarum», решительно расходится с его собственным представлением о факте и эксперименте. Она изобилует причудливыми объяснениями, более достойными поэтического, чем научного ума. Природа представляется исполненной желаний и инстинктов; воздух «жаждет» света и аромата; тела поднимаются или опускаются, потому что испытывают «аппетит» к высоте или глубине; качества тел являются результатом «сущности», так что, когда мы откроем сущности золота, серебра и алмазов, будет легко создать их столько, сколько нам потребуется.
4. «Лестница интеллекта»,
===========================================
— это рациональное применение Органума ко всем проблемам. По ней разум должен постепенно восходить от частных фактов и примеров к общим законам и абстрактным принципам.
5. «Пророчества или предвосхищения» — это список открытий, которые сделают люди, применив методы изучения и экспериментирования Бэкона.
5. «Предчувствия второй философии»
===================================
— это список открытий, которые сделают люди, применив методы изучения и экспериментирования Бэкона.
6.«Вторая философия или активная наука»
====================================
которая должна была стать записью практических результатов новой философии, когда последующие века должны были бы добросовестно применять ее.
Невозможно взглянуть даже на набросок столь обширного произведения без невольного трепета восхищения смелым и оригинальным умом, его задумавшим.
«Мы не можем, — сказал Бэкон, — начинать с презренного. Судьбы рода человеческого должны завершить дело… ибо от этого будет зависеть не только предполагаемое благо, но и всё благополучие человечества и всё его могущество». Это бессознательное выражение одного из величайших умов мира. Бэкон был подобен одному из архитекторов Средневековья, который рисовал планы величественного собора, совершенного во всех деталях, от фундаментного камня до креста на самом высоком шпиле, и передавал свои планы строителям, зная, что при его жизни будет достроена лишь одна крошечная часовня; но также зная, что сама красота его планов будет привлекать других, и что грядущие века завершат дело, которое он осмелился начать.
ЭССЕ.
====
Знаменитые «Эссе» Бэкона – единственное произведение, которое заинтересует всех, кто изучает нашу литературу. Его «Instauratio» было написано на латыни и написано в основном наемными помощниками по кратким английским конспектам. Он считал латынь единственным языком, достойным великого произведения; но мир пренебрег его латынью, ухватившись за его английский – чудесный английский, лаконичный, содержательный, полный мысли, в эпоху бесконечных иносказаний. Первые десять эссе, опубликованные в 1597 году, представляли собой краткие зарисовки наблюдений Бэкона в тетради. Их успех поразил автора, но лишь пятнадцать лет спустя они были переизданы и дополнены. Их очарование росло в глазах самого Бэкона, и, выйдя на пенсию, он больше размышлял об этом чудесном языке, который поначалу презирал так же сильно, как и философию Аристотеля. В 1612 году вышло второе издание, содержащее тридцать восемь эссе, а в 1625 году, за год до своей смерти, он переиздал «Очерки» в их нынешнем виде, отшлифовав и расширив первоначальные десять до пятидесяти восьми, охватив широкий круг тем, навеянных жизнью окружавших его людей.
Относительно лучших из этих эссе существует столько же мнений, сколько и читателей, и то, что человек из них вынесет, во многом зависит от его собственных мыслей и интеллекта. В этом отношении они подобны той Природе, к которой Бэкон направлял человеческие мысли. Весь том можно прочитать за вечер; но, прочитав их раз десять, он всё равно найдёт столько же поводов для размышлений, сколько и при первом прочтении.
Если выбирать из такого собрания сочинений, то в качестве введения в житейскую философию Бэкона мы бы рекомендовали «Исследования», «Доброту», «Богатство», «Атеизм», «Единство в религии», «Невзгоды», «Дружбу» и «Великое место».
РАЗНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
====================
Другие произведения Бэкона интересны скорее как откровение елизаветинского мышления, чем как литературная ценность.
«Новая Атлантида» – это своего рода научный роман, описывающий другую утопию, увиденную Бэконом. Обитатели Атлантиды отвергли философию и применили метод Бэкона к познанию природы, используя его результаты для улучшения своего положения. У них была замечательная цивилизация, в которой многие из наших последующих открытий – академии наук, обсерватории, воздушные шары, подводные лодки, модификация видов и многие другие – были предвосхищены странным сочетанием холодного рассудка и поэтической интуиции.
«De Sapientia Veterum» – это причудливая попытка раскрыть глубокий смысл, лежащий в основе древних мифов, – смысл, который поразил бы и самих мифотворцев.
«История Генриха VII» – спокойный, бесстрастный и удивительно точный исторический труд, заставляющий нас сожалеть, что Бэкон не уделил больше внимания исторической работе. Кроме того, здесь имеются метрические версии некоторых псалмов, которые представляют ценность ввиду споров вокруг пьес Шекспира, поскольку показывают полную неспособность Бэкона писать стихи, а также большое количество писем и государственных документов, показывающих размах и мощь его интеллекта.
МЕСТО И РАБОТЫ БЭКОНА.
======================
Хотя Бэкон большую часть своей жизни был человеком деловым, невозможно, читая его произведения, не заметить двух вещей:
непреходящей свежести, которую мир требует от всей литературы, которой суждено существовать, и
интеллектуальной мощи, которая делает его одним из величайших умов мира.
В последнее время наблюдается общая тенденция уделять всё меньше внимания его трудам в области науки и философии; но критика его «Instauratio», учитывая его возвышенную цель, не имеет особого значения. Верно, что его «наука» сегодня кажется крайне неудовлетворительной; верно также и то, что, хотя он стремился к открытию истины, он, возможно, думал монополизировать её и поэтому относился к Копернику с таким же подозрением, как и к философам.
Практичный человек, презирающий философию, просто неправильно понял то, что презирает. В своей практичности и экспериментаторстве в эпоху романтизма он не был единственным, как часто утверждают, а лишь выражал тенденцию английского ума во все века. Тремя столетиями ранее монах Роджер Бэкон провёл больше практических экспериментов, чем елизаветинский мудрец; и знаменитые «идолы» последнего весьма напоминают о «Четырёх источниках человеческого невежества» первого. Хотя Бэкон не совершил ни одного из научных открытий, к которым стремился, тем не менее весь дух его трудов, особенно «Органума», оказал сильное влияние на науку, в сторону точных наблюдений и тщательной проверки каждой теории практическим экспериментом. «Кто смотрит на облака, того не сеять», — сказал мудрый писатель древности; и Бэкон обратил мысли людей от небес, которыми они были слишком заняты, к земле, которой они слишком пренебрегали. В эпоху, когда люди были поглощены романтикой и философией, он настаивал, что главная цель образования — познакомить человека с окружающей средой; от книг он обратился к людям, от теории к фактам, от философии к природе, — и это, пожалуй, его величайший вклад в жизнь и литературу. Подобно Моисею на горе Фасга, он возвышался над своими собратьями настолько, что мог видеть обетованную землю, которую унаследует его народ, но в которую он сам, возможно, никогда не вступит.
РИЧАРД ХУКЕР (1554?-1600)
=========================
Резким контрастом Бэкону является Ричард Хукер, один из величайших прозаиков елизаветинской эпохи. Нужно прочитать историю его жизни, безвестной и скромной жизни, одушевленной великим духом, как ее рассказал Айзек Уолтон, чтобы оценить всю силу этого контраста. Бэкон взял все знания в свою область, но не овладел ни одной ее частью. Хукер, взяв одну-единственную тему, закон и практику английской церкви, так справился с ней, что ни один ученый даже сегодня не подумал бы заменить ее или построить на каком-либо ином фундаменте, кроме того, который заложил Хукер. Его единственное великое произведение — «Законы церковной политики», теологическая и аргументативная книга; но, совершенно независимо от ее темы, ее будут читать везде, где люди желают услышать силу и величие английского языка.
Вот одно предложение, примечательное не только своей совершенной формой, но и выражением почтения к закону, которое лежит в основе англосаксонской цивилизации:
Из закона не может быть признано ничего, кроме того, что ее престол — лоно Божие, ее голос — гармония мира; все сущее на небесах и на земле воздает ей почести: и самое малое, чувствующее ее заботу, и самое большое, не освобожденное от ее власти; и ангелы, и люди, и создания любого положения, хотя каждое по-разному и разными способами, но все с единодушным согласием восхищаются ею как матерью своего мира и радости.
СИДНИ И РЭЛИ.
============
Среди прозаиков этого замечательного литературного века есть много других, которые заслуживают беглого упоминания, хотя они и намного ниже уровня Бэкона и Хукера. Сэр Филип Сидни (1554-1586), которого уже считали поэтом, столь же известен своими прозаическими произведениями, пасторальным романом «Аркадия» и «Защитой поэзии», одним из наших самых ранних литературных эссе. Сидни, которого воспел поэт Шелли, представляет собой всю романтическую тенденцию своего века; в то время как сэр Уолтер Рэли (1552?-1618) представляет его авантюрный дух и деятельность. Жизнь Рэли — это почти непостижимая смесь поэта, ученого и авантюриста; то помогая гугенотам или борющимся голландцам в Европе, то возглавляя экспедицию в неизведанные дебри Нового Света; Он был занят то придворными интригами, то пиратскими попытками захватить нагруженные золотом испанские галеоны; то бороздил моря на полной свободе, то писал исторические и поэтические произведения, чтобы скрасить своё заточение. Такая жизнь сама по себе – целый том, гораздо более интересный, чем всё, что он написал. Он – воплощение беспокойного духа елизаветинской эпохи.
Главные прозаические произведения Рэли – «Открытие Гвианы» – произведение, которое, безусловно, было бы достаточно интересным, если бы он просто рассказывал о том, что видел, но оно было полно колонизаторских планов и видений Эльдорадо, ублажающих глаза и уши доверчивых людей; и «История мира», написанная им, чтобы занять время в тюрьме. Эта история – совершенно недостоверное повествование о событиях от создания до падения Македонской империи.
Он интересен прежде всего своим стилем – простым и благородным – и вспышками остроумия и поэзии, которые вторгаются в фантастическое сочетание чудес, преданий, слухов и государственных хроник, которое он называл историей. В заключение – знаменитое обращение к Смерти, которое намекает на то, что мог бы сделать Рэли, если бы жил менее напряженно и писал более тщательно.
О, красноречивая, справедливая и могущественная Смерть! Никого ты не могла посоветовать, но убедила; то, на что никто не осмеливался, ты сделала; и кому весь мир льстил, ты лишь изгнала из мира и презрела; ты собрала воедино всё величие, простирающееся до звёзд, всю гордость, жестокость и амбиции человека и покрыла всё это этими двумя краткими словами: Здесь лежит!
ДЖОН ФОКС (1516–1587).
=====================
Фокс навсегда останется в памяти благодаря своей знаменитой «Книге мучеников», которую старшие давали нам по воскресеньям в детстве, считая, что это хорошая дисциплина для нас – терзать свои души, когда нам хотелось бродить по залитым солнцем полям или когда в вынужденном безделье мы, если бы прислушались к собственному вкусу, смогли бы пребывать в тишине и довольстве вместе с Робинзоном Крузо. Поэтому у нас остались мрачные воспоминания о Фоксе и некоторая обида, которая мешает нам по достоинству оценить его.
Фокс был вынужден покинуть Англию из-за гонений на Марию, и, ведя скитания, но кропотливую жизнь на континенте, он задумал написать историю гонений на церковь с самых первых дней до своих собственных. Часть, посвященная Англии и Шотландии, была опубликована на латыни в 1559 году под названием, столь же звучным и впечатляющим, как и римская служба по усопшим, — «Комментарии к событиям в Церкви и величайшим гонениям в Европе». По возвращении в Англию Фокс перевел этот труд, назвав его «Деяния и памятники»; но вскоре он стал известен как «Книга мучеников», и так будет называться всегда. Горький опыт Фокса заставляет его писать с большим жаром и негодованием, чем того требует его святая тема, и «священный тон» порой портит повествование, которое было бы впечатляющим в своей простой простоте. Тем не менее, книга заняла прочное место в нашей литературе.
Наибольшую силу он представляет собой благодаря рассказам о скромных людях, таких как Роуленд Тейлор и Томас Хоукс, чей возвышенный героизм, если бы не это повествование, затерялся бы среди великих имен и великих событий, которыми наполнена елизаветинская эпоха.
КЭМДЕН И НОКС.
==============
Два историка, Уильям Кэмден и Джон Нокс, выделяются среди многочисленных историков той эпохи. «Британия» Кэмдена (1586) – монументальный труд, знаменующий начало подлинно антикварных исследований в области истории; а его «Анналы королевы Елизаветы» достойны гораздо более высокого места, чем ему до сих пор отводилось. Джон Нокс, реформатор, в своей «Истории Реформации в Шотландии» даёт весьма яркие портреты своих помощников и врагов. Личные и агрессивные элементы слишком сильны для исторического труда; но автобиографические части демонстрируют редкую литературную силу. Его рассказ о знаменитой беседе с Марией Стюарт, королевой Шотландии, ясен, как камео, и демонстрирует исключительную силу этого человека лучше, чем целый биографический том. Такие сцены заставляют пожелать, чтобы он уделял больше времени литературному труду, а не спорам и неурядицам своей собственной шотландской церкви.
ХАКЛУЙТ И ПЁРЧЕС.
=================
Два редактора этого века заняли завидное место в нашей литературе. Это Ричард ХАКЛУЙТ (1552?–1616) и Сэмюэл Пёрчес (1575?–1626). ХАКЛУЙТ был священником, который, живя в своём маленьком приходе, поставил перед собой две великие патриотические цели: содействовать богатству и развитию торговли своей страны и сохранить память обо всех своих соотечественниках, прославивших королевство своими путешествиями и исследованиями. Для достижения первой цели он глубоко интересовался коммерческими интересами Ост-Индской компании, колонизационными планами Рэли в Вирджинии и переводом путешествий Де Сото по Америке. Для достижения второй цели он ознакомился с книгами о путешествиях на всех иностранных языках и с краткими отчётами об исследованиях своих соотечественников. Его «Основные навигации, путешествия и открытия английской нации» в трёх томах впервые вышли в 1589 году, а второе издание вышло в 1598–1600 годах. Первый том рассказывает о путешествиях на север;второй – в Индию и на Восток; третий, такой же большой, как и два других, – в Новый Свет. За исключением самого первого путешествия, путешествия короля Артура в Исландию в 517 году, основанного на мифе, все эти путешествия представляют собой достоверные рассказы самих исследователей и представляют собой чрезвычайно интересное чтение даже в наши дни. Ни одна другая книга о путешествиях не выразила так хорошо дух и энергию английской нации и не заслуживает большего места в нашей литературе.
Сэмюэл Пёрчас, также бывший священником, продолжил дело Хаклуйта, используя многие из его неопубликованных рукописей и сократив записи многочисленных других путешествий. Его первая знаменитая книга, «Пёрчас, его паломничество», вышла в 1613 году, а в 1625 году за ней последовала «Хаклуйтус Постумус», или «Пёрчас, его паломничества». Само название книги располагает к тому, чтобы с удовольствием открыть её, и, следуя его велению – которое, в конце концов, является одним из лучших путеводителей в литературе, – редко бывает разочарован. Хотя она значительно уступает уровню «Хаклуйта» как по точности, так и по литературной законченности, в ней всё же есть много того, что радует, что книга была написана, и теперь можно с комфортом сопровождать Пёрчаса в его паломничестве.
ТОМАС НОРТ.
==========
Среди переводчиков елизаветинской эпохи сэр Томас Норт (1535?–1601?) заслуживает особого внимания благодаря своей версии «Жизнеописаний» Плутарха (1579), из которой Шекспир позаимствовал персонажей и многие события для трёх великих римских пьес. Так, у Норта мы читаем:
Цезарь также питал к Кассию сильную зависть и сильно его подозревал. Поэтому он как-то сказал своим друзьям: «Как вы думаете, что предпримет Кассий? Мне не нравится его бледный вид». В другой раз, когда друзья Цезаря предостерегали его от Антония и Долабеллы, он ответил им: «Я никогда не думал о них, но этих бледнолицых и тощих, как падаль, людей я боюсь больше всего», имея в виду Брута и Кассия.
Шекспир лишь прикасается к такой сцене магией своего гения, и его Цезарь говорит:
Пусть рядом со мной будут мужчины толстые:
С прилизанными головами, с которыми приятно спать по ночам.
У Кассия худой и голодный вид.
Он слишком много думает: такие люди опасны.
Внимательное прочтение «Плутарха» Норта, а затем и знаменитых римских пьес показывает, в какой степени Шекспир зависел от своего малоизвестного современника.
Перевод Норта, которому мы обязаны столь многими героическими образцами в нашей литературе, вероятно, был сделан не с Плутарха, а с превосходного французского перевода Амио. Тем не менее, он воспроизводит дух оригинала и, несмотря на наши современные и более точные переводы, остаётся самым вдохновляющим интерпретатором великого биографа, которого Эмерсон называет «историком героизма».
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕКА ЕЛИЗАВЕТЫ.
===============================
Этот период обычно считается величайшим в истории нашей литературы. Исторически мы отмечаем в эту эпоху колоссальный импульс, полученный в эпоху Возрождения, Реформации и освоения Нового Света. Она была отмечена сильным национальным духом, патриотизмом, религиозной терпимостью, социальным содержанием, интеллектуальным прогрессом и безграничным энтузиазмом.
Этот век мысли, чувства и энергичного действия находит свое лучшее выражение в драме; и замечательное развитие драмы, достигшее кульминации в творчестве Шекспира, является важнейшей характеристикой елизаветинского периода. Хотя этот век породил несколько превосходных прозаических произведений, по сути, это век поэзии; а поэзия отличается разнообразием, свежестью, юношеским и романтическим настроением. И поэзия, и драма были пронизаны итальянским влиянием, которое доминировало в английской литературе от Чосера до Реставрации. Литературу этой эпохи часто называют литературой Возрождения, хотя, как мы видели, само Возрождение началось гораздо раньше и за полтора столетия мало что добавило к нашему литературному наследию.
В нашем исследовании этой великой эпохи мы отметили
(1) поэтов-недраматических поэтов, то есть поэтов, не писавших для сцены. Центром этой группы является Эдмунд Спенсер, чей «Пастуший календарь» (1579) ознаменовал появление первого национального поэта после смерти Чосера в 1400 году. Его самое известное произведение – «Королева фей». Со Спенсером связаны и менее известные поэты: Томас Сэквилл, Майкл Дрейтон, Джордж Чепмен и Филип Сидни. Чепмен известен завершением поэмы Марло «Геро и Леандр», а также переводом «Илиады» и «Одиссеи» Гомера. Сидни, помимо поэзии, написал прозаический роман «Аркадия» и «Защиту поэзии» – одно из самых ранних наших критических эссе.
(2) Расцвет драмы в Англии; пьесы-миракли, морали и интермедии; наша первая пьеса «Ральф Ройстер Дойстер»; первая настоящая английская комедия «Игла Гэммер Гертон» и первая трагедия «Горбодук»; конфликт между классическими и исконными идеалами в английской драме.
(3) Предшественники Шекспира: Лили, Кид, Нэш, Пил, Грин, Марло; типы драмы, с которыми они экспериментировали: марловская, монодрама, или трагедия страстей, популярные хроники, домашняя драма, придворная, или лилианская, комедия, романтическая комедия и трагедия, классические пьесы и мелодрама. Марло — величайший из предшественников Шекспира. Его четыре пьесы: «Тамерлан», «Фауст», «Мальтийский еврей» и «Эдуард II».
(4) Шекспир, его жизнь, творчество и влияние.
(5) Последователи Шекспира: Бен Джонсон, Бомонт и Флетчер, Вебстер, Миддлтон, Хейвуд, Деккер; и быстрый упадок драмы. Бен Джонсон — величайший из этой группы. Его главные комедии — «Всяк в своём нраве», «Молчаливая женщина» и «Алхимик»; две его трагедии, дошедшие до нас, — «Сеян» и «Катилина».
(6) Прозаики, среди которых наиболее известен Бэкон. Его главный философский труд – «Instauratio Magna» (незавершённый), включающий «Прогресс знаний» и «Новый Органон»; но литературным читателям он известен по своим знаменитым «Очеркам». Среди менее известных прозаиков – Ричард Хукер, Джон Фокс, историки Кэмден и Нокс, редакторы Хэклайт и Пёрчас, подарившие нам волнующие свидетельства об исследованиях, и Томас Норт, переводчик «Жизнеописаний» Плутарха.
ГЛАВА VII
ПУРИТАНСКИЙ ВЕК (1620-1660)
============================
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
==================
ПУРИТАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ.
====================
В самом широком смысле пуританское движение можно рассматривать как второе, более великое Возрождение, возрождение нравственной природы человека после интеллектуального пробуждения Европы в XV и XVI веках. В Италии, чьё влияние было особенно велико в елизаветинской литературе, Возрождение было по сути языческим и чувственным. Оно почти не затронуло нравственную природу человека и мало способствовало освобождению от деспотизма правителей. Трудно читать ужасающие хроники Медичи или Борджиа, или политические размышления Макиавелли, не удивляясь моральной и политической деградации культурной нации. На Севере, особенно среди немцев и англичан, Возрождение сопровождалось нравственным пробуждением, и именно это пробуждение в Англии, «величайшая моральная и политическая реформа, когда-либо охватившая нацию за короткий полувековой период», подразумевается под пуританским движением. Мы поймём его лучше, если вспомним, что у него было две главные цели: первая — личная праведность; Вторая — гражданская и религиозная свобода. Другими словами, её целью было сделать людей честными и свободными.
Такое движение следует очистить от всех заблуждений, которые цеплялись за него со времён Реставрации, когда само название «пуританин» было высмеяно насмешками жизнерадостных придворных Карла II. Хотя дух движения был глубоко религиозным, пуритане не были религиозной сектой; также пуританин не был ограниченным и мрачным догматиком, каким его до сих пор изображают даже в исторических хрониках. Пим, Хэмпден, Элиот и Мильтон были пуританами; и в долгой борьбе за свободу человека мало имён, более почитаемых свободными людьми. Кромвель и Томас Хукер были пуританами; однако Кромвель стоял, как скала, за религиозную терпимость; а Томас Хукер в Коннектикуте дал миру первую письменную конституцию, в которой свободные люди, прежде чем избирать своих должностных лиц, установили строгие ограничения должностей, на которые они избирались. Это пуританский документ, и он знаменует собой одно из величайших достижений в истории государственного управления.
С религиозной точки зрения пуританизм включал в себя все оттенки верований. Первоначально это название было дано тем, кто выступал за определённые изменения в форме богослужения реформированной английской церкви при Елизавете; но по мере того, как идеал свободы зарождался в умах людей, и ему противостояли король, его злобные советники и группа нетерпимых церковников, ярким примером которых является Лод, пуританство превратилось в великое национальное движение. Оно включало в себя как английских церковников, так и крайних сепаратистов, кальвинистов, ковенантистов, католическую знать – всех, объединённых в сопротивлении деспотизму церкви и государства, и объединённых страстью к свободе и справедливости, какой мир с тех пор не видывал. Естественно, такое движение имело свои крайности и крайности, и именно от нескольких фанатиков и фанатиков исходит большинство наших заблуждений о пуританах. Жизнь в те времена была суровой, возможно, даже слишком суровой, и напряжённость борьбы с деспотизмом сделала людей ограниченными и чёрствыми. В триумфе пуританизма при Кромвеле были приняты суровые законы, многие простые удовольствия были запрещены, а суровый уровень жизни был навязан нежелающему этого народу. Поэтому высказывается критика, что дикий всплеск безнравственности, последовавший за реставрацией Карла, был отчасти обусловлен неестественными ограничениями эпохи пуритан. Критика справедлива, но мы не должны забывать весь дух движения. То, что пуритане запретили танцы у майского шеста и скачки, не имеет большого значения по сравнению с тем фактом, что он боролся за свободу и справедливость, сверг деспотизм и защитил жизнь и имущество человека от тирании правителей. О великой реке судят не по пене на её поверхности, и некоторые суровые законы и доктрины, которые мы высмеивали, – всего лишь пена на поверхности могучего пуританского потока, который непрерывно, подобно реке жизни, струился по истории Англии и Америки со времён Елизаветы.
ИЗМЕНЕНИЕ ИДЕАЛОВ.
==================
Политические потрясения этого периода нашли свое отражение в жестокой борьбе между королем и парламентом, которая привела к смерти Карла на плахе и созданию Республики под руководством Кромвеля. Веками английский народ был удивительно предан своим государям;
Но глубже их преданности королям была древняя саксонская любовь к личной свободе. Порой, как во времена Альфреда и Елизаветы, эти два идеала шли рука об руку; но чаще они открыто противоречили друг другу, и финальная борьба за главенство была неизбежна. Кризис наступил, когда Яков I, получивший королевскую власть актом парламента, начал, приписывая себе «божественное право», игнорировать парламент, который его создал. О гражданской войне, последовавшей за этим во времена правления Карла I, и о торжестве английской свободы здесь писать нет необходимости. С кощунством божественного права человека управлять своими собратьями было покончено. Современная Англия началась с атаки бригады пуритан Кромвеля при Нейзби.
В религиозном отношении эта эпоха была эпохой ещё большего брожения, чем та, что ознаменовала начало Реформации. Великий идеал, идеал национальной церкви, разбивался на куски, словно корабль на сломе, и в смятении этого часа действия различных сект были подобны действиям обезумевших пассажиров, каждый из которых стремился спасти своё имущество от крушения. Католическая церковь, как следует из её названия, всегда была верна идеалу объединённой церкви, церкви, которая, подобно могущественному римскому правительству первых веков, способна донести величие и авторитет Рима до самых скромных деревенских церквей до самых дальних уголков земли. На какое-то время этот могущественный идеал ослепил немецких и английских реформаторов; но возможность единой протестантской церкви погибла вместе с Елизаветой. Тогда, вместо всемирной церкви, которая была идеалом католицизма, пришёл идеал чисто национального протестантизма. Таков был идеал Лода и реакционных епископов, а также учёного Ричарда Хукера, суровых шотландских ковенантеров и пуритан Массачусетского залива. Чрезвычайно интересно отметить, что Карл призвал на помощь ирландских мятежников и шотландских горцев, пообещав восстановить их национальные религии; и что английские пуритане, обратившись за помощью к Шотландии, заключили торжественный Ковенант 1643 года, учредив национальное пресвитерианство, целью которого было: привести церкви Божьи в трёх королевствах к единообразию в религии и управлении, сохранить права парламента и свободы королевства;… дабы мы и наши потомки могли, как братья, жить в вере и любви, и да благоволит Господь жить среди нас.
В этом знаменитом Завете мы видим национальную, церковную и личную мечту пуританизма, сосуществующие во всем их величии и простоте.
Прошли годы, годы ожесточённых сражений и душевных страданий, прежде чем невозможность объединения различных протестантских сект была признана всеми. Идеал национальной церкви умирал с трудом, и его смертью были вызваны все религиозные волнения того времени. Только вспоминая национальный идеал и борьбу, которую он породил, мы можем понять удивительную жизнь и деятельность Баньяна и оценить героический дух американских колонистов, покинувших родину ради дикой природы, чтобы воплотить на практике новый идеал свободной церкви в свободном государстве.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ.
==========================
В литературе пуританский век также был временем смуты, вызванной крахом старых идеалов. Средневековые рыцарские каноны, невероятная любовь и романы, прототипами которых был Спенсер, исчезли не менее верно, чем идеал национальной церкви; и в отсутствие каких-либо устоявшихся стандартов литературной критики ничто не могло помешать преувеличениям «метафизических» поэтов, которые являются литературными аналогами религиозных сект, таких как анабаптисты. Поэзия приняла новые и поразительные формы в Донне и Герберте, а проза стала столь же мрачной, как «Анатомия меланхолии» Бертона. Духовный мрак, который рано или поздно охватывает всех писателей этого века и который несправедливо приписывается влиянию пуритан, обусловлен крахом принятых норм в государственном управлении и религии. Ни один народ, от греков до наших дней, не страдал от утраты старых идеалов, не вызывая у своих писателей восклицания: «Икабод! Слава ушла!» Такова неосознанная тенденция литераторов всех времён, которые оглядываются назад, на свой золотой век; и это не должно беспокоить литературоведа, который даже в крахе заветных установлений ищет проблески лучшего света, который должен засиять над миром. Этот так называемый мрачный век породил несколько небольших поэм, исполненных изысканного мастерства, и одного великого мастера поэзии, чьё творчество прославило бы любое время и любой народ, – Джона Мильтона, в котором неукротимый пуританский дух находит своё благороднейшее выражение.
Есть три основные характеристики, которыми пуританская литература отличается от литературы предыдущего века:
(1) Елизаветинская литература, при всем своем разнообразии, имела заметное единство духа, проистекающее из патриотизма всех классов и их преданности королеве, которая, при всех своих недостатках, стремилась прежде всего к благосостоянию нации. При Стюартах все это изменилось. Короли были открытыми врагами народа; страна была разделена борьбой за политическую и религиозную свободу; и литература была так же разобщена по духу, как и воюющие партии.
(2) Елизаветинская литература, как правило, вдохновляет; она трепещет молодостью, надеждой и жизненной силой. То, что следует за ней, говорит о старости и печали; даже самые светлые ее часы сменяются унынием и пессимизмом, неотделимым от угасания старых норм.
(3) Елизаветинская литература чрезвычайно романтична; романтика рождается в сердце юности и верит во все, даже в невозможное. Кредо великого схоласта: «Верую, ибо невозможно», – лучше отражает елизаветинскую литературу, чем средневековое богословие. В литературе пуританского периода тщетно искать романтический пыл. Даже в лирике и любовных стихах присутствует критический, интеллектуальный дух, и вся романтика, которая здесь проявляется, проявляется скорее в форме, чем в чувстве, в причудливом и искусственном украшении речи, чем в естественном излиянии сердца, в котором чувство настолько сильно и истинно, что поэзия – его единственное выражение.
II. ЛИТЕРАТУРА ПУРИТАНСКОГО ПЕРИОДА
====================================
ПОЭТЫ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА.
=========================
Когда кто-то пытается классифицировать литературу первой половины семнадцатого века, от смерти Елизаветы (1603) до Реставрации (1660), он осознает невозможность группировки поэтов по какому-либо точному стандарту. Предпринятые здесь классификации мало зависят от дат или монархов и являются скорее предположительными, чем точными. Так, Шекспир и Бэкон писали в основном в правление Якова I, но их творчество елизаветинское по духу; и Баньян не меньший пуританин оттого, что ему довелось писать после Реставрации. Название «метафизические поэты», данное доктором Джонсоном, несколько предполагает, но не описывает последователей Донна; название «каролинские» или «кавалерийские поэты» вызывает в памяти беспечный нрав роялистов, следовавших за королем Карлом с преданностью, которой он был недостоин; И название «поэты-спенсерианцы» напоминает о небольшой группе мечтателей, цеплявшихся за идеал Спенсера, даже когда его романтический средневековый замок был разрушен наукой с одной стороны и пуританством с другой. В начале этого ошеломляющего смешения идеалов, выраженных в литературе, мы отметим нескольких писателей, которых обычно называют поэтами якобинского периода, но которых мы называем поэтами переходного периода, поскольку, наряду с более поздними драматургами, они ясно отражают меняющиеся стандарты эпохи.
Сэмюэл Даниэль (1562–1619).
===========================
Даниэль, которого часто причисляют к первым поэтам-метафизикам, интересен для нас по двум причинам: его использование искусственного сонета и его литературный отказ от Спенсера как образца для поэтов. Его «Делия», цикл сонетов, написанный, возможно, по образцу «Астрофела и Стеллы» Сидни, способствовал закреплению традиции прославлять любовь или дружбу серией сонетов, к которым был приписан пасторальный псевдоним. В своих сонетах, многие из которых стоят в одном ряду с шекспировскими, и в поздних стихах, особенно в прекрасной «Жалобе Розамунды» и «Гражданских войнах», он стремился исключительно к изяществу выражения и оказал влияние, придав английской поэзии большую индивидуальность и независимость, чем она когда-либо знала. В вопросах он решительно противостоял средневековым тенденциям:
Пусть другие поют о королях и паладинах
В устаревшем акценте и несвоевременных словах,
Рисуйте тени воображаемыми линиями.
Этот выпад против Спенсера и его последователей знаменует собой начало современной реалистической школы, которая видит в жизни достаточно поэтического материала, не прибегая к аллегориям и невероятным героиням. Поэзия Дэниела, забытая вскоре после его смерти, получила, вероятно, больше почестей, чем заслуживает, в похвалах Вордсворта, Саути, Лэмба и Кольриджа. Последний пишет: «Читайте Дэниела, восхитительного Дэниела. Стиль и язык именно такие, какими пользовался бы любой чистый и мужественный писатель наших дней. По сравнению со стилем Шекспира он кажется вполне современным».
ПОЭТЫ-ПЕСЕННИКИ.
===============
Резким контрастом к вышеперечисленным группам являются две отдельные группы: поэты-песенники и поэты-спенсерианцы. Конец правления Елизаветы ознаменовался взрывом английской песни, столь же примечательным своим внезапным развитием, как и расцвет драмы. Этому способствовали две причины: растущее влияние французской поэзии вместо итальянской и быстрое развитие музыки как искусства в конце XVI века. Два автора песен, которых лучше всего изучить, — это Томас Кэмпион (1567?–1619) и Николас Бретон (1545?–1626?). Как и все лирические поэты той эпохи, они представляют собой любопытное сочетание елизаветинских и пуританских стандартов. Они воспевают священную и мирскую любовь с одинаковым жаром, и беспечная любовная песня часто встречается на одной странице с мольбой о божественной благодати.
ПОЭТЫ-СПЕНСЕРИАНЦЫ.
==================
Из поэтов-спенсерианцев наиболее достойны изучения Джайлз Флетчер и Уитер. Джайлз Флетчер (1588?–1623) порой сильно напоминает Мильтона (который также был последователем Спенсера в ранние годы) благородной простотой и величием своих строк. Его самое известное произведение, «Победа и триумф Христа» (1610), – величайшая религиозная поэма, появившаяся в Англии со времён «Пирса Пахарь», и является достойным предшественником «Потерянного рая».
Жизнь Джорджа Уитера (1588-1667) охватывает весь период английской истории от Елизаветы до Реставрации, а огромный объем его работ охватывает все этапы литературы двух великих эпох.
Его жизнь была разнообразной: то он был лидером роялистов, выступавших против ковенантеров, то вновь заявлял о своих пуританских убеждениях, то страдал в тюрьме за веру. В лучшие годы Уитер — лирический поэт, отличающийся большой оригинальностью, порой достигающий уровня настоящего гения; но большая часть его поэзии невыносимо скучна. Исследователи этого периода находят его интересным как воплощение всей эпохи, в которой он жил; но среднестатистический читатель с большим интересом отметит, что в 1623 году он опубликовал «Гимны и песни церкви» — первый сборник гимнов на английском языке.
МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ПОЭТЫ.
=====================
Это название, данное доктором Джонсоном в насмешку из-за фантастической формы поэзии Донна, часто применяется ко всем второстепенным поэтам пуританской эпохи. Мы используем этот термин здесь в более узком смысле, исключая последователей Дэниела и более позднюю группу, известную как поэты-кавалеры. К ним относятся Донн, Герберт, Уоллер, Денхэм, Коули, Воган, Дэвенант, Марвелл и Крэшоу. Продвинутый исследователь найдет их всех достойными изучения не только из-за их отдельных превосходных стихов, но и из-за их влияния на более позднюю литературу. Так, Ричард Крэшоу (1613?–1649), католический мистик, интересен тем, что его беспокойная жизнь удивительно похожа на жизнь Донна, а его поэзия порой напоминает поэзию Герберта, объятого огнём.[160] Авраам Каули (1618–1667), расцветший в молодости и в двадцать пять лет провозглашённый величайшим поэтом Англии, сейчас едва ли известен даже по имени, но его «Пиндаровы оды»[161] стали примером, повлиявшим на английскую поэзию на протяжении всего XVIII века. Генри Воган (1622–1695) достоин изучения, поскольку в некоторых отношениях он является предшественником Вордсворта[162]; Эндрю Марвелл (1621–1678) – благодаря своей верной дружбе с Мильтоном и тому, что его поэзия отражает конфликт между двумя школами – Спенсером и Донном. Эдмунд Уоллер (1606–1687) стоит на стыке пуританской эпохи и Реставрации. Он первым последовательно использовал «закрытый» двустишие, которое доминировало в нашей поэзии в течение следующего столетия. Благодаря этому, и особенно его влиянию на Драйдена, величайшую фигуру Реставрации, он занимает в нашей литературе большее место, чем можно было бы ожидать, читая его довольно утомительную поэзию.
Из всех этих поэтов, каждый из которых имеет свою особую ценность, мы можем рассмотреть здесь только Донна и Герберта, которые, каждый по-своему, являются образцами бунта против прежних форм и норм поэзии. По чувству и образному строю оба поэта высокого уровня, но по стилю и выражению они – лидеры фантастической школы, чьё влияние в значительной степени доминировало в поэзии в течение полувека пуританского периода.
ДЖОН ДОНН (1573-1631)
=====================
ЖИЗНЬ.
======
Самый краткий очерк жизни Донна свидетельствует о его глубоком человеческом интересе. Он родился в Лондоне, в семье богатого торговца железом, в то время, когда английские купцы создавали новый, более возвышенный тип государей. По отцовской линии он происходил из старинного валлийского рода, а по материнской – из семьи Хейвудов и сэра Томаса Мора. Обе семьи были католическими, и в ранние годы его жизни он столкнулся с гонениями: его брат умер в тюрьме за укрывательство осужденного священника, а его собственное образование не могло быть продолжено в Оксфорде и Кембридже из-за его религиозных убеждений. Такой опыт обычно задает религиозные стандарты человека на всю жизнь; но вскоре Донн, изучая право в Линкольнс-Инн, исследовал философские основы всякой веры. Постепенно он покинул церковь, в которой родился, отрекся от всех конфессий и называл себя просто христианином. Тем временем он писал стихи и делился своим богатством с нуждающимися родственниками-католиками. В 1596 году он присоединился к экспедиции Эссекса в Кадис, а в 1597 году – к Азорским островам. И в море, и в походах находил время писать стихи. К этому периоду относятся два его лучших стихотворения – «Шторм» и «Штиль». Затем он три года путешествовал по Европе, но посвятил себя учёбе и поэзии. Вернувшись домой, он стал секретарём лорда Эгертона, влюбился в его молодую племянницу, Энн Мор, и женился на ней; за что Донн был брошен в тюрьму. Как ни странно, его поэтическое творчество этого периода – это не юношеская романтическая песня, а «Путь души» – исследование переселения душ. Последовали годы скитаний и нищеты, пока сэр Джордж Мор не простил юных влюблённых и не обеспечил содержание дочери.
Вместо того чтобы наслаждаться новыми удобствами, Донн становился всё более аскетичным и интеллектуальным. Он также отказался от болтливого предложения вступить в Англиканскую церковь и получить комфортное «прибытие». Своим «Псевдомучеником» он привлёк благосклонность Якова I, который убедил его принять сан, но оставил без места и работы. После смерти жены её содержание прекратилось, и Донн остался с семью детьми в крайней нищете. Затем он стал проповедником, быстро достиг вершин благодаря исключительной интеллектуальной силе и гению, и через четыре года стал величайшим из английских проповедников и деканом собора Святого Павла в Лондоне. Там он «вознёс одних на небеса в святом восторге, а других побудил изменить свою жизнь», и когда он с глубокой серьёзностью склоняется над кафедрой, Айзек Уолтон сравнивает его с «ангелом, спускающимся с облака».
Здесь достаточно разнообразия, чтобы отразить его возраст, и всё же во всей его жизни, сильнее любого внешнего впечатления благополучия или горя, ощущается ощущение таинственности, окружающее Донна. Во всех его произведениях можно найти тайну, сокрытую в глубине души, которую мир с радостью познал бы и разделил, и о которой говорится в его завораживающем стихотворении «Предприятие»:
Я совершил поступок более смелый,
чем все достойные;
и всё же из него рождается ещё более смелый,
а именно: сохранить это в тайне.
ПОЭЗИЯ ДОННА.
=============
Поэзия Донна настолько неровная, порой настолько поразительная и фантастическая, что мало кто из критиков решится рекомендовать её другим. Лишь немногие прочтут его произведения, и им придётся предоставить возможность самим искать то, что им по душе, подобно оленям, которые среди изобилия перекусывают здесь и там и бредут дальше, перепробовав двадцать видов еды за час. Тот, кто много читает, вероятно, будет сетовать на отсутствие у Донна какого-либо единого стиля или литературного стандарта. Например, Чосер и Мильтон настолько различны, насколько это вообще возможно для двух поэтов; тем не менее, творчество каждого из них отмечено особым и последовательным стилем, и именно стиль, как и содержание, делает «Сказания» или «Потерянный рай» произведением на все времена. Донн бросил стиль и все литературные стандарты; и именно поэтому он забыт, хотя его выдающийся интеллект и гений сделали его одним из тех, кто должен был творить…«достоин памяти». Хотя в литературе существует тенденция превозносить стиль в ущерб мысли, в мире много мужчин и женщин, которые ставят чувство и мысль выше выражения; и для них Донн – хорошее чтение. Браунинг принадлежит к той же школе и приковывает к себе внимание. Хотя Донн и разрушил елизаветинский стиль, он, тем не менее, повлиял на нашу литературу смелостью и оригинальностью; и нынешняя тенденция заключается в том, чтобы отвести ему более значительное место, приблизить его к немногим великим поэтам, чем он занимал с тех пор, как Бен Джонсон заявил, что он был «первым поэтом мира в некоторых вещах», но, вероятно, погибнет «из-за того, что его не поняли». Ведь ко многим его стихам мы должны применять его собственные сатирические стихи, противопоставляя их грубости других:
Бесконечное произведение! которое простирается так далеко,
что никто не может изучить его до конца.
ДЖОРДЖ ГЕРБЕРТ (1593-1633)
==========================
«О, день самый тихий, самый светлый», – пел Джордж Герберт, и мы можем с уверенностью считать эту единственную строку выражением всего духа его произведений. Профессор Палмер, чьё научное издание произведений этого поэта служит образцом для критиков и редакторов, называет Герберта первым в английской поэзии, кто говорил лицом к лицу с Богом. Возможно, это верно; но интересно отметить, что ни один поэт первой половины XVII века, даже самый жизнерадостный из Кавалеров, не написал ни одного благородного стиха молитвы или устремления, выражающего глубинный пуританский дух его эпохи. Герберт – величайший и самый последовательный из них. Во всех остальных пуританин борется с Кавалером, или Кавалер освобождается от сдерживающего его пуританина; но в Герберте борьба закончилась, и наступил мир. То, что его жизнь не была совсем спокойной, что пуританин в нем отчаянно боролся, прежде чем сломить гордость и праздность кавалера, станет очевидно тому, кто прочтет между строк:
Я ударил по доске и воскликнул: «Хватит!»
Я уйду на волю.
Что? Буду ли я когда-нибудь вздыхать и тосковать?
Мои стихи и жизнь свободны, свободны, как дорога,
Свободны, как ветер.
Там говорит кавалер университета и двора; и, дочитав до конца небольшую поэму, которую он озаглавил многозначительным названием «Воротник», можно понять, что перед нами сжатая биография.
Те, кто ищет недостатки, натянутые образы и причудливые стихотворные формы в поэзии Герберта, найдут их в изобилии; но читатель с большей пользой для себя обратит внимание на глубокую мысль и тонкое чувство, скрытые в этой замечательной религиозной лирике, даже в тех, которые кажутся самыми искусственными. Тот факт, что репутация Герберта порой была выше репутации Мильтона, и что его стихи, опубликованные после его смерти, пользовались большим спросом и влиянием, несомненно, свидетельствует о его привлекательности для людей его возраста; и его стихи, вероятно, будут читаться и цениться, пусть и немногими, лишь бы люди были достаточно сильны, чтобы понять духовные убеждения пуританина.
ЖИЗНЬ.
=====
Жизнь Герберта была настолько тихой и спокойной, что несколько биографических фактов мало что дадут. Только прочитав всю историю Исаака Уолтона, можно проникнуться кротким духом поэзии Герберта. Он родился в замке Монтгомери[163] в Уэльсе в 1593 году в знатной валлийской семье. Его университетское образование было блестящим, и после окончания университета он долгие годы тщетно надеялся на повышение при дворе. Всю жизнь ему пришлось бороться с болезнью, и это, несомненно, является причиной долгой задержки перед каждым новым шагом на его пути. Только в тридцать семь лет он был рукоположен и поставлен настоятелем небольшой церкви в Бемертоне. О том, как он жил здесь, среди простых людей, в «этом счастливом уголке поля Господнего, надеясь на всё и благословляя всех людей, прося свой собственный путь к Сиону и указывая его другим», следует прочитать у Уолтона. Это короткая жизнь, меньше трёх лет работы, оборвалась из-за чахотки, но она замечательна единственной великой целью и славной духовной силой, сияющей сквозь физическую слабость. Незадолго до смерти он передал несколько рукописей другу, и его послание достойно Джона Баньяна:
Передай эту книжечку моему дорогому брату Феррару и скажи ему, что он найдёт в ней картину множества духовных столкновений, происходивших между Богом и моей душой, прежде чем я смог подчинить свою душу воле Иисуса, моего учителя, в служении которому я обрёл теперь полную свободу. Пусть он прочитает её; а затем, если он сочтёт, что она может послужить на пользу какой-либо удручённой бедной душе, пусть опубликует её. если нет, пусть сожжет её, ибо и я, и она — меньше наименьшей из милостей Божиих.
СТИХИ ГЕРБЕРТА.
==============
Главное произведение Герберта, «Храм», состоит из более чем ста пятидесяти коротких стихотворений, вдохновлённых Церковью, её праздниками и обрядами, а также опытом христианской жизни. Первое стихотворение, «Паперть», — самое длинное и, хотя отшлифовано с тщательностью, предвосхищающей классическую школу, наименее поэтично. Это замечательный сборник сжатых проповедей, мудрых наставлений и нравоучений, напоминающий «Добрый совет» Чосера, «Опыт о человеке» Поупа и совет Полония Лаэрту из «Гамлета»; только оно более наполнено мыслями, чем любое из них. О правдивости он говорит:
Осмелитесь быть правдивым. Ничто не нуждается во лжи;
Недостаток, который больше всего в ней нуждается, тем самым удваивается.
и о спокойствии в споре:
Спокойствие — великое преимущество: тот, кто позволяет
другой ссоре согреться у своего огня.
Среди оставшихся стихотворений «Храма» одно из самых впечатляющих — «Паломничество». В шести коротких строфах, каждая строка которых наполнена глубоким смыслом, перед нами всё произведение Баньяна «Путешествие пилигрима». Стихотворение, вероятно, было написано до рождения Баньяна, но, учитывая огромное влияние поэзии Герберта, интересно задаться вопросом, не почерпнул ли Баньян идею своего бессмертного произведения из этого «Паломничества». Вероятно, самым известным из всех его стихотворений является стихотворение «Блок», которое обычно встречается под названием «Покой» или «Дары Бога».
Когда Бог впервые создал человека,
Имея при себе чашу благословений,
Давайте, – сказал он, – изольём на него всё, что сможем:
Пусть богатства мира, что рассеялись,
Сожмутся в пядь.
Так сначала сила проложила путь;
Затем потекла красота; затем мудрость, честь, наслаждение.
Когда почти всё было выпито, Бог остановился,
Поняв, что, единственное из всех Его сокровищ,
Остаётся покой на дне.
Ибо, если бы я, – сказал он, –
Даровать и этот драгоценный камень моему творению,
Он бы поклонялся моим дарам вместо меня,
И покоился бы в Природе, а не в Боге Природы:
Так что оба окажутся в проигрыше.
Но пусть он сохранит остальное,
Но сохранит их с ропотом и беспокойством.
Пусть он будет богат и утомлён, чтобы по крайней мере,
Если доброта не ведёт его, всё же усталость
Могла бы бросить его к моей груди.
Среди стихотворений, которые можно считать курьёзами стихосложения и которые вызывают гнев критиков, выступающих против всей метафизической школы, – такие, как «Пасхальные крылья» и «Алтарь», которые в печатной форме подразумевают то, о чём воспевает поэт. Более изобретательно стихотворение, в котором рифма образуется путём отсечения первой буквы предшествующего слова, как в пяти строфах «Рая»:
Благословляю Тебя, Господь, потому что я расту
Среди деревьев Твоих, что растут в ряд
Тебе приносят и плоды, и порядок.
И еще более остроумны странные замыслы, подобные стихотворению «Небеса», в котором Эхо, повторяя последний слог каждой строки, дает ответ на вопросы поэта.
ПОЭТЫ-КАВАЛЕРЫ.
===============
В литературе любого века обычно можно выделить два чётко выраженных течения. Первое выражает господствующий дух времени; второе – тайное или открытое восстание. Так, в этот век, бок о бок с серьёзным и рациональным пуританином, живёт галантный и праздный кавалер. Пуританин находит выражение в лучших произведениях поэзии того времени, от Донна до Мильтона, и в прозе Бакстера и Баньяна; кавалер – в небольшой группе поэтов – Херрике, Лавлейсе, Саклинге и Кэрью, – которые пишут песни, как правило, в лёгком ключе, весёлые, праздные, часто распущенные, но не могут полностью избежать потрясающей серьёзности пуританизма.
ТОМАС КЭРЬЮ(1598?–1639?).
==========================
Кэрью можно назвать изобретателем кавалерской любовной поэзии, и именно ему, больше чем кому-либо другому, принадлежит своеобразное сочетание чувственного и религиозного, характерное для большинства второстепенных поэтов XVII века. Его поэзия – это спенсеровская пастораль, лишенная утонченности чувств и ставшая прямой, грубой, энергичной. Его стихи, опубликованные в 1640 году, в целом, как и его жизнь, тривиальны или чувственны; но кое-где встречаются, например, следующие, которые свидетельствуют о том, что с появлением метафизических и кавалерских поэтов в английскую литературу пришла новая, вдохновляющая сила:
Не спрашивай меня больше, где Юпитер дарует,
Когда июнь пройдёт, увядающая роза,
Ибо в глубине твоей красоты
Эти цветы, как и в своих причинах, спят.
Не спрашивай меня больше, где эти звёзды светят.
Что падают вниз в глухую ночь,
Ибо в твоих глазах они восседают и там
Застыли, как в своей сфере.
Не спрашивай меня больше, на востоке или на западе
Феникс вьёт своё пряное гнездо,
Ибо к тебе наконец прилетает
И в твоей благоухающей груди умирает.
РОБЕРТ ХЕРРИК (1591–1674).
==========================
Херрик – истинный кавалер, весёлый, бесшабашный по характеру, но по какой-то прихоти судьбы – священник в округе Дин Прайор в Южном Девоне, графстве, прославленном им и Блэкмором. Здесь, в сельском приходе, он жил в тоске, тоскуя по радостям Лондона и таверне «Русалка». Его холостяцкое жилище состояло из старой экономки, кошки, собаки, гуся, ручного ягнёнка, одной курицы (которую он благодарил Бога в стихах, потому что она несла яйцо каждый день), и домашнего поросёнка, который пил пиво с Херриком из кружки. Обладая достойным восхищения добродушием, Херрик извлекал максимум пользы из этой неподходящей обстановки. Он с сочувствием наблюдал за сельской жизнью вокруг себя и улавливал её дух во многих стихах, некоторые из которых, например, «Майское пение Коринны», «Собирайте бутоны роз, пока можете» и «Нарциссам», относятся к числу самых известных в нашем языке. Его стихи охватывают широкий диапазон – от банальных любовных песен, языческих по духу, до гимнов, проникнутых глубоким религиозным чувством. Стоит читать лишь лучшие из его стихотворений; они отличаются изысканной эмоциональностью и изящным, мелодичным стилем. Остальные, поскольку они отражают некую грубость его аудитории, можно обойти молчанием.
В конце жизни Херрик опубликовал свою единственную книгу «Геспериды и благородные числа» (1648). Вторая половина содержит его религиозные поэмы, и достаточно прочитать её замечательную «Литанию», чтобы увидеть, как религиозный ужас, выраженный в «Изобилии благодати» Баньяна, мог овладеть даже самым беспечным певцом-кавалером.
Саклинг и Лавлейс.
==================
Сэр Джон Саклинг (1609–1642) был одним из самых блестящих остроумцев при дворе Карла I. Он писал стихи, проезжая верхом или сражаясь на дуэли, поскольку в те времена это считалось джентльменским достижением. Его стихи, «выстреливаемые из его бурной жизни, словно искры из его рапиры», совершенно тривиальны и, даже в его самой известной «Балладе о свадьбе», редко выходят за рамки простых виршей. Только романтика его жизни — богатая, блестящая, беззаботная юность, бедность и самоубийство в Париже, куда он бежал из-за преданности Стюартам, — сохраняют его имя в нашей литературе.
В своей жизни и поэзии сэр Ричард Лавлейс (1618–1658) представляет собой примечательную параллель с Саклингом, и их часто ставят рядом как идеальных представителей последователей короля Карла. «Лукаста» Лавлейса, сборник любовной лирики, в целом стоит на более высоком уровне, чем творчество Саклинга; и некоторые из его стихотворений, такие как «Лукасте» и «Алтее из тюрьмы», заслуживают того прочного места, которое они заняли. В последнем есть часто цитируемые строки:
Каменные стены не делают тюрьму,
а железные прутья – клетку;
Невинные и тихие умы принимают
за отшельническую обитель.
Если я свободен в своей любви,
И душа моя свободна,
Только ангелы, парящие в небесах,
Наслаждаются такой свободой.
ДЖОН МИЛЬТОН (1608-1674)
========================
Твоя душа была как звезда и обитала вдали;
Твой голос был подобен морю –
Чистый, как обнажённые небеса, величественный, свободный;
Так ты шёл по обыденному жизненному пути
В радостном благочестии: и всё же твоё сердце
Самые скромные обязанности на себе возлагало.
(Из «Сонета о Мильтоне» Вордсворта)
Шекспир и Мильтон – две фигуры, заметно возвышающиеся над славным братством людей, прославивших нашу литературу. Каждый из них – представитель эпохи, породившей его, и вместе они образуют выразительный комментарий к двум силам, управляющим нашей человечностью, – силе импульса и силе целеустремлённости. Шекспир – поэт импульса, любви, ненависти, страхов, ревности и амбиций, которые владели людьми его эпохи. Мильтон – поэт твёрдой воли и целеустремлённости, словно бог, движущийся среди страхов, надежд и изменчивых порывов мира, считая их ничтожными и преходящими, которые никогда не смогут сбить великую душу с пути.
Полезно иметь в виду подобное сравнение, изучая литературу елизаветинской и пуританской эпох. Пока Шекспир и Бен Джонсон с их несравненной компанией остроумцев веселятся в таверне «Русалка», на той же лондонской улице уже растет поэт, который привнесет новую силу в литературу, который добавит к культуре Возрождения и любви к красоте огромную моральную серьезность пуританина. Такой поэт должен начать, как всегда начинал пуританин, со своей собственной души, дисциплинируя и просвещая ее, прежде чем выражать ее красоту в литературе. «Тот, кто хочет надеяться в будущем хорошо писать о похвальных вещах, — говорит Мильтон, — должен сам быть истинной поэмой; то есть собранием и образцом лучших и самых достойных вещей». Вот новое положение в искусстве, которое подсказывает возвышенный идеал Фра Анджелико: прежде чем человек сможет писать литературу, являющуюся выражением идеала, он должен сначала воспитать в себе идеального человека. Поскольку Мильтон — человек, он должен познать лучшее в человечестве; поэтому он учится, посвящая дни музыке, искусству и литературе, а ночи — глубоким исследованиям и медитации.
Но, зная, что человек не просто смертен, он также молится, полагаясь, как он говорит, на «благоговейную молитву к Вечному Духу, способному обогатить всяким словом и знанием». Такой поэт уже по духу далеко превосходит эпоху Возрождения, хотя и живёт в расцвете его славы и общается с её литературными мастерами. «В человеке есть дух, – говорит древнееврейский поэт, – и вдохновение Всевышнего даёт ему понимание». Вот, одним словом, секрет жизни и творчества Мильтона. Отсюда его долгие молчания, годы, проходящие без единого слова; а когда он говорит, это подобно голосу пророка, начинающего с возвышенного возвещения: «Дух Господень на мне». Отсюда его стиль, создающий впечатление возвышенности, которое с изумлением отмечал каждый историк нашей литературы. Его стиль был неосознанно возвышен, потому что он жил и мыслил осознанно в возвышенной атмосфере.
ЖИЗНЬ МИЛЬТОНА.
===============
Мильтон подобен идеалу в душе, словно высокая гора на горизонте. Мы никогда не достигнем идеала, никогда не поднимемся на гору; но жизнь стала бы невыразимо беднее, если бы у нас отняли и то, и другое.
С самого детства родители Мильтона стремились к достижению благородных целей и поэтому не пускали на самотёк в вопросах образования. Говорят, что его отец, Джон Мильтон, во время учёбы в Оксфорде стал пуританином и был лишён наследства; после чего поселился в Лондоне и добился большого успеха, став писцом, то есть своего рода нотариусом. По характеру старший Мильтон представлял собой редкое сочетание учёного и бизнесмена, радикального пуританина в политике и религии, музыканта, чьи гимны поются до сих пор, и любителя искусства и литературы. Мать поэта была женщиной утончённой и воспитанной, глубоко интересующейся религией и местной благотворительностью. Таким образом, мальчик вырос в доме, где культура эпохи Возрождения сочеталась с благочестием и моральной силой раннего пуританства. Поэтому он начинается как наследник одной великой эпохи и пророк другой.
По-видимому, старший Мильтон разделял неприязнь Бэкона к методам образования того времени и поэтому взял на себя ответственность за воспитание сына, поощряя его природные вкусы, обучая его музыке и находя наставника, который помог бы мальчику в том, чего он искал больше всего: не в грамматике и механике греческого и латыни, а скорее в историях, идеалах, поэзии, которые таятся в их несравненной литературе.
В двенадцать лет мальчик уже был учеником по духу, не находившимся покоя до полуночи от радости, которой были вознаграждены его учёба. С самого детства Мильтоном, по-видимому, управляли два великих принципа: во-первых, любовь к красоте, музыке, искусству, литературе и, по сути, ко всем формам человеческой культуры; во-вторых, непоколебимая преданность долгу как высшей цели человеческой жизни.
Краткосрочное обучение в знаменитой лондонской школе Святого Павла стало для Мильтона прелюдией к поступлению в Крайстс-колледж в Кембридже. Здесь он вновь последовал своим природным склонностям и, подобно Бэкону, часто оказывался в оппозиции к властям. Помимо нескольких латинских стихотворений, наиболее примечательной песней этого периода жизни Мильтона является его великолепная ода «На утро Рождества Христова», начатая в Рождество 1629 года. Мильтон, будучи глубоко погруженным в классику, питал ещё большую любовь к родной литературе. Спенсер долгие годы был его учителем; в его стихах мы находим все свидетельства его «любовного изучения» Шекспира, а его последние великие поэмы ясно показывают, какое влияние на него оказала «Победа и триумф Христа» Флетчера. Но знаменательно, что эта первая ода возвышается над всем подобным, созданным в знаменитую эпоху Елизаветы.
Во время учёбы в Кембридже родители Мильтона хотели, чтобы он принял сан в англиканской церкви. Но глубокая любовь к свободе мысли, присущая пуританам, была в нём слишком сильна, и он отказался принять «клятву служения», как он её называл, которая должна была ознаменовать его рукоположение. Всю свою жизнь Мильтон, несмотря на свою глубокую религиозность, держался в стороне от межконфессиональных распрей. По своим убеждениям он принадлежал к крайним пуританам, называемым сепаратистами, индепендентами и конгрегационалистами, яркими примерами которых являются наши отцы-пилигримы. Однако он отказывался быть связанным каким-либо символом веры или церковной дисциплиной:
Как всегда в глазах моего великого Мастера.
После ухода Мильтона из университета в 1632 году последовал длительный период уединения.
В загородном доме своего отца в Хортоне он шесть лет посвятил уединенному чтению и учебе, изучая обширные области греческой, латинской, еврейской, испанской, французской, итальянской и английской литературы, а также усердно изучая математику, естественные науки, теологию и музыку – любопытное сочетание. Его любви к музыке мы обязаны мелодичностью всех его стихов и отмечаем это в ритме и равновесии, которые делают даже его мощные прозаические аргументы гармоничными. В «Лициде», «L'Allegro», «Il Penseroso», «Аркадах», «Комусе» и нескольких «Сонетах» мы видим поэтические плоды этого уединения в Хортоне – немногочисленные, но самые совершенные из всех, что когда-либо видела наша литература.
Из уединения, где его талант оттачивался, Мильтон вступил в суетливый мир, где ему предстояло в полной мере проявить себя. Из Хортона он отправился за границу, через Францию, Швейцарию и Италию, везде встречая восхищение своей ученостью и учтивостью, завоевав дружбу изгнанного голландского учёного Гроция в Париже и Галилея во время его печального заточения во Флоренции.[165] Он был на пути в Грецию, когда до него дошли вести о разрыве между королём и парламентом. Благодаря своей практичной проницательности, которая никогда его не покидала, Мильтон ясно понял значение этой новости. Радушный приём в Италии, столь скупой на похвалы всему, что не было итальянским, пробудил в Мильтоне давнее желание написать эпическое произведение, которому Англия «не позволила бы умереть»; но при мысли о борьбе за свободу человека все его мечты рухнули. Он отказался от путешествий и литературных амбиций и поспешил в Англию. «Ибо я считал подлым, — говорит он, — путешествовать в свое удовольствие ради интеллектуальной культуры, в то время как мои соотечественники на родине сражаются за свободу».
Затем почти на двадцать лет исчезает поэт, достигший больших успехов и подававший ещё большие надежды. Мы больше не слышим песен, а слышим лишь прозаические обличения и рассуждения, столь же замечательные, как и его поэзия. Во всей нашей литературе нет ничего более достойного пуританского духа, чем этот отказ от личных амбиций ради участия в борьбе за свободу человечества.
В его самом известном сонете «О своей слепоте», отражающем его скорбь не по тьме, а по покинутым мечтам, мы улавливаем возвышенный дух этого отречения.
Возможность послужить представилась Мильтону в кризисе 1649 года. Король был отправлен на эшафот, поплатившись за собственное предательство, а Англия сидела, дрожа от страха за свой поступок, словно ребенок или русский крестьянин, который во внезапной ярости сопротивляется невыносимой жестокости, а затем боится последствий. Последовали две недели тревоги, ужаса и тишины; затем появился труд Мильтона «Власть королей и магистратов». Для Англии это было подобно приходу сильного человека, не только чтобы защитить ребенка, но и чтобы оправдать свой удар за свободу. Короли не меньше, чем люди, подчиняются вечному принципу закона; божественное право народа защищать и оберегать себя — вот тот весомый аргумент, который успокоил народный страх и провозгласил, что в Англии возник новый человек и новый принцип. Мильтона призвали на должность секретаря по иностранным языкам в новом правительстве; И в течение следующих нескольких лет, вплоть до конца Содружества, в Англии было два лидера: Кромвель, человек действия, и Мильтон, человек мысли. Сомнительно, кому из них больше всего обязано человечество освобождением от тирании королей и прелатов.
Два момента, представляющих личный интерес, заслуживают упоминания в этот период жизни Мильтона: его женитьба и его слепота. В 1643 году он женился на Мэри Пауэлл, легкомысленной, любящей удовольствия девушке, дочери роялиста; и это было началом печалей. Через месяц, устав от суровой жизни пуританской семьи, она бросила мужа, который с той же радикальной аргументацией, с которой он решал государственные дела, быстро расторг брак. Его «Учение и дисциплина развода» и его «Тетрахордон» являются аргументами, оправдывающими его позицию; но они вызвали бурю протеста в Англии и наводят современного читателя на мысль, что Мильтон, возможно, был виноват не меньше своей жены, и что он плохо понимал женскую натуру. Когда его жена, опасаясь за свое положение, предстала перед ним в слезах, все его весомые доводы были сметены великодушным порывом;
И хотя этот брак так и не был счастливым, Мильтон больше никогда не упоминал о побеге жены. Сцена в «Потерянном рае», где Ева, рыдая, приходит к Адаму, прося мира и прощения, вероятно, является отражением обстановки в доме самого Мильтона. Его жена умерла в 1653 году, а несколько лет спустя он женился на другой, которую мы помним по сонету «Мне показалось, что я увидел мою покойную возлюбленную святую», в котором она прославляется. Она умерла через пятнадцать месяцев, и в 1663 году он женился на третьей жене, которая помогала слепому старику вести его скудное хозяйство.
С детства напряжение глаз поэта становилось всё сильнее; но даже когда его зрение находилось под угрозой, он твёрдо придерживался своей цели – служить стране своим пером. Во время заключения короля появилась книга под названием «Eikon Basilike» («Королевский образ»), рисовавшая в радужном свете благочестие короля и осуждавшая пуритан. Книга быстро приобрела известность и стала источником всех аргументов роялистов против Республики. В 1649 году вышел труд Мильтона «Eikonoklastes» («Разрушитель образов»), который разрушил шаткие аргументы «Eikon Basilike», когда атака «железнобоких» Кромвеля сокрушила сторонников короля. После казни короля появилось ещё одно известное нападение на пуритан – «Defensio Regia pro Carlo I», спровоцированное Карлом II, который тогда жил в изгнании. Он был написан на латыни Сальмасием, голландским профессором из Лейдена, и был воспринят роялистами как неопровержимый аргумент. По распоряжению Государственного совета Мильтон подготовил ответ. Его зрение, к сожалению, ухудшилось, и его предупредили, что любое дальнейшее напряжение будет иметь катастрофические последствия. Его ответ был характерен для этого человека и пуританина. Как он когда-то пожертвовал своей поэзией, так теперь, сказал он, он готов принести в жертву и свои глаза на алтарь английской свободы. Его великолепное «Defensio pro Populo Anglicano» – одно из самых мастерски вызывающих споры произведений в литературе. Власть прессы уже сильно ощущалась в Англии, и новое Содружество было обязано своим положением отчасти прозе Мильтона, а отчасти политике Кромвеля. «Defensio» было последним произведением, которое увидел Мильтон. Слепота настигла его прежде, чем он был закончен, и с 1652 года до самой смерти он трудился в полной темноте.
Последний период жизни Мильтона – это картина одинокого величия, непревзойдённого в истории литературы. С Реставрацией все его труды и жертвы ради человечества, по-видимому, были напрасны. Удалившись от дел, он слышал колокола и крики, приветствовавшие возвращение жестокого монарха, первым делом наступившего на шею своего народа. Мильтон немедленно подвергся преследованиям; он месяцами скрывался; он был доведён до нищеты, а его книги были сожжены палачом. Его дочери, от которых он зависел в своей слепоте, восстали против необходимости читать ему и записывать его мысли. Среди всех этих скорбей мы слышим в Самсоне крик слепого защитника Израиля:
Теперь слепой, обескураженный, опозоренный, бесчестный, подавленный,
Чему я могу быть полезен? Чему служить
Моему народу и делу, возложенному Небесами?
Как не сидеть праздно у домашнего очага,
Тяжёлым жужжанием; на гостей – взгляд,
Или предмет жалости.
Ответ Мильтона достоин его великой жизни. Без зависти и горечи он возвращается к ранней мечте о бессмертной поэме и с великолепным сознанием своей силы начинает диктовать свой великий эпос.
«Потерянный рай» был закончен в 1665 году, после семи лет труда во тьме. С огромным трудом он нашёл издателя, и за это великое произведение, ныне самое почитаемое в нашей литературе стихотворение, он получил меньше, чем некоторые современные поэты получают за песенку в одном из наших популярных журналов. Успех был мгновенным, хотя, как и всё его творчество, оно подверглось язвительной критике. Драйден резюмировал впечатление, произведённое на вдумчивые умы своего времени, словами: «Этот человек исключает нас всех, и древних тоже». С тех пор в его тёмный дом проник лучик солнца, ибо произведение сделало его одним из величайших писателей мира, и из Англии и с континента всё больше паломников прибывало, чтобы выразить ему свою благодарность.
В следующем году Мильтон начал работу над «Возвращённым раем». В 1671 году появилось его последнее значительное произведение, «Самсон-борец», самая сильная драматическая поэма греческого образца, известная нашему языку. Образ могучего воина Израиля, слепого, одинокого, терзаемого безрассудными врагами, но до конца сохранившего благородный идеал, – достойный финал жизненного пути самого поэта.
Долгие годы он молчал, мечтая во тьме о том, кто что скажет, и весело говоря друзьям: «Всё ещё направляет небесное видение». Он мирно скончался в 1674 году, став самой возвышенной и самой одинокой фигурой в нашей литературе.
РАННЯЯ ПОЭЗИЯ МИЛЬТОНА.
=======================
В своих ранних произведениях Мильтон предстаёт наследником всего лучшего, что было в елизаветинской литературе, и его первое произведение, ода «На утро Рождества Христова», приближается к вершине лирической поэзии в Англии. В последующие шесть лет, с 1631 по 1637 год, он написал лишь немного, едва ли более двух тысяч строк, но эти строки относятся к числу самых изысканных и совершенных в нашем языке.
«L'Allegro» и «Il Penseroso» – стихотворения-близнецы, состоящие из множества строк и коротких описательных отрывков, которые западают в память, словно музыкальные ноты, и которые знают и любят везде, где говорят по-английски. «L'Allegro» (радостный или счастливый человек) – словно прогулка по английским полям на рассвете. Воздух благоухает, птицы поют, множество образов, звуков, ароматов наполняют все чувства; и на этот призыв природы душа человека отвечает радостью, видя в каждом цветке и слыша в каждой гармонии некий изысканный символ человеческой жизни. «Il Penseroso» переносит нас в те же места в сумерках и на восходе луны. Воздух всё ещё свеж и благоухает; символизм, если возможно, ещё более нежен и прекрасен, чем прежде; но радостное настроение ушло, хотя память о нём сохраняется в послесвечении заката. На смену чистому, радостному ощущению утра приходит тихая задумчивость, не вызывающая грусти, хотя, как и все спокойные настроения, она сродни грусти, и которая выражает глубину человеческих чувств в присутствии природы. Цитировать отдельные строки из любого из этих стихотворений – значит быть несправедливым к обоим. Чтобы оценить их красоту и многозначительность, их следует читать целиком в один и тот же день: одно утром, другое вечером.
«Маска Комуса» во многих отношениях является самым совершенным из стихотворений Мильтона. Она была написана в 1634 году и предназначалась для исполнения в замке Ладлоу перед графом Бриджуотером и его друзьями.
Существует предание о том, что трое детей графа потерялись в лесу, и, независимо от того, правда это или нет, Мильтон берёт простую тему заблудившегося человека, призывает Духа-Спутника, чтобы защитить странника, и из этой темы, с её естественным действием и мелодичными напевами, создаёт самую изысканную пасторальную драму, какой мы знаем. По форме это маска, подобная тем великолепным произведениям елизаветинской эпохи, мастером которых был Бен Джонсон. Англия заимствовала идею маски из Италии и использовала её как главное развлечение на всех праздниках, пока она не стала для английской знати тем же, чем были мираклы для простого народа предыдущего поколения. Мильтон, обладавший сильным пуританским духом, не мог довольствоваться простым развлечением в течение часа. «Комус» обладает великолепными сценическими эффектами, музыкой и танцами других масок, но её моральная цель и идеальная проповедь неоспоримы. «Триумф добродетели» – более точное название для этого прекрасного маленького спектакля-маскарада, ведь его тема – добродетель и невинность способны преодолеть любые опасности этого мира без необратимого вреда. Этот вечный триумф добра над злом провозглашает Дух-Покровитель, защищавший невинных в этой жизни и теперь исчезающий из виду смертных, чтобы возобновить свою радостную жизнь:
Смертные, которые последуют за мной,
Любите Добродетель; только она свободна.
Она может научить вас, как подняться
Выше звона сфер;
Или, если бы Добродетель была слаба,
Само Небо склонилось бы перед ней.
Хотя в «Комусе» Мильтона присутствуют несомненные следы творчества Джонсона и Джона Флетчера, поэма значительно превосходит своих предшественников воздушной красотой и мелодичностью стихов.
В следующей поэме, «Лицидас», пасторальной элегии, написанной в 1637 году и последней из его поэм, написанных в Хортоне, Мильтон уже не наследник старого века, а пророк нового. Его университетский друг, Эдвард Кинг, утонул в Ирландском море, и Мильтон, следуя поэтическому обычаю своего времени, представляет и друга, и себя самого в образе пастухов, ведущих пастушескую жизнь. Мильтон также использует всю символику своих предшественников, вводя фавнов, сатиров и морских нимф;
Но пуританин снова не довольствуется языческой символикой и вводит новый символ – христианского пастыря, ответственного за души людей, которого он сравнивает с голодными овцами, которые смотрят вверх, но не накормлены. Пуритане и роялисты в то время быстро отдалялись друг от друга, и Мильтон использует свою новую символику для обличения злоупотреблений, проникших в Церковь. У любого другого поэта такое моральное учение препятствовало бы свободному движению воображения; но Мильтон, похоже, способен соединить высокие моральные цели с благороднейшей поэзией. По своей изысканной отделке и неисчерпаемой образности «Лицидас» превосходит большую часть поэзии того, что часто называют языческим Возрождением.
Помимо этих известных поэм, в этот ранний период Мильтон написал фрагментарную маску под названием «Аркады»; несколько латинских стихотворений, которые, как и его английские, отличаются изысканной отделкой; и свои знаменитые «Сонеты», доведшие эту итальянскую форму стиха почти до совершенства. В них он редко писал о любви, обычной теме его предшественников, но о патриотизме, долге, музыке и политических темах, навеянных борьбой, в которую втягивалась Англия. Среди этих сонетов каждый читатель обязательно найдет свои любимые. Наиболее известны и часто цитируются «На покойную жену», «Соловью», «На достижение
двадцатитрехлетнего возраста», «Резня в Пьемонте» и два «На свою слепоту».
ПРОЗА МИЛЬТОНА.
===============
О прозе Мильтона существует множество различных мнений: от безграничной похвалы Маколея до осуждения некоторых наших современных критиков. С литературной точки зрения проза Мильтона была бы сильнее, если бы была менее жестокой, и современному писателю вряд ли было бы простительно использовать его язык или его методы; но мы должны помнить о временах и методах его оппонентов. В своём пламенном рвении против несправедливости поэт внезапно овладевает духом солдата. Сначала он собирает свои факты в батальоны и бросается на врага, чтобы сокрушить и подавить без жалости. Ибо Мильтон ненавидит несправедливость, и, поскольку она враг его народа, он не может и не будет щадить её.
Одержав победу, он ликует в победной песне, волнующей душу, как Песнь Деборы. Он снова поэт, вопреки самому себе, и его разум наполняется великолепными образами. Даже в такой скучной, лишенной даже самых скудных поэтических возможностей теме, как его «Опровержения защиты ремонстрантов», он разражается призывом: «О, Ты, восседающий во свете и славе неприступной, родитель ангелов и людей», – что подобно главе из Апокалипсиса. В таких отрывках проза Мильтона, как отмечает Тэн, – это «излияние великолепия», что говорит о высочайшей поэзии.
Из-за своей противоречивости эти прозаические произведения редко читаются, и, вероятно, Мильтон никогда не считал их достойными места в литературе. Из всех произведений «Ареопагитика», пожалуй, вызывает самый непреходящий интерес и заслуживает прочтения. Во времена Мильтона существовал закон, запрещавший публикацию книг без одобрения официального цензора. Само собой разумеется, что цензор, занимавший свою должность и жалованье по милости, был, естественно, больше озабочен божественным правом королей и епископов, чем литературными прелестями, и многие книги были запрещены лишь потому, что они не нравились властям. Мильтон протестовал против этого, как и против любой другой формы тирании, и его «Ареопагитика», названная так по имени Ареопага или афинского форума, места публичного обращения, и Марсова холма, на котором апостол Павел произнес речь, – это самый известный на английском языке труд, призывающий к свободе печати.
ПОЗДНЯЯ ПОЭЗИЯ МИЛЬТОНА.
=======================
Несомненно, самые благородные произведения Мильтона, написанные им в слепоте и страданиях, — это «Потерянный рай», «Возвращённый рай» и «Самсон-борец». Первая — величайшее, по сути, единственное общепризнанное эпическое произведение в нашей литературе со времён «Беовульфа»; последняя — совершеннейший образец драмы, написанной по греческому методу на нашем языке.
Из истории великого эпоса у нас есть несколько интересных заметок. В Кембридже хранится записная книжка Мильтона со списком почти ста сюжетов для большой поэмы, выбранных им ещё в юношестве, в университете. Сначала его привлекал король Артур;
Но в конечном итоге его выбор остановился на «Грехопадении человека», и у нас есть четыре отдельных наброска, демонстрирующих предложенную Мильтоном трактовку этой темы. Эти наброски указывают на то, что он задумал мощную драму или миракль; но то ли из-за пуританской антипатии к пьесам и актёрам, то ли из-за убогой драматической трактовки религиозных сюжетов, которую Мильтон наблюдал в Италии, он отказался от идеи пьесы и остановился на форме эпической поэмы; к великому счастью, надо признать, что Мильтон не обладал необходимыми для драмы знаниями о людях. Как исследование характеров «Потерянный рай» был бы серьёзной неудачей. Адам, центральный персонаж, – своего рода ханжа; в то время как Сатана предстаёт величественной фигурой, совершенно отличной от дьявола из миракль и полностью затмевающей героя как по своему интересу, так и по своей мужественности. Остальные персонажи – Всемогущий, Сын, Рафаил, Михаил, ангелы и падшие духи – лишь рупоры для декламаций Мильтона, без какого-либо личного или человеческого интереса. Таким образом, если рассматривать «Потерянный рай» как драму, он никогда не мог бы иметь успеха; но как поэзия, с ее возвышенными образами, гармоничным стихом, титаническим фоном рая, ада и безграничной пустоты, лежащей между ними, он непревзойден ни в одной литературе.
В 1658 году Мильтон, пребывая в потемках, сел диктовать произведение, задуманное им тридцатью годами ранее. Чтобы понять могучий размах поэмы, необходимо суммировать её содержание следующим образом:
Книга I открывается изложением темы – Грехопадение человека – и благородным призывом к свету и божественному руководству. Затем начинается рассказ о Сатане и мятежных ангелах, их изгнании с небес и их заговоре против замысла Всевышнего, низвергая Его детей, наших прародителей, из состояния невинности. Книга завершается описанием земли огня и бесконечной боли, где обитают падшие духи, и возведением Пандемониума, дворца Сатаны.
Книга II – это описание совета злых духов, согласия Сатаны на искушение Адама и Евы и его путешествия к вратам ада, которые охраняют Грех и Смерть.
Книга III снова переносит нас на небеса. Бог, предвидя падение, посылает Рафаила предупредить Адама и Еву, чтобы их непослушание пала на их головы. Затем Сын приносит себя в жертву, чтобы искупить грех грядущего непослушания человека. В конце этой книги Сатана появляется в другой сцене, встречает Уриила, Ангела Солнца, спрашивает у него дорогу на землю и отправляется туда, приняв облик ангела света.
Четвёртая книга показывает нам Рай и невинное состояние человека. Над Эдемом поставлен ангел-хранитель, и Сатана арестован, когда во сне искушал Еву, но, как ни странно, ему снова позволено освободиться.
Пятая книга показывает нам Еву, рассказывающую Адаму свой сон, а затем утреннюю молитву и повседневные дела наших прародителей. Рафаил посещает их, устраивает пир (который Ева предлагает, чтобы показать ему, что не все дары Божьи хранятся на небесах), и рассказывает им о восстании падших духов.
Его история продолжается в шестой книге.
В седьмой книге мы читаем историю сотворения мира, рассказанную Рафаилом Адаму и Еве.
В восьмой книге Адам рассказывает Рафаилу историю своей жизни и встречи с Евой. Книга IX — история искушения Сатаной, продолжающая повествование в Книге Бытия. Книга X описывает божественный суд над Адамом и Евой; показывает, как Грех и Смерть проложили дорогу через хаос на землю, и возвращение Сатаны в Пандемониум. Адам и Ева раскаиваются в своем непослушании, а Сатана и его ангелы превращаются в змей.
В книге XI Всевышний принимает покаяние Адама, но приговаривает его к изгнанию из Рая, и архангел Михаил посылается, чтобы привести приговор в исполнение. В конце книги, после женской скорби Евы об утрате Рая, Михаил начинает пророческое видение о судьбе человека.
Книга XII продолжает видение Михаила. Адам и Ева утешаются, услышав о будущем искуплении их рода. Поэма заканчивается тем, что они выходят из Рая, и дверь за ними закрывается.
Видно, что это колоссальный эпос, повествующий не об одном человеке или герое, а обо всем роде человеческом; и что персонажи Мильтона таковы, что ни одна человеческая рука не смогла бы их в полной мере изобразить. Но эти сцены – великолепие небес, ужасы ада, безмятежная красота рая, солнце и планеты, парящие между небесным светом и непроницаемой тьмой – изображены с почти сверхчеловеческим воображением. Неизменный интерес к поэме – в этих колоссальных образах, в возвышенной мысли и чудесной мелодии, которыми они запечатлеваются в нашем сознании. Поэма написана белым стихом, и только с помощью Мильтона мы познали бесконечное разнообразие и гармонию, на которые он способен. Он играл с ним, меняя мелодию и движение на каждой странице, «как органист из одной темы создаёт бесконечное разнообразие гармонии».
Ламартин описал «Потерянный рай» как сон пуританина, заснувшего над Библией, и это многозначительное описание приводит нас к любопытному факту: именно сон, а не теология или описания библейских сцен, интересует нас больше всего. Так Мильтон описывает разделение земли и воды, и это почти ничего не добавляет к простоте и силе Книги Бытия; но последующий закат – это сон самого Мильтона, и мы мгновенно переносимся в страну красоты и поэзии:
Вот наступил тихий вечер, и сумерки сгустились.
Всё было в её строгом наряде;
Тишина сопровождала; зверей и птиц
Те – на свои травяные ложа, а те – в свои гнезда
Крадутся, все, кроме бодрствующего соловья.
Всю ночь она пела свою любовную дискантную песню:
Тишина была довольна. Теперь сиял небосвод
Живыми сапфирами; Геспер, возглавлявший
Звёздное воинство, ехал ярче всех, пока Луна
Поднявшись в окутанном облаками величии, наконец
Явная королева, не открыла свой несравненный свет,
и набросила на тьму свою серебряную мантию.
Так и Всемогущий Мильтона, рассматриваемый исключительно как литературный персонаж, к сожалению, окрашен узкой и буквальной теологией того времени. Он — существо чрезвычайно эгоистичное, деспот, а не слуга вселенной, восседающий на троне в окружении хора ангелов, вечно воспевающих ему хвалу и служащих некоему божественному тщеславию.
Не нужно искать такого персонажа на небесах; этот тип слишком распространён на земле. Но в «Сатане» Мильтон отходит от грубых средневековых представлений; он снова следует за мечтой и создаёт образ, достойный восхищения и понимания:
«Это тот регион, эта почва, этот климат»,
сказал тогда потерянный Архангел, — это ли место,
которое мы должны сменить на Небеса? — этот скорбный мрак
на тот небесный свет? Да будет так, ибо Тот,
Кто ныне владыка, может распоряжаться и приказывать
что будет правильно: дальний от Него — лучший,
Кого разум сравнялся, сила возвысила.
над равными. Прощайте, счастливые поля,
где вечно обитает радость! Приветствую вас, ужасы! Приветствую вас,
Адский Мир! и ты, глубочайший Ад,
Примите своего нового обладателя – того, кто приносит
Разум, неподвластный ни месту, ни времени.
Разум – это его собственное место и сам по себе
Может создать Рай из Ада, Ад из Небес.
Неважно, где, если я всё тот ;;же,
И кем я должен быть, – лишь бы меньше того,
Кого гром сделал великим? По крайней мере, здесь
Мы будем свободны; Всемогущий не создал
Здесь, чтобы его зависть не изгнала нас отсюда:
Здесь мы можем править безопасно; и, по моему выбору,
Править стоит амбиций, пусть даже и в аду:
Лучше править в Аду, чем служить на Небесах».
В этом великолепном героизме Мильтон неосознанно увековечил пуританский дух, тот самый непобедимый дух, который побуждал людей писать поэмы и аллегории, находясь в тюрьме за веру, и который отправил их через бурное море в ракушке, чтобы основать свободное содружество в диких землях Америки.
Для современного читателя понимание «Потерянного рая» предполагает два момента: знание первых глав Писания и общих принципов кальвинистского богословия; но жаль использовать поэму, как это часто делалось, для того, чтобы научить буквальному принятию того или другого. Что касается богословия «Потерянного рая», то лучше сказать меньше; но никакие слова не способны передать великолепие пуританской мечты и восхитительную мелодичность её выражения. Даже поверхностное знакомство поможет читателю понять, почему она стоит в одном ряду с «Божественной комедией» Данте и почему критики обычно признают её величайшей поэмой в нашей литературе.
Вскоре после завершения «Потерянного рая» Томас Эллвуд, друг Мильтона, прочитав рукопись «Рая», спросил: «А что ты скажешь о „Обретённом рае“?» Именно в ответ на это предложение Мильтон написал вторую часть великой эпической поэмы, известную нам как «Возвращённый рай». Первая часть повествует о том, как человечество в лице Адама пало при первом искушении сатаны и стало изгнанным из рая и божественной благодати; вторая показывает, как человечество в лице Христа противостоит искушению и вновь обретает божественную благодать. Тема — искушение Христа в пустыне, и Мильтон продолжает повествование в четвёртой главе Евангелия от Матфея. Хотя «Возвращённый рай» был любимым произведением Мильтона и содержит множество отрывков, полных благородных мыслей, и великолепные образы, не уступающие лучшим из «Потерянного рая», поэма в целом уступает первой и менее интересна для чтения.
В «Самсоне-борце» Мильтон обращается к более жизненной и личной теме, и его гений преображает историю Самсона, могучего воина Израиля, ныне слепого и презираемого, работающего рабом у филистимлян. Целью поэта было представить на английском языке чистую трагедию, со всей страстью и сдержанностью, характерными для древнегреческих драм. То, что ему удалось там, где другие потерпели неудачу, объясняется двумя причинами: во-первых, сам Мильтон вдохновил героя одной из греческих трагедий – его скорбь и горе придали его благородной натуре оттенок меланхолии и спокойного достоинства, идеально соответствующий его сюжету. Во-вторых, Мильтон рассказывает свою собственную историю. Подобно Самсону, он яростно боролся с врагами своего народа; он взял жену у филистимлян и понес за это наказание; он был слеп, одинок, презираем своими тщеславными и бездумными хозяевами. Поэтому к основному действию трагедии Мильтон мог добавить то сильное, но сдержанное личное чувство, которое убедительнее любых аргументов. «Самсон» — во многих отношениях самое убедительное из его произведений. Совершенно независимо от интереса к теме и её трактовке, он может дать лучшее представление о том, какой великой трагедией была трагедия у греков, чем любое другое произведение на нашем языке.
Здесь нет ничего, что могло бы вызвать слёзы, не о чём стенать
Или бить себя в грудь, нет слабости, нет презрения,
Нет порицания или обвинения – ничего, кроме добра и справедливости,
И что может успокоить нас в столь благородной смерти.
III. ПРОЗАИКИ ПУРИТАНСКИХ ПЕРИОДА
=================================
ДЖОН БАНЬЯН (1628–1688)
=======================
Как есть лишь один поэт, достаточно великий, чтобы выразить пуританский дух, так есть лишь один выдающийся прозаик — Джон Баньян. Мильтон был дитя Возрождения, наследник всей его культуры и самый глубоко образованный человек своего времени. Баньян был бедным, необразованным лудильщиком. От Возрождения он ничего не унаследовал; но от Реформации он получил избыток той духовной независимости, которая побудила пуритан бороться за свободу. Эти два человека, олицетворяя крайности английской жизни XVII века, написали два произведения, которые сегодня олицетворяют могучий пуританский дух. Один дал нам единственный эпос со времен «Беовульфа»; другой дал нам нашу единственную великую аллегорию, которую читали больше, чем любую другую книгу на нашем языке, за исключением Библии.
ЖИЗНЬ БАНЬЯНА.
=============
Баньян – выдающаяся личность; мы должны изучать его, как и его книги. К счастью, у нас есть история его жизни, написанная им самим, с той же очаровательной скромностью и искренностью, которые отличали всё его творчество. Читая эту историю сейчас, в «Изобилии благодати», мы видим два великих влияния, действовавших на его жизнь. Одно, изнутри, – его собственное живое воображение, которое видело видения, аллегории, притчи, откровения в каждом обычном событии. Другое, извне, – духовное брожение эпохи, умножение странных сект – квакеров, сторонников свободной воли, рантеров, анабаптистов, милленариев – и необузданное рвение всех сословий, подобно двигателю без балансира, когда люди порывали с авторитетами и устанавливали свои собственные религиозные нормы. Жизнь Баньяна – воплощение того поразительного религиозного индивидуализма, который ознаменовал завершение английской Реформации.
Он родился в маленькой деревушке Элстоу, близ Бедфорда, в 1628 году в семье бедного лудильщика. Некоторое время мальчика отправляли в школу, где он кое-как научился читать и писать; но вскоре он стал работать в отцовской мастерской, где, среди раскаленных горшков, огня и дыма его маленькой кузницы, он видел яркие картины ада и дьяволов, которые преследовали его всю жизнь.
Когда ему было шестнадцать лет, его отец женился во второй раз, после чего Баньян сбежал и стал солдатом парламентской армии.
Религиозное брожение той эпохи производило колоссальное впечатление на чуткое воображение Баньяна. Изредка он ходил в церковь, но лишь для того, чтобы обнаружить себя окутанным ужасами и мучениями какого-нибудь пламенного странствующего проповедника; и он яростно бежал из церкви, чтобы забыть свои страхи, присоединившись к воскресным играм на деревенской лужайке. С наступлением ночи игры забывались, но ужасы возвращались, умноженные, словно злые духи из притчи. Видения ада и демонов роились в его голове. Он громко стонал от раскаяния, и даже годы спустя он оплакивал грехи своей юности. Когда мы с опаской ищем их, ожидая каких-то ужасных преступлений и проступков, мы обнаруживаем, что они заключались в игре в мяч по воскресеньям и ругани. Последний грех, как ни печально, начался с того, что он слушал, как его отец ругает какой-то упрямый чайник, который не хотел чиниться, и был доведен до совершенства в парламентской армии. Однажды его ужасная ругань напугала женщину, «весьма распущенную и безбожную мерзавку», как он сам говорит, которая сделала ему выговор за богохульство. Упрек бедной женщины попал прямо в цель, словно голос пророка. Вся его ругань покинула его; он поник от стыда. «Я всем сердцем желал, – говорит он, – снова стать маленьким ребенком, чтобы мой отец научил меня говорить без этой гнусной ругани». С характерной для Баньяна горячностью он бросается на обетование Писания, и в его душе мгновенно начинается преобразование. Он отбрасывает эту привычку с корнем и ветвями и, к своему удивлению, обнаруживает, что может говорить свободнее и энергичнее, чем прежде. Нет ничего более характерного для этого человека, чем это внезапное увлечение текстом, который он, несомненно, слышал много раз, и внезапное воодушевление или уныние под его влиянием.
С женитьбой Баньяна на хорошей женщине началось настоящее преобразование его жизни. Ещё подростком он женился на девушке, такой же бедной, как и он сам. «Мы сошлись, – говорит он, – беднее всех, у нас не было ничего из домашней утвари, кроме тарелки или ложки на двоих».
Единственным приданым, которое девушка привезла в свой новый дом, были две старые, потрёпанные книги: «Путь простого человека на небеса» и «Практика благочестия». Баньян прочитал эти книги, и их чтение мгновенно воспламенило его воображение. Он увидел новые видения и увидел новые ужасные сны о потерянных душах; его посещение церкви стало образцовым; он начал медленно и мучительно читать Библию самостоятельно, но из-за собственного невежества и противоречивых толкований Писания, которые он слышал со всех сторон, его бросало, как перышко, по всем ветрам догматов.
История следующих нескольких лет подобна кошмару, настолько ужасна духовная борьба Баньяна. Сегодня он чувствует себя изгоем, завтра – спутником ангелов, а на третий – испытывает Всевышнего, чтобы испытать своё спасение. Идя по дороге в Бедфорд, он думает, что сотворит чудо, подобно Гедеону со своим руном. Он скажет лужицам воды на конских следах: «Будьте сухими»; и всем сухим следам он скажет: «Будьте лужицами». Когда он уже готов совершить чудо, ему приходит в голову мысль: «Но сначала пойди под ту изгородь и помолись, чтобы Господь дал тебе возможность совершить чудо». Он тут же идёт и молится. Затем он боится испытания и продолжает свой путь ещё более тревожным, чем прежде.
После многих лет такой борьбы, в метаниях между раем и адом, Баньян наконец выходит в более благоразумную атмосферу, подобно тому, как Пилигрим вышел из ужасной Долины Теней. Вскоре, ведомый своими сильными чувствами, он становится проповедником под открытым небом, и толпы рабочих собираются вокруг него на деревенской лужайке. Они молча слушают его слова; они заканчиваются стонами и слезами; множество из них исправляют свою греховную жизнь. Ибо англосаксонский народ примечателен тем, что, как бы глубоко они ни были погружены в дела или развлечения, они всё равно чувствительны, как барометры, к любому истинному духовному влиянию, будь то священник или крестьянин; они осознают то, что Эмерсон называет «акцентом Святого Духа», и в этом признании духовного лидерства заключается секрет их демократии. Так этот деревенский лудильщик, с его силой и искренностью, в настоящее время является признанным лидером огромной общины, и его влияние ощущается по всей Англии.
Именно благодаря его могуществу после возвращения Карла II Баньян первым получил запрет на проведение публичных собраний.
Относительно заключения Баньяна в Бедфордской тюрьме, последовавшего за его отказом подчиниться закону, запрещающему религиозные собрания без разрешения государственной церкви, существуют разные мнения. Само собой разумеется, что закон был несправедливым; но не было никаких религиозных преследований в нашем понимании этого слова. Баньяну было разрешено молиться, когда и как ему заблагорассудится; ему лишь запретили проводить публичные собрания, которые часто превращались в яростные обличения государственной церкви и правительства. Судьи умоляли Баньяна подчиниться закону. Он отказался, заявив, что, когда на него снизойдет Дух, он должен будет идти по стране, призывая людей к покаянию. В его отказе мы видим много героизма, немного упрямства и, возможно, нечто от того стремления к мученичеству, которое искушает любого духовного лидера. Несомненно, что его окончательный приговор к бессрочному заключению стал для Баньяна тяжким ударом. Он громко стонал при мысли о своей бедной семье, и особенно при мысли о том, что ему придется оставить свою маленькую слепую дочь:
Я обнаружил себя человеком, объятым немощами; разлука была словно отрывание плоти от костей… О, мысли о трудностях, которые, как я думал, предстоит пережить моей бедной слепой дочери, разорвали бы мне сердце. Бедное дитя, думал я, как же тебе скорбно о твоей участи в этом мире; тебя будут бить, ты будешь просить милостыню, терпеть голод, холод, наготу и тысячу бедствий, хотя я не могу больше выносить, чтобы ветер дул на тебя.
И затем, поскольку он всегда мыслит притчами и ищет самые любопытные тексты Писания, он говорит о «двух дойных коровах, которые должны были перевезти ковчег Божий в другую страну, оставив своих телят». Бедные коровы, бедный Баньян! Таков ум этого необыкновенного человека.
С присущим ему усердием Баньян принялся за работу в тюрьме, изготавливая шнурки, и таким образом зарабатывал на жизнь для своей семьи. Его заключение длилось почти двенадцать лет, но он часто виделся с семьёй и некоторое время регулярно проповедовал в баптистской церкви Бедфорда.
Иногда он даже выходил поздно ночью, проводя запрещённые собрания и укрепляя своё влияние на простых людей. Лучшим результатом этого заключения было то, что оно давало Баньяну долгие часы для работы его необычного ума и изучения двух его единственных книг: Библии короля Якова и «Книги мучеников» Фокса. Результатом его учёбы и размышлений стало «Путешествие пилигрима», которое, вероятно, было написано в тюрьме, но по какой-то причине опубликовано лишь спустя долгое время после освобождения.
Последующие годы – самая интересная часть странной карьеры Баньяна. Публикация «Путешествия пилигрима» в 1678 году сделала его самым популярным писателем, как и самым популярным проповедником в Англии. Книги, трактаты, проповеди – всего около шестидесяти произведений – вышли из-под его пера; и если вспомнить его невежество, мучительно медлительное письмо и деятельность странствующего проповедника, остаётся только удивляться. Его евангельские путешествия часто приводили его в Лондон, и куда бы он ни направлялся, толпы собирались послушать его. Учёные, епископы, государственные деятели тайно заходили послушать проповедь к рабочим и возвращались изумлёнными и молчаливыми. В Саутуарке даже самое большое здание не могло вместить множество его слушателей; и когда он проповедовал в Лондоне, тысячи людей собирались в холодных сумерках зимнего утра, ещё до начала работы, и слушали, пока он не заканчивал свою проповедь. Вскоре его стали называть «епископом Баньяном» за его миссионерские путешествия и огромное влияние.
Больше всего среди всей этой деятельности нас восхищает его идеальное душевное равновесие, милосердие и чувство юмора в борьбе многих сект. Годами его преследовали мелкие враги, и он вызывает наш энтузиазм своей терпимостью, самообладанием и, особенно, своей искренностью. До самого конца он сохранял ту простую скромность, которую не мог испортить никакой успех. Однажды, когда он проповедовал с необычайной силой, несколько друзей дождались его после службы, чтобы поздравить, сказав, какую «прекрасную проповедь» он произнес. «Да, — сказал Баньян, — не нужно мне напоминать; дьявол сказал мне это ещё до того, как я сошёл с кафедры».
В течение шестнадцати лет эта замечательная деятельность продолжалась беспрерывно.
Однажды, когда он ехал сквозь холодную бурю, выполняя свой долг, полный любви, чтобы примирить упрямого человека с его упрямым сыном, он сильно простудился и, больной и страдающий, но радующийся своему успеху, явился в дом друга в Рединге. Там он умер несколько дней спустя и был похоронен на кладбище Банхилл-Филдс в Лондоне, которое с тех пор стало местом упокоения верующих.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ БАНЬЯНА.
====================
В мировой литературе есть три великие аллегории: «Королева фей» Спенсера, «Божественная комедия» Данте и «Путешествие паломника» Баньяна. Первая обращена к поэтам, вторая — к учёным, третья — к людям всех возрастов и сословий. Вот краткое содержание этого знаменитого произведения:
«Проходя по пустыне этого мира, я наткнулся на место, где был вертеп [Бедфордская тюрьма], и лёг там спать; и, пока я спал, мне приснился сон». Так начинается история. Он видит человека по имени Кристиан, отправляющегося с книгой в руке и тяжёлым грузом на спине из города Разрушения. У Кристиана две цели: избавиться от бремени, которое тяготит его жизнь, и добраться до Святого Града. В начале Евангелист находит его плачущим, потому что он не знает, куда идти, и указывает ему на калитку на холме вдали. Когда Христианин идёт вперёд, соседи, друзья, жена и дети зовут его вернуться; но он затыкает уши пальцами, крича: «Жизнь, жизнь, вечная жизнь!», и мчится по равнине.
Затем начинается путешествие из десяти этапов, которое представляет собой яркую картину трудностей и триумфов христианской жизни. Каждое испытание, каждая трудность, каждое переживание радости или печали, мира или искушения облечено в форму и речь живого персонажа. Другие аллегористы пишут стихами, и их персонажи призрачны и нереальны; но Баньян говорит лаконичной, идиоматической прозой, и его персонажи — живые мужчины и женщины. Есть господин Мирской Мудрец, самодовольный и догматичный тип человека, юное Невежество, милое Благочестие, учтивый Демас, болтливый Болтун, честный Верующий и два десятка других, которые вовсе не являются бескровными созданиями из Романа о Розе, но людьми достаточно реальными, чтобы остановить вас на дороге и привлечь ваше внимание.
Сцена за сценой следуют, изображая многие из наших собственных духовных переживаний. Вот Трясина Уныния, в которую мы все упали, из которой Сговорчивый выбирается на эту сторону и возвращается с ворчанием, но Христианин изо всех сил борется, пока Помощник не протягивает ему руку, не вытаскивает его на твердую землю и не велит ему идти своей дорогой. Затем следуют Дом Переводчика, Прекрасный Дворец, Львы на пути, Долина Унижения, тяжелая битва с демоном Аполлионом, еще более ужасная Долина Тени, Ярмарка Тщеславия и суд над Верным. Последний приговаривается к смерти жюри, состоящим из мистера Слепца, мистера Негуда, мистера Хиди, мистера Ливлуз, мистера Хейтлайта и других, которым система присяжных поручает вопросы правосудия. Самый известный из них – Замок Сомнения, где Христианин и Надежда брошены в темницу Великаном Отчаянием. И наконец, Восхитительные Горы Юности, глубокая река, которую должен пересечь Христианин, и город Всеобщей Радости, и славное сонм ангелов, с пением проходящих по улицам. В самом конце, когда город виден, и он слышит приветствия, с которыми встречают Христианина, Невежество уносится прочь, чтобы отправиться в своё место; и Баньян остроумно замечает: «Тогда я увидел, что есть путь в ад, даже из врат рая, как и из города Разрушения. И я проснулся, и вот, это был сон!»
Сцена за сценой следуют, изображая многие из наших собственных духовных переживаний. Вот Трясина Уныния, в которую мы все упали, из которой Сговорчивый выбирается на эту сторону и возвращается с ворчанием, но Христианин изо всех сил борется, пока Помощник не протягивает ему руку, не вытаскивает его на твердую землю и не велит ему идти своей дорогой. Затем следуют Дом Переводчика, Прекрасный Дворец, Львы на пути, Долина Унижения, тяжелая битва с демоном Аполлионом, еще более ужасная Долина Тени, Ярмарка Тщеславия и суд над Верным. Последний приговаривается к смерти жюри, состоящим из мистера Слепца, мистера Негуда, мистера Хиди, мистера Ливлуз, мистера Хейтлайта и других, которым система присяжных поручает вопросы правосудия. Самый известный из них – Замок Сомнения, где Христианин и Надежда брошены в темницу Великаном Отчаянием. И наконец, Восхитительные Горы Юности, глубокая река, которую должен пересечь Христианин, и город Всеобщей Радости, и славное сонм ангелов, с пением проходящих по улицам. В самом конце, когда город виден, и он слышит приветствия, с которыми встречают Христианина, Невежество уносится прочь, чтобы отправиться в своё место; и Баньян остроумно замечает: «Тогда я увидел, что есть путь в ад, даже из врат рая, как и из города Разрушения. И я проснулся, и вот, это был сон!»
Такова вкратце эта история — великая эпопея об индивидуальном опыте пуританина в суровом мире, точно так же, как «Потерянный рай» был эпосом о человечестве, приснившимся великому пуританину, «уснувшему над своей Библией».
Главный факт, с которым сталкивается изучающий литературу, останавливаясь перед этой великой аллегорией, заключается в том, что она была переведена на семьдесят пять языков и диалектов и была прочитана больше, чем любая другая книга, за исключением книги на английском языке.
Что касается секрета его популярности, Тейн говорит: «После Библии самой читаемой книгой в Англии является „Путешествие пилигрима“… Протестантизм — это учение о спасении по благодати, и ни один писатель не сравнится с Беньяном в том, чтобы донести это учение до людей».
И это мнение разделяет большинство наших историков литературы. Пожалуй, достаточно привести простой ответ: „Путешествие пилигрима“ — не исключительно протестантское исследование; оно привлекает христиан всех вероисповеданий, мусульман и буддистов точно так же, как и христиан. Когда произведение перевели на языки католических стран, таких как Франция и Португалия, из него опустили лишь один-два эпизода, и история была там почти так же популярна, как и среди английских читателей. Секрет её успеха, вероятно, прост. Это, прежде всего, не шествие теней, повторяющих декламации автора, а настоящая история, первая развернутая история на нашем языке. Наши отцы-пуритане, возможно, читали эту историю для религиозного наставления; но все классы людей читали ее, потому что они находили в ней подлинный личный опыт, рассказанный с силой, интересом, юмором, — одним словом, со всеми качествами, которыми должна обладать такая история. Молодежь читала ее, во-первых, из-за ее внутренней ценности, потому что драматический интерес истории увлекал их до самого конца; и, во-вторых, потому что она стала для них введением в настоящую аллегорию. Ребенок с его богатым воображением, а также и взрослый, сохранивший свою простоту, естественным образом олицетворяет предметы и получает удовольствие, наделяя их способностью думать и говорить, как он сам. Баньян был первым писателем, который обратился к этой приятной и естественной склонности способом, понятным всем. Добавьте к этому тот факт, что «Путешествие пилигрима» было единственной книгой, вызывавшей хоть какой-то интерес в большинстве английских и американских домов на протяжении целого столетия, и мы найдем истинную причину ее широкой читаемости.
«Священная война», опубликованная в 1665 году, – первое значительное произведение Баньяна. Это прозаический «Потерянный рай», несомненно, известный как выдающаяся аллегория, если бы не затмеваемый своим великим соперником. «Благодать, изливающаяся на главного из грешников», опубликованный в 1666 году, за двенадцать лет до «Путешествия пилигрима», – произведение, дающее нам наиболее ясное представление о замечательной жизни Баньяна, и для человека с историческим или антикварным вкусом оно до сих пор остаётся прекрасным чтением. В 1682 году вышла «Жизнь и смерть мистера Бэдмена» – реалистическое исследование характеров, ставшее предвестником современного романа;и в 1684 году – вторую часть «Путешествия пилигрима», повествующую о путешествии Христианы и её детей в город Всех Радостей. Помимо этого, Баньян опубликовал множество трактатов и проповедей, написанных в одном стиле – прямом, простом, убедительном, выражающем каждую мысль и чувство словами, понятными даже ребёнку. Многие из них – шедевры, восхищающие как рабочих, так и учёных своей мыслью и выразительностью. Возьмём, к примеру, «Небесного лакея» и сравним его с лучшим произведением Латимера, и сходство стилей просто поразительно. Трудно поверить, что одно произведение принадлежит невежественному лудильщику, а другое – великому учёному, оба занимались одним и тем же общим делом. Поскольку единственной книгой Баньяна была Библия, мы видим здесь намёк на её влияние на всю нашу прозу.
ПИСАТЕЛИ МАЛОЙ ПРОЗЫ
====================
Пуританский период обычно считается периодом, лишенным литературного интереса; но это, конечно же, не было следствием недостатка книг или писателей. Бёртон пишет в своей «Анатомии меланхолии»:
У меня… каждый день новые книги, памфлеты, кавычки, рассказы, целые каталоги томов всех мастей, новые парадоксы, мнения, расколы, ереси, философские и религиозные споры. То приходят вести о свадьбах, маскарадах, развлечениях, юбилеях, посольствах, спортивных состязаниях, пьесах; то снова, как на только что отснятой сцене, измены, обманы, уловки, грабежи, чудовищные злодейства всех мастей, похороны, смерти, новые открытия, экспедиции; то комические, то трагические события…
Так продолжается летопись, пока кто-нибудь не протрёт глаза и не подумает, что, должно быть, по ошибке взял последний литературный журнал. И за всеми этими калейдоскопическими событиями ожидаю множество писателей, готовых схватить обильный материал и превратить его в литературное изложение для трактата, статьи, тома или энциклопедии.
Если бы кто-то рекомендовал некоторые из этих книг как выразители этой эпохи внешней бури и внутреннего спокойствия, то три заслуживают более, чем беглого упоминания, а именно «Religio Medici», «Holy Living» и «The Compleat Angler». Первая была написана занятым врачом, считавшимся в то время учёным;
вторая – учёнейшим из английских церковников;
и третья – простым купцом и рыбаком. Как ни странно, эти три великие книги – размышления о природе, науке и откровении – одинаково интерпретируют человеческую жизнь и рассказывают одну и ту же историю о кротости, милосердии и благородной жизни. Даже если бы эпоха породила только эти три книги, мы всё равно были бы ей глубоко благодарны за её вдохновляющее послание.
РОБЕРТ БЁРТОН (1577–1640).
=========================
Бёртон известен прежде всего как автор «Анатомии меланхолии», одной из самых удивительных книг во всей литературе, которая появилась в 1621 году. Бёртон был священником англиканской церкви, непостижимым гением, склонным к размышлениям и меланхолии, а также к чтению всевозможных произведений. Благодаря его удивительной памяти, всё прочитанное им хранилось для использования или украшения, так что его разум напоминал огромную лавку древностей. Всю жизнь он страдал ипохондрией, но, как ни странно, считал, что причина его болезни кроется в звёздах, а не в собственной печени. Рассказывают, что он так страдал от уныния, что не мог найти ему помощи ни в медицине, ни в теологии; единственным его утешением было спуститься к реке и послушать, как ругаются баржники.
«Анатомия» Бёртона начиналась как медицинский трактат о болезнях, организованный и поделённый со всей точностью, свойственной схоластам в изложении доктрин; но в итоге она превратилась в огромную мешанину цитат и ссылок на известных и неизвестных, живых и мёртвых авторов, которая, казалось, доказывала главным образом, что «многое изучение утомительно для тела». По какой-то прихоти вкуса она мгновенно стала популярной и была провозглашена одной из величайших книг в литературе. Некоторые учёные до сих пор с удовольствием изучают её, как кладезь классических сокровищ; но стиль её безнадёжно запутан, и для обычного читателя большинство его многочисленных ссылок теперь так же бессмысленны, как гиперякобианская поверхность.
СЭР ТОМАС БРАУН (1605–1682).
============================
Браун был врачом, который после долгих лет учёбы и путешествий обосновался в Норвиче, занимаясь своей профессией; но даже тогда он уделял гораздо больше времени исследованию природных явлений, чем варварским практикам, которые в значительной степени составляли «искусство» медицины его времени. Он был широко известен как учёный врач и честный человек, чьи научные исследования опередили его время, а религиозные взгляды были либеральными, граничащими с ересью.
В связи с этим, интересно отметить, как знамение времени, что этот учёнейший врач был однажды вызван для дачи «экспертных» показаний по делу двух старушек, обвиняемых в тяжком преступлении – колдовстве. Он показал под присягой, что «припадки были естественными, но усиливались из-за сотрудничества дьявола с ведьмами, по настоянию которых он [предполагаемый дьявол] совершал свои злодеяния».
Величайшее произведение Брауна – «Religio Medici», то есть «Религия врача» (1642), пользовавшееся необычайным успехом. «Вряд ли когда-либо в Британии была издана книга, – говорит Олдис, летописец, писавший почти столетие спустя, – которая наделала больше шума, чем «Religio Medici». Её успех, возможно, во многом объясняется тем, что среди тысяч религиозных произведений она была одной из немногих, где в природе усматривалось глубокое откровение, а чисто религиозные темы рассматривались с благоговением, доброжелательностью и терпимостью, без церковной предвзятости. Поэтому она по-прежнему остаётся прекрасным чтением; но дело не столько в её сути, сколько в манере – обаянии, мягкости, замечательном стиле изложения – которые сделали эту книгу одной из классических в нашей литературе.
Две другие работы Брауна – «Вульгарные заблуждения» (1646), любопытное сочетание научного и доверчивого исследования народных суеверий, и «Погребение в урнах» – трактат, на создание которого его вдохновила находка римских погребальных урн в Уолсингеме. Он начинался как исследование различных способов погребения, но завершился рассуждением о тщете земных надежд и амбиций. С литературной точки зрения это лучшее произведение Брауна, но его читают меньше, чем «Religio Medici».
ТОМАС ФУЛЛЕР (1608–1661).
========================
Фуллер был священником и роялистом, чей живой стиль и остроумные наблюдения естественным образом ставят его в один ряд с весёлыми поэтами Каролингской империи. Его наиболее известные произведения – «Священная война», «Священное государство и мирское государство», «Церковная история Британии» и «История достойнейших людей Англии». «Священное и мирское государство» – это, главным образом, биографический очерк: первая часть состоит из многочисленных исторических примеров, которым стоит подражать, а вторая – из примеров, которых следует избегать. «Церковная история» – не научный труд, несмотря на несомненную учёность её автора, но это живой и увлекательный рассказ, обладающий по крайней мере одним достоинством: он развлекает читателя.
«Достойные», самое читаемое из его произведений, – это яркий рассказ о выдающихся людях Англии. Фуллер годами постоянно путешествовал, собирая информацию из самых разных источников и досконально изучая свою родную страну. Благодаря его богатому юмору, многочисленным анекдотам и иллюстрациям, книга становится живым и интересным чтением. В самом деле, ни в одной из его многочисленных книг мы не найдём ни одной скучной страницы.
Джереми Тейлор (1613–1667).
===========================
Тейлор был величайшим из священнослужителей, прославивших этот период, человеком, который, подобно Мильтону, отстаивал благородный идеал и в бурю, и в штиль, и сам жил им благородно. Его называли «Шекспиром богословов» и «своего рода Спенсером в рясе», и оба эти определения вполне к нему применимы. Его произведения, с их буйной фантазией и благородным слогом, относятся скорее к елизаветинской, чем к пуританской эпохе.
Из множества его трудов два выделяются как наиболее характерные для него самого: «Свобода пророчества» (1646), которую Халлам называет первым призывом к терпимости в религии, основанным на всеобъемлющей и глубоко укоренившейся основе; и «Правила и упражнения святой жизни» (1650). К последнему можно добавить сопутствующий ему том «Святая смерть», опубликованный в следующем году. «Святая жизнь и смерть» как единый том долгие годы читалась практически в каждом английском коттедже. Вместе с «Покоем святых» Бакстера, «Путешествиями пилигрима» и Библией короля Якова она часто составляла целую библиотеку множества пуританских домов; и, читая её благородные слова и вдыхая её мягкий дух, мы не можем не желать, чтобы наши современные библиотеки были собраны на той же продуманной основе.
РИЧАРД БАКСТЕР (1615–1691).
==========================
Этот «самый деятельный человек своего времени» своей жизнью и творчеством во многом напоминает Беньяна. Как и Беньян, он был беден и необразован, священником-нонконформистом, постоянно подвергавшимся оскорблениям и преследованиям; и, подобно Беньяну, он всей душой и сердцем отдавался конфликтам своего времени и благодаря своим публичным выступлениям стал могущественной силой среди простых людей. В отличие от Джереми Тейлора, писавшего для учёных, чьи замысловатые фразы и классические аллюзии порой трудно понять, Бакстер шёл прямо к своей цели, апеллируя непосредственно к суждениям и чувствам своих читателей.
Количество его трудов почти невероятно, если вспомнить его насыщенную проповедническую жизнь и медлительность ручного письма. В общей сложности он оставил после себя около ста семидесяти различных трудов, которые, если их собрать, составили бы пятьдесят или шестьдесят томов. Поскольку он писал главным образом для того, чтобы повлиять на людей по насущным вопросам дня, большая часть этих трудов была предана забвению. Две его самые известные книги – «Вечный покой святых» и «Призыв к необращённым» – пользовались огромной популярностью, выдержали множество переизданий и широко читаются в наше время.
АЙЗАК УОЛТОН (1593–1683).
========================
Уолтон был мелким лондонским торговцем, который предпочитал ручьи с форелью и хорошее чтение прибылям от бизнеса и сомнительным радостям городской жизни; поэтому в пятьдесят лет, накопив немного денег, он покинул город и отправился в деревню, следуя велению сердца. Свою литературную деятельность, или, скорее, отдых, он начал с написания знаменитых «Жизнеописаний» – добрых и читабельных восхвалений Донна, Уоттона, Хукера, Герберта и Сандерсона, которые положили начало современной биографической литературе.
В 1653 году вышла книга «The Compleat Angler», которая с тех пор неуклонно растёт в цене и, пожалуй, пользуется большей популярностью, чем любая другая книга о рыбной ловле. Она начинается с разговора сокольника, охотника и рыболова; но вскоре говорит в основном рыболов, как это иногда бывает с рыбаками; охотник становится его учеником и легко учится, слушая рассуждения рыбака о своём искусстве. Разговоры, надо признать, часто бывают многословными и педантичными; но они лишь навевают на нас приятную сонливость, как это неизменно бывает после удачного дня рыбалки. Настолько благосклонен дух рыболова, настолько тонко он воспринимает красоту земли и неба, что к этой книге возвращаешься, как к любимому ручью с форелью, с неугасающим ожиданием чего-нибудь поймать. Среди тысяч книг о рыбной ловле эта книга стоит почти особняком, обладая очаровательным стилем, и поэтому её, вероятно, будут читать до тех пор, пока люди будут рыбачить. Но самое лучшее то, что это помогает лучше понимать природу и преподносит читателю небольшие моральные уроки так же осторожно, как мы забрасываем мушку осторожной форели;так что никто и не подозревает, что в нём клюют на лучшие качества. Хотя порой мы видели, как рыбаки ловят больше, чем нужно, или пробираются к лучшим водоёмам раньше своих собратьев-рыболовов, мы рады, ради Уолтона, не обращать внимания на такие необъяснимые исключения и соглашаться с дояркой: «Мы любим всех рыбаков, они такие честные, вежливые, тихие люди».
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПУРИТАНСКОГО ПЕРИОДА.
======================================
Полвека между 1625 и 1675 годами называют пуританским периодом по двум причинам: во-первых, потому что пуританские стандарты некоторое время преобладали в Англии; и, во-вторых, потому что величайшей литературной фигурой всех этих лет был пуританин Джон Мильтон. Исторически этот период был периодом огромного конфликта. Пуритане боролись за справедливость и свободу, и, поскольку он одержал победу, этот период является периодом моральной и политической революции. В своей борьбе за свободу пуритане свергли коррумпированную монархию, обезглавили Карла I и основали Содружество под руководством Кромвеля. Содружество просуществовало всего несколько лет, и реставрацию Карла II в 1660 году часто считают концом пуританского периода. Этот период не имеет четких границ, но охватывает с одной стороны елизаветинский период, а с другой — период Реставрации.
Эта эпоха подарила миру множество писателей, несколько бессмертных книг и одного из величайших мировых литературных лидеров. Литература этой эпохи чрезвычайно разнообразна по своему характеру, и это разнообразие обусловлено разрушением идеалов политического и религиозного единства. Эта литература отличается от литературы предыдущего века тремя существенными особенностями:
(1) в ней нет единства духа, как во времена Елизаветы, проистекающего из патриотического энтузиазма всех сословий.
(2) В отличие от оптимизма и энергии елизаветинских произведений, значительная часть литературы этого периода носит мрачный характер; она скорее огорчает, чем вдохновляет.
(3) она утратила романтический импульс юности и стала критичной и интеллектуальной; она заставляет нас думать, а не чувствовать глубоко.
В нашем исследовании мы отметили
(1) поэтов переходного периода, главным из которых является Дэниел;
(2) авторов песен, Кэмпион и Бретон;
(3) поэтов-спенсеров, Уизер и Джайлз Флетчер;
(4) поэтов-метафизиков, Донна и Герберта; (
5) поэтов-кавалеров, Херрика, Кэрью, Лавлейс и Саклинга;
(6) Джон Мильтон, его жизнь, ранние или хортоновские поэмы, его воинственная проза и его последние великие поэтические произведения;
(7) Джон Баньян, его необыкновенная жизнь и его главное произведение, «Путешествие пилигрима»;
(8) «Второстепенные прозаики»: Бертон, Браун, Фуллер, Тейлор, Бакстер и Уолтон. Три книги, выбранные из этой группы, – «Religio Medici» Брауна, «Святая жизнь и смерть» Тейлора и «Полный рыболов» Уолтона.
ГЛАВА VIII
ПЕРИОД РЕСТАВРАЦИИ (1660-1700)
=============================
ЭПОХА ФРАНЦУЗСКОГО ВЛИЯНИЯ
===========================
ИСТОРИЯ ПЕРИОДА.
===============
На первый взгляд кажется странным противоречием относить возвращение Карла II к началу современной Англии, как это обычно делают наши историки; ведь никогда ещё прогресс свободы, зафиксированный историей, не был столь явственно повёрнут вспять. Пуританский режим был слишком суров; он подавлял слишком много естественных удовольствий. Теперь, освободившись от ограничений, общество отказалось от приличий и уважения к закону и погрузилось в излишества, ещё более противоестественные, чем ограничения пуританства. Неизбежный результат излишеств – болезнь, и почти целое поколение после Реставрации в 1660 году Англия болела лихорадкой. В социальном, политическом и нравственном отношении Лондон напоминает итальянский город времён Медичи; а его литература, особенно драматургия, часто кажется скорее бредом болезни, чем проявлением здорового ума. Но даже у лихорадки есть свои преимущества. Всякая нечистота в крови «сгорает и очищается», и человек восстаёт из лихорадки с новой силой и новым пониманием ценности жизни, подобно царю Езекии, который после болезни и страха смерти решил «прожить жизнь тихо» до конца своих дней. Реставрация стала великим кризисом в английской истории; и то, что Англия пережила её, было исключительно заслугой силы и превосходства того пуританства, которое, как она думала, она развеяла по ветру, приветствуя в Дувре жестокого монарха. Главный урок Реставрации заключался в том, что она с ужасающей ясностью продемонстрировала необходимость правды и честности, а также сильного правления свободных людей, за которое пуритане стояли, как скала, в каждый час своей суровой истории.
Сквозь лихорадку Англия медленно выздоравливала; сквозь глубочайшую коррупцию в обществе и государстве Англия узнала, что её народ в глубине души – люди трезвые, искренние, религиозные, и что их характер от природы слишком силён, чтобы стремиться к удовольствиям и быть удовлетворённым. Так пуританство внезапно обрело всё, за что боролось, и обрело это даже в тот час, когда всё казалось потерянным, когда Мильтон в своей скорби неосознанно изобразил правление Карла и его Кабалу в той потрясающей сцене совета адских пэров в «Пандемониуме», замышляющих гибель мира.
О короле и его приближенных трудно писать сдержанно. Большая часть драматической литературы того времени чудовищна, и мы можем понять её, только вспоминая характер двора и общества, для которых она была написана. Невыразимо подлый в личной жизни, король не испытывал искупительного патриотизма, не чувствовал ответственности перед страной даже за свои публичные действия. Он раздавал высокие должности негодяям, воровал из казны, как обычный вор, натравливал католиков и протестантов друг на друга, пренебрегая обещаниями, данными им обоим, нарушил свой торжественный договор с голландцами и собственными министрами и предал свою страну ради французских денег, которые тратил на свои удовольствия. Бесполезно описывать позор двора, который с радостью следовал за таким лидером. В первом парламенте, хотя и присутствовали некоторые благородные и патриотичные члены, преобладали молодые люди, помнившие о чрезмерном пуританском рвении, но забывшие о деспотизме и несправедливости, которые заставили пуританство восстать и утвердить мужественность Англии. Эти молодые политики соперничали с королём, принимая законы, направленные на подчинение церкви и государства, и жаждали мести всем, кто был связан с железным правительством Кромвеля. Вновь жалкий формализм – эта вечная угроза английской церкви – вышел на передний план и взял верх над свободными церквями. Палата лордов значительно увеличилась за счёт учреждения наследственных титулов и поместий для незнатных мужчин и бесстыдных женщин, льстивших тщеславию короля. Даже судейский корпус, это последнее надежное прибежище английского правосудия, был развращен назначением судей, подобных жестоким Джеффри, чьей целью, как и целью их государя-короля, было нажива и использование власти без личной ответственности.
Среди всего этого позора иностранное влияние и власть сильного правительства Кромвеля развеялись, как дым. Доблестный маленький голландский флот сметал английский флот с моря, и только грохот голландских орудий в Темзе, под самыми окнами Лондона, пробудил нацию к осознанию того, насколько низко она пала.
Два соображения должны изменить наше суждение об этом удручающем зрелище.
Во-первых, король и его двор – это не Англия. Хотя наша история в значительной степени заполнена записями о королях и солдатах, об интригах и сражениях, они не более отражают реальную жизнь народа, чем лихорадка и бред – о нормальной зрелости. Хотя король, двор и высшее общество вызывают у нас отвращение или жалость, свидетельства не в состоянии показать, что частная жизнь в Англии оставалась честной и непорочной даже в худшие дни Реставрации. В то время как лондонское общество, возможно, развлекалось дегенеративной поэзией Рочестера и драмами Драйдена и Уичерли, английские учёные с восторгом приветствовали Мильтона; а простой народ следовал за Баньяном и Бакстером с их громким призывом к справедливости и свободе.
Во-вторых, король, со всеми его претензиями на божественное право, оставался лишь номинальным главой; и англосаксонский народ, устав от одного номинального правителя, всегда обладает волей и силой, чтобы выбросить его за борт и выбрать лучшего. Страна была разделена на две политические партии: виги, стремившиеся ограничить королевскую власть в интересах парламента и народа, и тори, стремившиеся сдержать растущую власть народа в интересах своих наследственных правителей. Однако обе партии были в значительной степени преданы англиканской церкви; и когда Яков II, после четырёх лет безвластия, попытался установить национальный католицизм путём интриг, вызвавших протест как папы римского, так и парламента, виги и тори, католики и протестанты, объединились в последней великой революции в Англии.
Полная и бескровная революция 1688 года, возведшая на престол Вильгельма Оранского, стала лишь свидетельством восстановления здоровья и здравомыслия Англии. Она провозгласила, что она не забыла и никогда больше не забудет урок, преподанный ей пуританством за сто лет борьбы и жертв.
Современная Англия прочно утвердилась в результате Революции, которая была вызвана крайностями Реставрации.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ.
==========================
В литературе эпохи Реставрации мы наблюдаем внезапный отход от старых стандартов, подобно тому, как общество освободилось от ограничений пуританства. Многие литераторы были изгнаны из Англии вместе с Карлом и его двором или последовали за своими покровителями в изгнание во времена Содружества. Вернувшись, они отреклись от старых идеалов и потребовали, чтобы английская поэзия и драма следовали стилю, к которому они привыкли в парижской жизнерадостности. В дневнике Пипса (1660–1669) мы с удивлением читаем, что он смотрел пьесу под названием «Сон в летнюю ночь», но больше никогда не пойдет слушать Шекспира, «ибо это самая безвкусная и нелепая пьеса, которую я когда-либо видел в своей жизни». И снова мы читаем в дневнике Эвелина – ещё одного писателя, с удивительной точностью отражающего жизнь и дух Реставрации: «Я видел „Гамлета“; но теперь старые пьесы начинают вызывать отвращение у этого утончённого века, с тех пор как его величество так долго находился за границей». Поскольку Шекспир и елизаветинцы больше не были интересны, литераторы начали подражать французским писателям, с произведениями которых они только что познакомились; и здесь начинается так называемый период французского влияния, которое проявилось в английской литературе в течение следующего столетия, вместо итальянского влияния, преобладавшего со времён Спенсера и елизаветинцев.
Достаточно лишь на мгновение вспомнить французских писателей этого периода: Паскаля, Боссюэ, Фенелона, Малерба, Корнеля, Расина, Мольера – всю эту блестящую компанию, благодаря которой правление Людовика XIV стало елизаветинским веком французской литературы, – чтобы увидеть, насколько далеко зашли ранние писатели Реставрации в своём жалком подражании. Когда человек берёт другого за образец, он должен копировать добродетели, а не пороки; но, к сожалению, многие английские писатели перевернули это правило, копируя пороки французской комедии, лишённые её остроумия, утончённости или богатства идей. Стихи Рочестера, пьесы Драйдена, Уичерли, Конгрива, Ванбру и Фаркуара, популярные в своё время, по большей части нечитабельны.
«Сыны Велиала, охваченные дерзостью и вином» Мильтона — прекрасное выражение низменного характера придворных писателей и лондонских театров на протяжении тридцати лет после Реставрации. Такие произведения никогда не могут удовлетворить народ, и когда в 1698 году Джереми Колльер опубликовал энергичную критику дурных пьес и драматургов того времени, весь Лондон, устав от грубости и излишеств Реставрации, присоединился к литературной революции, и продажная драма была изгнана со сцены.
С окончательным отказом от драмы Реставрации мы вступаем в кризис в истории нашей литературы. Старый елизаветинский дух с его патриотизмом, творческой энергией, любовью к романтике и пуританский дух с его моральной серьёзностью и индивидуализмом ушли в прошлое; и поначалу нечем было их заменить. Драйден, величайший писатель того времени, выразил общую жалобу, сказав, что в своей прозе и поэзии он «намечает контуры» нового искусства, но у него нет учителя, который мог бы его научить. Но литература – ;;искусство прогрессивное, и вскоре писатели того времени развили две собственные ярко выраженные тенденции: тягу к реализму и тягу к той точности и изяществу выражения, которая отличает нашу литературу на протяжении последующих ста лет.
В реализме, то есть в изображении людей такими, какие они есть, в выражении простой, неприкрытой правды, без оглядки на идеалы или романтику, тенденция поначалу была совершенно дурной. Ранние писатели эпохи Реставрации стремились рисовать реалистичные картины коррумпированного двора и общества и, как мы уже предполагали, делали акцент на пороках, а не на добродетелях, создавая грубые, низкопробные пьесы, лишенные интереса и морального смысла. Подобно Гоббсу, они видели лишь внешнюю сторону человека, его тело и желания, а не его душу с её идеалами; и поэтому, подобно большинству реалистов, они напоминают человека, заблудившегося в лесу, который бесцельно бродит кругами, видя лишь причудливые деревья, но никогда не видя всего леса, и редко задумывается о том, чтобы подняться на ближайший высокий холм, чтобы сориентироваться. Однако позднее эта тенденция к реализму стала более плодотворной. Хотя она и пренебрегала романтической поэзией, к которой вечно проявляет интерес юность, она привела к более глубокому изучению практических мотивов, управляющих человеческими поступками.
Второй тенденцией этой эпохи было стремление к прямоте и простоте выражения, и этой прекрасной тенденции наша литература во многом обязана. Как в елизаветинскую, так и в пуританскую эпоху общей тенденцией писателей была экстравагантность мысли и языка. Предложения часто были запутанными и перегруженными латинскими цитатами и классическими аллюзиями. Писатели эпохи Реставрации решительно противились этому. Из Франции они принесли с собой тенденцию соблюдать установленные правила письма, делать акцент на кратких рассуждениях, а не на романтических выдумках, и использовать короткие, чёткие предложения без лишних слов. Мы видим это французское влияние в Королевском обществе, одной из целей которого было реформирование английской прозы путём избавления от её «стилистических излишеств» и которое обязывало всех своих членов использовать «сжатый, откровенный, естественный способ речи… максимально приближенный к математической простоте». Драйден принял это превосходное правило для своей прозы и использовал героический двустишие как ближайший аналог для большей части своих стихов. Как он сам говорит:
И этот неотшлифованный, грубый стих я выбрал
Как наиболее подходящий для рассуждения и наиболее близкий к прозе.
Во многом благодаря ему писатели выработали тот формализм стиля, ту точную, почти математическую элегантность, которую ошибочно называют классицизмом, и которая господствовала в английской литературе в течение следующего столетия.
Ещё один интересный момент в литературе эпохи Реставрации, который читатель с интересом отметит, – это принятие героического двустишия, то есть двух рифмованных пятистопных стихов, как наиболее подходящей формы поэзии. Уоллер, начавший использовать его в 1623 году, обычно считается отцом двустишия, поскольку он был первым поэтом, последовательно применявшим его в большинстве своих стихотворений. Чосер великолепно использовал рифмованное двустишие в своих «Кентерберийских рассказах», но у Чосера нас восхищает скорее поэтическая мысль, чем выразительность. У писателей эпохи Реставрации форма имеет решающее значение. Уоллер и Драйден сделали двустишие господствующей литературной модой, и в их исполнении двустишие становится «закрытым»; то есть каждая пара строк должна содержать законченную мысль, выраженную как можно точнее.
Так пишет Уоллер:
Тёмный дом души, разрушенный и обветшалый,
пропускает новый свет сквозь щели, проделанные временем.
Это своего рода афоризм, подобный тому, который Поуп в большом количестве сочинял в последующие века. Он содержит мысль, цепляет, цитируется, легко запоминается; и писатели эпохи Реставрации им восхищались. Вскоре этот механический замкнутый двустих, в котором вторая строка часто писалась первой, почти вытеснил все другие формы поэзии. Он господствовал в Англии целое столетие, и мы привыкли к нему, несколько утомившись от его монотонности, в таких знаменитых стихотворениях, как «Опыт о человеке» Поупа и «Заброшенная деревня» Голдсмита. Однако это скорее эссе, чем поэмы. То, что даже двустишие способно к мелодичности и разнообразию, показано в «Сказках» Чосера и в изысканном «Эндимионе» Китса.
Эти четыре черты:
склонность к вульгарному реализму в драме,
общий формализм, проистекающий из следования установленным правилам,
развитие более простого и прямого стиля прозы и
преобладание героического двустишия в поэзии –
являются основными характеристиками литературы Реставрации. Все они нашли отражение в творчестве одного человека – Джона Драйдена.
ДЖОН ДРАЙДЕН (1631-1700)
========================
Драйден – величайшая литературная фигура эпохи Реставрации, и в его творчестве мы видим превосходное отражение как положительных, так и отрицательных тенденций эпохи, в которую он жил. Если на мгновение представить себе литературу как водный канал, то можно понять образ Драйдена как «шлюза, по которому воды английской поэзии спускались с гор Шекспира и Мильтона на равнину Поупа»; то есть он стоит между двумя совершенно разными эпохами и служит переходом от одной к другой.
ЖИЗНЬ.
=====
Жизнь Драйдена содержит так много противоречивых элементов величия и ничтожности, что биограф постоянно отвлекается от фактов, которые являются его главным интересом, чтобы судить о мотивах, которые явно находятся вне его знаний и интересов. Судя по его собственному мнению о себе, выраженному в многочисленных предисловиях к его произведениям, Драйден был душой прямоты, писавшим только для литературы и не имевшим другой цели, кроме содействия благосостоянию своего времени и нации. Судя по его поступкам, он был, по-видимому, приспособленцем, угождающим развращенной публике в своих драмах и посвящающим свои произведения с большой лестью тем, кого тщеславие легко уговаривало поделиться с ним кошельком и покровительством. В этом, однако, он лишь следовал общей традиции своего времени и превосходит многих своих современников.
Драйден родился в деревне Олдуинкл в Нортгемптоншире в 1631 году. Его семья была состоятельной, его воспитали в строгой пуританской вере и отправили сначала в знаменитую Вестминстерскую школу, а затем в Кембридж. Он прекрасно использовал свои возможности и усердно учился, став одним из самых образованных людей своего времени, особенно в области классической литературы. Несмотря на выдающийся литературный вкус, до тридцати лет он не проявлял особых литературных способностей. Благодаря своему образованию и семейным связям он был связан с пуританской партией, и его единственное известное произведение этого периода, «Героические строфы», было написано на смерть Кромвеля:
Свое величие он черпал только от небес,
Ибо он был велик до того, как Фортуна сделала его таким;
И войны, словно туманы, поднимающиеся против солнца,
Заставляли его лишь казаться больше, но не расти.
В этих четырех строках, взятых почти наугад из «Героических строф», мы видим воплощение мысли, точности и изысканности, которые отличают все его литературное творчество.
Эта поэма принесла Драйдену широкую известность, и он был на верном пути к тому, чтобы стать новым поэтом пуританизма, когда Реставрация полностью изменила его методы. Он приехал в Лондон ради литературной жизни, и когда роялисты снова пришли к власти, он сразу же занял победную позицию. Его «Astraea Redux», приветственная поэма Карлу II, и «Панегирик Его Священному Величеству» дышат большей преданностью «старому козлу», как короля называли придворные, чем его ранние поэмы, посвящённые пуританистам.
В 1667 году он приобрел ещё большую известность и популярность благодаря своей поэме «Annus Mirabilis», описывающей ужасы великого лондонского пожара и некоторые события позорной войны с Голландией. Но с возобновлением работы театров и ежевечерним заполнением залов, драма стала самым привлекательным полем деятельности для того, кто зарабатывал на жизнь литературой; поэтому Драйден обратился к сцене и согласился ставить по три пьесы в год для актёров Королевского театра. Почти двадцать лет, лучшие годы своей жизни, Драйден посвятил себя этой злополучной работе. И по природе, и по привычке он, похоже, был чист в личной жизни; но сцена требовала нечистых пьес, и Драйден следовал за своей публикой. То, что он сожалел об этом, видно из некоторых его поздних работ, и, как мы знаем, он написал только одну пьесу, лучшую из своих, чтобы порадовать себя. Это была пьеса «Всё ради любви», написанная белым стихом, а большинство остальных – рифмованными двустишиями.
В это время Драйден стал самым известным литератором Лондона и был почти таким же диктатором для литературной элиты, собиравшейся в тавернах и кофейнях, каким до него был Бен Джонсон. Его труды, между тем, были вознаграждены значительными финансовыми доходами и званием поэта-лауреата и сборщика налогов Лондонского порта. Эту должность, как можно вспомнить, когда-то занимал Чосер.
В возрасте пятидесяти лет, еще до того, как Джереми Колльер изгнал его драмы со сцены, Драйден отошел от драматического творчества, чтобы полностью посвятить себя борьбе религии и политики, написав в этот период многочисленные прозаические и поэтические трактаты.
В 1682 году вышла его работа «Religio Laici» («Религия мирянина»), защищавшая англиканскую церковь от всех других сект, особенно от католиков и пресвитериан; но три года спустя, когда на престол взошел Яков II с планами установления римской веры, Драйден стал католиком и написал свою самую известную религиозную поэму «Лань и пантера», которая начинается так:
Молочно-белая лань, бессмертная и неизменная,
Кормилась на лужайках и в лесных рядах;
Снаружи незапятнанная, внутри невинная,
Она не боялась никакой опасности, ибо не знала греха.
Эта лань – символ Римско-католической церкви; а англикане, в образе пантеры, изображены преследующими верующих. Многочисленные другие секты – кальвинисты, анабаптисты, квакеры – были представлены волком, кабаном, зайцем и другими животными, что дало поэту прекрасную возможность проявить свою сатиру. Враги Драйдена обвиняли его, часто повторявшееся впоследствии, в лицемерии, связанном с таким изменением церкви; но в его искренности сейчас едва ли можно сомневаться, ибо он умел «страдать за веру» и быть верным своей религии, даже когда это означало неверные суждения и потерю состояния. Во время Революции 1688 года он отказался от верности Вильгельму Оранскому; его лишили всех должностей и пенсий, и, состарившись, он вновь оказался вынужден обратиться к литературе как к единственному источнику существования. Он взялся за работу с необычайной смелостью и энергией, сочиняя пьесы, поэмы, предисловия к другим людям, панегирики на похоронах – все виды литературных произведений, за которые люди готовы были платить. Наиболее успешными его работами в это время стали переводы, результатом которых стали полная «Энеида» и многие избранные произведения Гомера, Овидия и Ювенала, изданные в виде английских рифмованных двустиший. Его самая долговечная поэма, великолепная ода «Пир Александра», была написана в 1697 году. Три года спустя он опубликовал свое последнее произведение, «Басни», содержащее поэтические парафразы рассказов Боккаччо и Чосера, а также различные стихотворения последних лет жизни. Длинные предисловия были в моде во времена Драйдена, и его лучшие критические работы содержатся во введениях. Предисловие к «Басням» обычно считается примером нового стиля прозы, разработанного Драйденом и его последователями.
С литературной точки зрения эти последние, тревожные годы были лучшими в жизни Драйдена, хотя они и были омрачены безвестностью и критикой его многочисленных врагов. Он умер в 1700 году и был похоронен рядом с Чосером в Вестминстерском аббатстве.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДРАЙДЕНА.
======================
Многочисленные драматические произведения Драйдена лучше всего оставить в безвестности, в которой они канули. Время от времени в них встречаются проблески превосходной лирики, а в «Всё ради любви», ещё одной версии «Антония и Клеопатры», где он оставляет свой заветный героический двустих белому стиху Марло и Шекспира, он показывает, чего мог бы добиться, если бы не продал свой талант развращённой публике. В целом, читать его пьесы – всё равно что грызть гнилое яблоко: даже хорошие места подвержены гниению, и в конце концов всё отправляется в мусорную корзину, где и должно быть большинство драматических произведений этого периода.
Спорные и сатирические стихотворения Драйдена находятся на более высоком уровне; хотя, надо признать, сатира Драйдена часто поражает нас скорее острой и мстительной, чем остроумной. Наиболее известное из них, шедевр в своём роде, – «Авессалом и Ахитофел», несомненно, самая сильная политическая сатира в нашем языке. Взяв за основу библейскую историю о Давиде и Авессаломе, он использует её, чтобы высмеять партию вигов и отомстить своим врагам. Карл II предстаёт в образе царя Давида; его внебрачный сын, герцог Монмутский, замешанный в заговоре в Рай-Хаусе, представлен как Авессалом; Шафтсбери – как Ахитофел, злой советник; а герцог Бекингем высмеян как Зимри. Поэма оказала огромное политическое влияние и, по мнению современников, вознесла Драйдена в один ряд с выдающимися английскими поэтами. Здесь приведены два отрывка из ярких характеристик Ахитофела и Зимри, чтобы показать стиль и дух всего произведения.
(ШАФТСБЕРИ)
Из них первым был ложный Ахитофел;
Имя, проклятое на все последующие века:
Имя его было проклято на все последующие века:
Ибо тайные замыслы и коварные советы ему свойственны;
Проницательный, смелый и бурный ум;
Неугомонный, неустойчивый в принципах и месте;
Недовольный властью, нетерпеливый к позору:
Пылающая душа, которая, прокладывая свой путь,
Заставляла пигмейское тело тлеть…
Отважный лоцман в крайности,
Радуется опасности, когда волны вздымаются.
Он искал бурь: но для штиля не годился,
Слишком близко плыл к пескам, чтобы похвастаться своим остроумием.
Большие умы наверняка с безумием связаны,
И тонкие перегородки разделяют их границы;
Иначе зачем бы он, обладая богатством и честью,
лишал свою старость необходимых часов отдыха?
наказывать тело, которому он не мог угодить;
лишенный жизни, но расточительный в удовольствиях?
И всё оставить, что он трудом добыл,
Этому бесперому двуногому существу, сыну...
В дружбе лживому, в ненависти неумолимому;
Решившему разрушить или править государством;…
Затем, охваченный страхом, но всё ещё стремящийся к славе,
Присвоил себе искупительное имя патриота.
Так легко это оказывается в мятежные времена
С всеобщим рвением искупить личные преступления.
(Герцог Бекингемский)
Некоторые из их вождей были князьями земли;
В первом ряду их стоял Зимри,
Человек столь разносторонний, что казался
Не одним человеком, а воплощением всего человечества:
Непреклонный в суждениях, всегда неправый,
Все было поначалу и ничто не было долго;
Но в течение одного оборота луны
Был химиком, скрипачом, государственным деятелем и шутом;
Затем всё для женщин, живописи, рифм, выпивки,
И десять тысяч чудаков, что умерли в мыслях.
Блажен безумец, который мог каждый час занять
Чем-то новым, чем желать или наслаждаться!
Брань и похвала были его обычными темами,
И то и другое, чтобы показать его суждение, в крайностях:
Так чрезмерно яростно или чрезмерно вежливо,
Что каждый человек рядом с ним был Богом или дьяволом.
Из множества разнообразных стихотворений Драйдена любознательный читатель получит представление о его неистощимой повествовательной силе благодаря «Году чудес». Однако наилучшее выражение литературного гения Драйдена — «Пир Александра» — его самая долговечная ода и одна из лучших на нашем языке.
Как прозаик, Драйден оказал заметное влияние на нашу литературу, сокращая предложения и, в особенности, излагая их естественно, не прибегая к литературным украшениям для выражения смысла. Если сравнить его прозу с прозой Мильтона, Брауна или Джереми Тейлора, то можно заметить, что Драйден меньше всех остальных заботится о стиле, но больше старается излагать свои мысли ясно и кратко, как говорят люди, желающие быть понятыми.
Классическая школа, возникшая после Реставрации, считала Драйдена своим лидером, и именно ему мы во многом обязаны той тягой к точности выражения, которая характеризует нашу последующую прозу. В прозе Драйден быстро развил свой критический талант и стал ведущим критиком своего времени. Его критические статьи, вместо того чтобы публиковаться как самостоятельные произведения, обычно использовались в качестве предисловий или вступлений к его поэзии. Наиболее известными из этих критических работ являются предисловие к «Басням», «О героических пьесах», «Рассуждение о сатире» и особенно «Опыт драматической поэзии» (1668), в котором предпринята попытка заложить основы всей литературной критики.
ВЛИЯНИЕ ДРАЙДЕНА НА ЛИТЕРАТУРУ.
===============================
Драйден занимает особое место среди писателей, отчасти благодаря своему огромному влиянию на последующую эпоху классицизма. Вкратце, это влияние можно резюмировать, отметив три новых элемента, которые он привнес в нашу литературу. Это:
(1) утверждение героического двустишия как модного жанра сатирической, дидактической и описательной поэзии;
(2) развитие им прямого, практичного прозаического стиля, который мы до сих пор культивируем; и
(3) развитие им искусства литературной критики в своих эссе и многочисленных предисловиях к своим поэмам.
Это, безусловно, большая работа для одного человека, и Драйден достоин уважения, хотя сравнительно немногое из написанного им сейчас можно найти на наших книжных полках.
Сэмюэл Батлер (1612–1680).
=========================
Резким контрастом с Драйденом, посвятившим свою жизнь литературе и добившимся успеха упорным трудом, является Сэмюэл Батлер, который прославился благодаря единственному, беззаботному произведению, которое не представляет собой какого-либо серьёзного намерения или усилия, а является лишь развлечением в праздный час. Следует помнить, что, хотя роялисты и одержали победу в Реставрации, пуританский дух не умер и даже не спал, и что пуритане твёрдо придерживались своих принципов. Против этих принципов справедливости, истины и свободы не было возражений, поскольку они выражали мужественность Англии; но многие из обычаев пуритан были открыты для насмешек, и роялисты, мстя за своё поражение, стали высмеивать их безжалостно. В первые годы Реставрации наиболее популярной формой литературы в лондонском обществе были вирши, высмеивающие пуританство, и бурлеск, то есть нелепое изображение серьезных тем или серьезное изображение нелепых тем.
Из всей этой бурлеска и виршей наиболее известна пьеса Батлера «Гудибрас», в которой прослеживаются многие предрассудки, до сих пор господствующие против пуританства.
О самом Батлере нам известно мало; он — одна из самых малоизвестных фигур в нашей литературе. Во времена протектората Кромвеля он состоял на службе у сэра Сэмюэля Люка, сварливого и экстремистского пуританского дворянина, и здесь он собирал материал и, вероятно, написал первую часть своей бурлески, которую, конечно же, решился опубликовать лишь после Реставрации.
«Гудибрас» явно списан с «Дон Кихота» Сервантеса. В нём описываются приключения фанатичного мирового судьи, сэра Гудибраса, и его оруженосца Ральфо, в их стремлении подавить все невинные удовольствия. В «Гудибрасе и Ральфо» два крайних течения пуританской партии, пресвитериане и индепенденты, безжалостно высмеиваются. Когда поэма впервые появилась публично в 1663 году, после многих лет тайного распространения в рукописи, она сразу же стала чрезвычайно популярной. Король носил копию в кармане, а придворные наперебой цитировали её самые непристойные отрывки. Вторая и третья части, продолжающие приключения Гудибраса, были опубликованы в 1664 и 1668 годах. В лучшем случае это произведение представляет собой жалкую виршу, но оно было достаточно остроумным и поразительно оригинальным; И поскольку он выражал роялистский дух по отношению к пуританам, он быстро нашёл своё место в литературе, отражающей все стороны человеческой жизни. Здесь приведены несколько отдельных строк, чтобы показать характер произведения и познакомить читателя с самым известным бурлеском на нашем языке:
Он был великим критиком в логике,
Глубоко искусным в аналитике;
Он мог различать и разделять
На волосок между южной и юго-западной сторонами;
О каждой из них он спорил,
Опровергал, переходил из рук в руки и всё равно опровергал;
Он брался доказать силой
Аргумента, что человек — не лошадь;
Он влезал в долги из-за споров,
И расплачивался рассуждениями.
Ибо он был из той упрямой компании,
Странствующих святых, которых все люди признают
Истинной Воинствующей Церковью;
Те, кто строит свою веру на
Священном тексте пики и ружья;
Решает все споры
Непогрешимой артиллерией;
И доказывает свою доктрину ортодоксальной.
Апостольскими ударами и стуками;
Спасает грехи, к которым они склонны,
Осуждая тех, до кого им нет дела.
ГОББС И ЛОКК.
============
Томас Гоббс (1588–1679) – один из писателей, которые озадачивают историков сомнениями относительно того, стоит ли включать его в историю литературы. Единственная книга, которой он прославился, называется «Левиафан, или Материя, форма и сила государства» (1651). Это отчасти политическая, отчасти философская книга, сочетающая в себе две центральные идеи, которые бросают вызов и поражают внимание, а именно: личный интерес – единственная руководящая сила человечества, и слепое подчинение правителям – единственная истинная основа правления.[179] Одним словом, Гоббс свёл человеческую природу к её чисто животным аспектам, а затем уверенно утверждал, что больше изучать нечего. Поэтому, безусловно, как отражение глубинного духа Карла и его последователей, она не имеет себе равных ни в одном чисто литературном произведении того времени.
Джон Локк (1632–1704)
=====================
известен как автор одного великого философского труда – «Опыта о человеческом разумении» (1690). Это исследование природы человеческого разума и происхождения идей, которое, в гораздо большей степени, чем труды Бэкона и Гоббса, стало основой, на которой впоследствии строилась английская философия. Помимо своих тем, оба произведения являются образцами новой прозы – прямой, простой, убедительной, – которую создали Драйден и Королевское общество. Они известны каждому, кто изучает философию, но редко включаются в литературные произведения.
ЭВЕЛИН И ПИПИС.
===============
Эти двое мужчин, Джон Эвелин (1620–1706) и Сэмюэл Пипс (1633–1703), известны как авторы дневников, в которых они записывал события своей повседневной жизни, не думая о том, что мир когда-либо увидит или заинтересуется их записями.
Эвелин был автором «Сильвы», первой книги о деревьях и лесоводстве на английском языке, и «Терры», которая является первой попыткой научного исследования сельского хозяйства; но мир забыл об этих двух замечательных книгах, в то время как мир бережно хранит его дневник, охватывающий большую часть его жизни и дающий нам яркие картины общества его времени, и особенно ужасающей коррупции королевского двора.
Пипс начал жизнь с малого – клерком в правительственной канцелярии, но вскоре благодаря своему усердию и трудолюбию достиг должности секретаря Адмиралтейства. Здесь он познакомился со всеми слоями общества, от королевских министров до бедных матросов. Будучи любознательным, как голубая сойка, он расследовал слухи и сплетни при дворе, а также мелкие дела своих соседей и с явным интересом записывал всё это в свой дневник. Но поскольку он был очень болтлив и поведал своей маленькой книжке множество тайн, которые не следовало бы знать миру, он скрывал всё в стенографии – и здесь он снова был подобен голубой сойке, которая уносит и прячет каждую блестящую безделушку, какую только найдёт. «Дневник» охватывает период с 1660 по 1669 год и содержит сплетни обо всем: от его собственного положения и обязанностей в офисе, его одежды, кухни, повара и детей до крупных политических интриг и скандалов высшего общества. Ни один другой дневник, описывающий повседневную жизнь эпохи, не был написан столь подробно. Тем не менее, в течение полутора веков он оставался совершенно неизвестным, и только в 1825 году стенографию Пипса расшифровали и опубликовали. С тех пор он широко читался и до сих пор остаётся одним из самых интересных образцов дневниковой записи, имеющихся в нашем распоряжении. Ниже приведены несколько отрывков[181], охватывающих всего несколько дней апреля 1663 года, из которых можно сделать вывод о том, насколько подробным и интересным был труд, написанный этим клерком, политиком, президентом Королевского общества и вообще человеком, сующим нос в чужие дела, для собственного удовольствия:
1 апреля.
Я отправился в Темпл к моему кузену Роджеру Пипсу, чтобы повидаться и немного поговорить с ним: он рассказал мне, что парламент с большим шумом согласился свергнуть папство; но, по его словам, это было сделано с такой злобой и страстью, и с таким стремлением привести всех нонконформистов в то же положение, что он боится, как бы дела не пошли так хорошо, как ему хотелось бы... В мой кабинет весь день; Господи! как сэр Дж. Миннес, как безумный хлыщ, клялся и топал ногами, клянясь, что комиссар Петт все еще испытывает прежние чувства против короля, которые у него когда-то были, ... и все проклятые упреки в мире, которых мне было стыдно, но я мало что сказал;
Но в целом я всё ещё считаю его глупцом, которого водят за нос истории, рассказанные сэром У. Баттеном, будь то с доводами или без. Поэтому, раздосадованный тем, что всё устроено так несвойственно джентльменам или людям разумным, я пошёл домой и лёг спать.
3-й день.
В Уайт-Холл и в Чаппелл, где, ввиду чудовищной переполненности, я не смог занять свою скамью, а сел среди прихожан. Доктор Критон, шотландец, произнёс весьма достойную, хорошую, учёную, честную и суровую проповедь, хотя и комичную… Он время от времени яростно ругал Жана Кальвина и его отпрысков, пресвитериан, а также нынешний термин «нежная совесть». Он ругал Хью Питерса (называя его отвратительным скеллумом) за его проповеди и за то, что он подстрекал городские толпы приносить свои шило и наперстки. Выйдя оттуда из Уайт-Холла, я встретил капитана Гроува, который передал мне письмо, адресованное мне самим. Я разглядел в нём деньги и взял их, зная, как оказалось, доход от должности, которую я ему предоставил, – от найма судов для Танжера. Но я открыл его только дома, в своей конторе, и там разломил его, не заглядывая внутрь, пока не вытащил все деньги, чтобы иметь возможность сказать, что не видел денег в бумажке, если меня когда-нибудь спросят об этом. Там был золотой слиток и 4 фунта стерлингов серебром.
4-го.
В свой кабинет. Домой обедать, куда вскоре приезжает Роджер Пипс и другие. Очень весело было во время обеда, до него и после него, тем более что обед был великолепен и искусно приготовлен нашей собственной помощницей. У нас было фрикасе из кроликов и цыплят, отварная баранья нога, три карпа на блюде, большое блюдо из ланьбе, блюдо из жареных голубей, блюдо из четырёх омаров, три пирожных, пирог с миногой (редчайший пирог), блюдо с анчоусами, хорошее вино разных сортов и всё, что было очень благородно и к моему великому удовольствию.
5-го (день Господень).
Встал и провёл утро, пока не пришёл цирюльник, читая в моей комнате отрывок из «Советов Осборна сыну», которые я никогда не смогу достаточно восхитить своим смыслом и языком, и постепенно приводя себя в порядок перед церковью, собой, женой, Эшвеллом и т. д. Дома, а пока готовился обед, отправился в свой кабинет, чтобы с большой любовью и с большой пользой прочитать свои обеты.
Затем снова в церковь, где проповедовал простой, горланящий молодой шотландец.
19-го (Пасхальный день).
Встал и сегодня надел свой обтягивающий цветной костюм, который, вместе с новыми чулками того же цвета, поясом и новой шпагой с позолоченной рукоятью, выглядит очень красиво. В церковь пошёл один, а после обеда снова в церковь, где проповедовал молодой шотландец, и всё время проспал. После ужина разговорились о танцах, и я обнаружил, что у Эшвелла очень красивая осанка, и моей жене почти стыдно видеть себя настолько отстающей, но завтра она начнёт учиться танцевать, месяц или два. Итак, помолимся и спать. Уилл уехал, с моего разрешения, к отцу на день-два, чтобы позаниматься спортом в эти праздники.
23-го. День Святого Георгия и коронация.
Король и двор находились в Виндзоре на церемонии вступления на престол короля Дании через доверенных лиц и герцога Монмутского… Провёл вечер с отцом. Допоздна играл в карты, а когда ужинал, моего сына послали за горчицей для языка мальчишки, этот негодяй полчаса простоял на улице, кажется, у костра, на что я очень рассердился и решил завтра его побить.
24-го. Встал рано утром, спустился с соленым угрем в гостиную, схватил мальчика и избил его так, что мне пришлось два или три раза переводить дух, но, боюсь, мальчик от этого не станет лучше, он так закоснел в своих проделках, что мне жаль, ведь из него может получиться храбрый человек, и мы с женой его очень любим.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПЕРИОДА РЕСТАВРАЦИИ.
=====================================
Главное, что следует отметить в Англии во время Реставрации, – это мощная социальная реакция на ограничения пуританизма, которая напоминает резкий размах маятника от одной крайности к другой. На протяжении целого поколения многие естественные удовольствия были подавлены; теперь же театры вновь открылись, возродились травля быков и медведей, спорт, музыка, танцы – безудержное наслаждение мирскими удовольствиями и тщеславием сменило ту погруженность в «потустороннее», которая характеризовала крайности пуританизма.
В литературе перемены не менее заметны. От елизаветинской драмы драматурги перешли к грубым, жестоким сценам, которые вскоре вызвали отвращение у публики и были изгнаны со сцены.
От романтики писатели обратились к реализму; от итальянского влияния с его буйством фантазии они обратились к Франции и научились сдерживать эмоции, следовать разуму, а не сердцу, и писать ясным, лаконичным, формальным стилем, следуя установленным правилам. Поэты отошли от благородного белого стиха Шекспира и Мильтона, от разнообразия и мелодичности, характерных для английской поэзии со времён Чосера, к монотонному героическому двустишию с его механической безупречностью.
Величайшим писателем этой эпохи является Джон Драйден, который утвердил героическую двустишную форму как преобладающую форму стиха в английской поэзии и разработал новый и практичный стиль прозы, отвечающий практическим потребностям эпохи. Популярное высмеивание пуританства в бурлеске и виршах лучше всего иллюстрируется в «Гудибрах» Батлера. Реалистическая тенденция, изучение фактов и людей такими, какие они есть, проявляется в работах Королевского общества, в философии Гоббса и Локка, а также в дневниках Эвелина и Пипса с их подробными картинами общественной жизни. Эта эпоха была переходной от изобилия и энергии литературы Возрождения к формальности и изысканности эпохи Августа. В резком контрасте с предшествующими эпохами, сравнительно мало литературы Реставрации знакомо современному читателю.
ГЛАВА 9
ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (1700-1800)
=================================
1. ЭПОХА АВГУСТАНА, ИЛИ КЛАССИЧЕСКИЙ ВЕК
=========================================
Первая половина восемнадцатого века примечательна быстрым социальным развитием в Англии. До сих пор люди более или менее управлялись узкими, изолированными стандартами Средневековья, и когда они расходились во мнениях, они быстро попадали в драки. Теперь они впервые поставили перед собой задачу научиться искусству жить вместе, сохраняя при этом разные мнения. За одно поколение в одном только Лондоне появилось около двух тысяч общественных кофеен, каждая из которых была центром общения, и количество частных клубов столь же поразительно. ;;Эта новая общественная жизнь оказала заметное влияние на полировку речи и манер мужчин. Типичный лондонец времён королевы Анны всё ещё был груб и немного вульгарен в своих вкусах; город всё ещё был очень грязным, улицы не освещались и по ночам кишели бандами хулиганов и «могавков»;
Но внешне люди стремились к изысканности манер в соответствии с господствующими стандартами; и быть элегантным, соблюдать «хороший тон» было первейшей обязанностью мужчины, независимо от того, вступал ли он в свет или писал литературу. Трудно прочитать книгу или стихотворение той эпохи, не ощутив этой поверхностной элегантности. В правительстве всё ещё существовали противоборствующие партии тори и вигов, а церковь была разделена на католиков, англиканцев и диссентеров; но растущая общественная жизнь сглаживала многие противоречия, создавая, по крайней мере, внешнее впечатление мира и единства. Почти каждый писатель той эпохи занимался религией так же, как и партийной политикой: учёный Ньютон – так же искренне, как и церковник Барроу, философ Локк – не менее серьёзно, чем евангелист Уэсли; но почти все они смягчали свой пыл умеренностью и аргументировали, опираясь на разум и Писание, или же использовали тонкую сатиру в адрес своих оппонентов, вместо того чтобы обличать их как последователей сатаны. Конечно, были исключения, но общая тенденция эпохи была в сторону терпимости. Человек оказался в состоянии долгой борьбы за личную свободу; теперь он обратился к задаче познания своего ближнего, к нахождению в вигах и тори, в католиках и протестантах, в англиканах и диссентерах тех же общечеловеческих черт, что и в себе. Этому благому делу способствовало, кроме того, распространение образования и рост национального духа после побед при Мальборо на континенте. Среди жарких споров достаточно было одного слова – Гибралтар, Бленхейм, Рамильес, Мальплаке – или победной поэмы, написанной на чердаке[184], чтобы сказать патриотическому народу, что, несмотря на все свои многочисленные различия, все они – англичане.
Во второй половине века политический и социальный прогресс просто ошеломляет. Современная форма кабинетного правления, ответственная перед парламентом и народом, была установлена ;;при Георге I; а в 1757 году циничные и коррумпированные методы Уолпола, премьера первого кабинета тори, были заменены более просвещённой политикой Питта. Были основаны школы; увеличилось число клубов и кофеен; книги и журналы множились, пока пресса не стала величайшей видимой силой в Англии; современные крупные ежедневные издания, «Кроникл», «Пост» и «Таймс», начали свою деятельность в сфере народного образования. В религиозном плане все церкви Англии ощутили на себе живительную силу того грандиозного духовного возрождения, известного как методизм, проповеди Уэсли и Уайтфилда. За пределами ее собственных границ три великих человека — Клайв в Индии, Вулф на равнинах Авраама, Кук в Австралии и на островах Тихого океана — разворачивали знамя Святого Георгия над несметными богатствами новых земель и распространяли всемирную империю англосаксов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИТЕРАТУРЫ.
=========================
В каждую предшествующую эпоху мы особенно отмечали поэтические произведения, составляющие, по словам Мэтью Арнольда, славу английской литературы. Теперь же мы впервые должны отметить триумф английской прозы. Множество практических интересов, возникших в новых социальных и политических условиях, требовали выражения не только в книгах, но, прежде всего, в памфлетах, журналах и газетах. Поэзия была неспособна на такую ;;задачу; отсюда развитие прозы, «свободного слова», как называет её Данте, — развитие, поражающее нас своей быстротой и совершенством. Изящная элегантность эссе Аддисона, лаконичная энергия сатир Свифта, художественная законченность романов Филдинга, звучное красноречие исторических трудов Гиббона и речей Берка — всё это не имеет себе равных в поэзии той эпохи. В самом деле, сама поэзия стала прозаичной в том отношении, что она использовалась не для творческих произведений воображения, а для эссе, для сатиры, для критики – для тех же самых практических целей, что и проза. Поэзия первой половины века, как это было представлено в творчестве Поупа, отточена и достаточно остроумна, но искусственна; ей не хватает огня, тонкого чувства, энтузиазма, сияния елизаветинской эпохи и моральной серьёзности пуританства. Одним словом, она интересует нас как исследование жизни, а не восхищает или вдохновляет нас своим обращением к воображению. Разнообразие и совершенство прозаических произведений, а также развитие практичного прозаического стиля, начатое Драйденом, пока он не стал служить ясному выражению всех человеческих интересов и эмоций, – вот главные литературные достижения восемнадцатого века.
В литературе предшествующей эпохи мы отметили две выраженные тенденции: стремление к реализму в сюжете и стремление к изысканности и утонченности выражения. Обе эти тенденции сохранились в эпоху Августа и отчетливо видны в поэзии Поупа, доведшего двустишие до совершенства, и в прозе Аддисона. Третья тенденция проявляется в распространении сатиры, являющемся результатом неудачного союза политики с литературой. Мы уже отмечали могущество прессы в эту эпоху и непрекращающуюся борьбу политических партий. Почти каждый писатель первой половины века использовался и вознаграждался вигами или тори за высмеивание своих врагов и продвижение своих особых политических интересов. Поуп был заметным исключением, но, тем не менее, он, следуя примеру прозаиков, слишком широко использовал сатиру в своей поэзии. Сатира же, то есть литературное произведение, выискивающее недостатки людей или учреждений с целью высмеять их, – в лучшем случае является деструктивным видом критики. Сатирик подобен рабочему, который расчищает руины и мусор от старого дома, прежде чем архитектор и строители приступят к возведению нового, прекрасного здания. Иногда эта работа может быть необходимой, но она редко вызывает у нас энтузиазм. Хотя сатиры Поупа, Свифта и Аддисона, несомненно, лучшие в нашем языке, мы едва ли ставим их в один ряд с нашей великой литературой, которая всегда конструктивна по духу; и у нас есть ощущение, что все эти люди были способны на большее, чем они когда-либо написали.
КЛАССИЧЕСКИЙ ВЕК.
=================
Изучаемый нами период известен нам под разными названиями. Его часто называют веком королевы Анны; но, в отличие от Елизаветы, эта «смиренно глупая» королева практически не оказала влияния на нашу литературу. Чаще можно услышать название «классический век», но, используя его, следует чётко помнить о трёх различных значениях слова «классический» в отношении литературы:
(1) термин «классический» относится, как правило, к писателям высочайшего уровня в любой стране. В нашей литературе он впервые был применён к произведениям великих греческих и римских писателей, таких как Гомер и Вергилий; и любая английская книга, написанная в соответствии с простым и благородным методом этих писателей, считалась написанной в классическом стиле.
Позднее этот термин был расширен и стал охватывать великие литературные произведения других древних народов; так, например, Библия и Авеста, а также «Илиада» и «Энеида» называются классическими.
(2) В каждой национальной литературе есть по крайней мере один период, когда появляется необычайно большое количество великих писателей, и этот период называется классическим периодом национальной литературы. Так, правление Августа – классический, или золотой, век Рима; поколение Данте – классический век итальянской литературы; век Людовика XIV – французский классический век; а век королевы Анны часто называют классическим веком Англии.
(3) Слово «классический» приобрело совершенно иное значение в изучаемый нами период; и мы лучше поймём это, обратившись к предшествующим эпохам. Елизаветинские писатели были движимы патриотизмом, энтузиазмом и, в целом, романтическими чувствами. Они писали естественно, не считаясь с правилами; и хотя они преувеличивали и использовали слишком много слов, их произведения восхищают своей энергией, свежестью и тонким чувством. В последующую эпоху патриотизм в значительной степени исчез из политики, а энтузиазм – из литературы. Поэты писали уже не естественно, а искусственно, используя странные и фантастические стихотворные формы для создания эффекта, поскольку тонкого чувства не хватало. И это общий характер поэзии пуританского века. Постепенно наши писатели восстали против преувеличений как естественного, так и фантастического стиля. Они требовали, чтобы поэзия следовала точным правилам; и в этом на них повлияли французские писатели, особенно Буало и Рапен, которые настаивали на точных методах написания стихов и утверждали, что открыли свои правила в классических произведениях Горация и Аристотеля. Изучая елизаветинскую драму, мы отметили благотворное влияние классического течения, настаивавшего на той красоте формы и определённости выражения, которые характеризуют драмы Греции и Рима; а в творчестве Драйдена и его последователей мы видим возрождение классицизма в стремлении привести английскую литературу в соответствие с правилами, установленными великими писателями других стран. Поначалу результаты были превосходными, особенно в прозе;
Но поскольку творческой энергии елизаветинцев в ту эпоху не хватало, письмо по правилам вскоре развилось в своего рода элегантный формализм, отражающий сложный социальный кодекс того времени. Подобно тому, как джентльмен мог вести себя неестественно, а должен был следовать точным правилам, снимая шляпу, обращаясь к даме, входя в комнату, надевая парик или предлагая другу табакерку, наши писатели утратили индивидуальность и стали формальными и искусственными. Общей тенденцией литературы было критическое отношение к жизни, акцентирование интеллекта, а не воображения, формы, а не содержания предложения. Писатели стремились подавлять любые эмоции и энтузиазм, используя только точные и изящные средства выражения. Именно это часто подразумевают под «классицизмом» эпохи Поупа и Джонсона. Он относится к критическому, интеллектуальному духу многих писателей, к изысканности их героических двустиший или к изяществу прозы, а не к какому-либо сходству их произведений с подлинно классической литературой. Одним словом, классическое течение превратилось в псевдоклассику, то есть в ложный или мнимый классицизм; и этот последний термин теперь часто используется для обозначения значительной части литературы XVIII века. Чтобы избежать этой критической трудности, мы приняли термин «эпоха Августа», выбранный самими писателями, которые видели в Поупе, Аддисоне, Свифте, Джонсоне и Бёрке современные параллели Горацию, Вергилию, Цицерону и всей той блестящей компании, которая прославила римскую литературу во времена Августа.
АЛЕКСАНДР ПОУП (1688-1744)
==========================
Поуп – фигура во многих отношениях уникальная.
Во-первых, на протяжении целого поколения он был «поэтом» великой нации. Конечно, поэзия в начале XVIII века была ограничена; было мало лирической поэзии, мало или совсем не было любовной поэзии, не было эпоса, не было драм или песен о природе, достойных внимания; но в узкой области сатирической и дидактической поэзии Поуп был бесспорным мастером. Его влияние полностью доминировало в поэзии его эпохи, и многие иностранные писатели, как и большинство английских поэтов, смотрели на него как на образец.
Во-вторых, он был удивительно ясным и адекватным отражением духа эпохи, в которой жил. Едва ли найдется идеал, вера, сомнение, мода, прихоть времен королевы Анны, которые не нашли бы четкого выражения в его поэзии.
В-третьих, он был единственным значительным писателем той эпохи, посвятившим всю свою жизнь литературе. Свифт был священником и политиком; Аддисон был государственным секретарем; Другие писатели зависели от покровителей, политики или пенсий ради славы и средств к существованию; но Поуп был независим и не имел другой профессии, кроме литературы.
И в-четвертых, исключительно силой своего честолюбия он завоевал свое место и удержал его, несмотря на религиозные предрассудки и перед лицом физических и темпераментных препятствий, которые обескуражили бы более сильного человека. Ведь Поуп был уродливым и болезненным, карликом душой и телом. Он мало знал мир природы или мир человеческого сердца. Ему, по-видимому, не хватало благородных чувств, и он инстинктивно выбирал ложь, когда правда явно имела больше преимуществ. И все же этот ревнивый, сварливый, язвительный коротышка стал самым известным поэтом своего времени и признанным лидером английской литературы. Мы отмечаем этот факт с удивлением и восхищением, но не пытаемся его объяснить.
ЖИЗНЬ.
=====
Поуп родился в Лондоне в 1688 году, в год Революции. Его родители были католиками, которые вскоре покинули Лондон и поселились в Бинфилде, недалеко от Виндзора, где и прошло детство поэта. Отчасти из-за досадного предубеждения против католиков в государственных школах, отчасти из-за собственной слабости и уродства, Поуп получил очень слабое школьное образование, но самостоятельно изучал английские книги и немного знакомился с классикой.
Очень рано он начал писать стихи и описывает это со свойственным ему тщеславием:
Пока еще ребенок, пока еще не дурак,
Я шепелявил на языке чисел, ибо числа пришли.
Будучи отстранённым от многих желаемых занятий из-за своей религии, он решил посвятить свою жизнь литературе; и в этом он напоминал Драйдена, который, по его словам, был его единственным учителем, хотя во многом его творчество, по-видимому, основано на Буало, французском поэте и критике.[187] В шестнадцать лет он написал свои «Пасторали»; несколько лет спустя появилось его «Опыт о критике», сделавшее его знаменитым. С публикацией «Похищения локона» в 1712 году имя Поупа стало известно и почитаемо по всей Англии, и этот двадцатичетырёхлетний карлик, благодаря одной лишь силе собственного честолюбия, вырвался на первое место в английской литературе. Вскоре после этого Вольтер назвал его «лучшим поэтом Англии, а в настоящее время и всего мира», — что примерно так же близко к истине, как и Вольтер в своих многочисленных универсальных суждениях. Следующие двенадцать лет Поуп был занят поэзией, особенно переводами Гомера; и его работа была настолько успешной в финансовом отношении, что он купил виллу в Твикенхеме на Темзе и счастливо жил, не завися от богатых покровителей.
Воодушевленный успехом, Поуп вернулся в Лондон и некоторое время пытался вести весёлую и развратную жизнь, которая, как считалось, подобала литературному гению; но он был совершенно к этому не приспособлен, как умственно, так и физически, и вскоре удалился в Туикенем. Там он предался поэзии, создал небольшой садик, более искусственный, чем его стихи, и поддерживал дружбу с Мартой Блаунт, с которой он много лет проводил большую часть каждого дня и которая оставалась ему верна до конца его жизни. В Туикенеме он написал свои «Нравственные послания» (поэтические сатиры, написанные по образцу Горация) и отомстил всем своим критикам, горько понося «Дунсиаду». Он умер в 1744 году и был похоронен в Туикенеме, поскольку его вероисповедание помешало ему, безусловно, удостоиться чести быть упокоенным в Вестминстерском аббатстве.
ТРУДЫ ПОУПА.
===========
Для удобства мы можем разделить труды Поупа на три группы, соответствующие раннему, среднему и позднему периодам его жизни.
В первой он написал «Пасторали», «Виндзорский лес», «Мессию», «Опыт о критике», «Отношение Элоизы к Абеляру» и «Похищение локона»;
во второй — свои переводы Гомера;
в третьей — «Дунсиаду» и «Послания», причем в последнюю вошли знаменитое «Опыт о человеке» и «Послание к доктору Арбетноту», которое по сути является его «Апологией» и только в ней мы видим жизнь Поупа с его собственной точки зрения.
«Опыт о критике» подводит итог искусству поэзии, как его преподавали сначала Гораций, затем Буало и классики XVIII века. Хотя он написан героическими двустишиями, мы воспринимаем его не как поэму, а скорее как кладезь критических максим. «Ибо глупцы спешат туда, куда боятся ступить ангелы»; «Ошибаться свойственно человеку, прощать – божеству»; «Малое учение – опасная вещь» – эти строки, и многие другие подобные им из того же источника, прочно вошли в нашу повседневную речь и используются, не задумываясь об авторе, всякий раз, когда нам нужна уместная цитата.
«Похищение локона» – шедевр в своём роде, и ближе всего к «творчеству», чем всё остальное, написанное Поупом. Повод для знаменитой поэмы был достаточно тривиальным. Один щеголь при дворе королевы Анны, некий лорд Петре, отрезал прядь волос от пышных локонов хорошенькой фрейлины по имени Арабелла Фермор. Молодая леди возмутилась, и две семьи ввязались в ссору, о которой говорил весь Лондон. Поуп, услышав призыв, воспользовался случаем, чтобы сочинить не балладу, как сделали бы кавалеры, и не эпиграмму, как любят писать французские поэты, а длинную поэму, в которой все манеры светского общества изображены в мельчайших подробностях и высмеяны с самым тонким юмором. Первое издание, состоящее из двух песен, было опубликовано в 1712 году; и сейчас удивительно читать о тривиальном характере лондонской придворной жизни в то время, когда английские солдаты сражались за большой континент во французской и индейской войнах. Мгновенный успех побудил Поупа удлинить поэму ещё на три песни; и чтобы сделать из эпической поэмы более совершенный бурлеск, он вводит гномов, духов, сильфов и саламандр вместо богов великих эпосов, с которыми были знакомы его читатели.
Стихотворение написано по образцу двух иностранных сатир: «Le Lutrin» («Читальный стол») Буало, сатиры на французское духовенство, поднявшее крупный спор из-за места расположения кафедры; и «La Secchia Rapita» («Украденное ведро»), знаменитой итальянской сатиры на мелкие причины бесконечных итальянских войн. Поуп, однако, значительно опередил своих учителей по стилю и тонкости обращения с пародийно-героической темой, и при его жизни «Похищение локона» считалось величайшей поэмой такого рода во всей литературе. Стихотворение и сейчас стоит прочитать, ибо как выражение искусственной жизни века — с его картами, вечеринками, туалетами, комнатными собачками, чаепитиями, нюханием табака и праздной суетой — оно так же совершенно, как «Тамерлан», отражающий безграничное честолюбие елизаветинцев.
Слава «Илиады» Поупа, ставшей самой успешной в финансовом отношении из всех его книг, была обусловлена ;;тем, что он интерпретировал Гомера на изящном, искусственном языке своего времени. Не только его слова следуют литературной моде, но даже гомеровские персонажи теряют свою силу и становятся модными придворными. Поэтому критика учёного Бентли была как нельзя более уместна, когда он сказал: «Это прекрасная поэма, мистер Поуп, но вы не должны называть её Гомером». Поуп перевёл всю «Илиаду» и половину «Одиссеи»; а последняя работа была завершена двумя кембриджскими учёными, Элайджей Фентоном и Уильямом Брумом, которые настолько в совершенстве скопировали механические двустишия, что их трудно отличить от работы величайшего поэта того времени. Приведён лишь один отрывок, показывающий, как в более благородных отрывках даже Поуп может смутно намекать на изначальное величие Гомера:
Ликующие войска сидели в строю вокруг,
И сияющие огни освещали всю землю.
Как когда луна, сияющий светильник ночи,
Над ясной лазурью небес разливает свой священный свет,
Когда ни одно дыхание не нарушает глубокой безмятежности,
И ни одно облако не омрачает торжественное зрелище;
Вокруг её трона кружатся яркие планеты,
И бесчисленные звёзды золотят сияющий полюс,
Над темными деревьями раскинулась желтая зелень,
И вершины каждой горы осеняются серебром.
«Опыт» – самое известное и цитируемое из всех произведений Поупа. За исключением формы, это не поэзия, и если рассматривать его как эссе и свести к простой прозе, то окажется, что оно состоит из множества литературных украшений без какой-либо прочной мыслительной структуры, на которую можно было бы опереться. Цель эссе, по словам Поупа, – «оправдать пути Бога к человеку»; и поскольку в философии Поупа нет нерешённых проблем, это оправдание в полной мере достигается в четырёх поэтических посланиях, посвящённых отношениям человека со вселенной, с самим собой, с обществом и со счастьем. Окончательный результат суммируется в нескольких известных строках:
Вся природа — лишь искусство, тебе неизвестное;
Всё – случайность, направление, которого ты не видишь;
Всякий диссонанс, непонятая гармония;
Всё – частичное зло, всеобщее благо:
И, вопреки гордыне, вопреки заблуждающемуся разуму,
Одна истина ясна: что бы ни было, всё правильно.
Как и «Эссе о критике», поэма изобилует цитатными строками, такими как следующая, которые делают все произведение достойным прочтения:
Надежда вечно теплится в человеческой груди:
Человек никогда не существует, но всегда будет благословен.
Познай же себя, не полагайся на Бога, который исследует;
Истинное учение человечества – человек.
Одно и то же честолюбие может погубить или спасти,
И делает патриотом, как и негодяем.
Честь и позор не возникают ни из какого положения;
Сыграй свою роль хорошо, в этом вся честь.
Порок – чудовище столь ужасного вида,
Но его слишком часто видят, он знаком с её лицом,
Мы сначала терпим, потом жалеем, затем принимаем.
Взгляните на дитя, по благому закону природы,
Радующегося погремушке, щекочущего соломинкой:
Какая-то более живая игрушка дарит его юности радость,
Чуть громче, но столь же пустая.
Шарфы, подвязки, золото развлекают его в более зрелом возрасте,
А чётки и молитвенники – игрушки старости.
Радуется этой безделушке, как и прежней;
Пока не заснет, устав, и не кончится бедная игра жизни.
«Дунсиада» (то есть «Илиада глупцов») изначально возникла как спор о Шекспире, но превратилась в грубую и мстительную сатиру на всех литераторов той эпохи, которые вызывали гнев Поупа своей критикой или недооценкой его гения.
Хотя произведение было блестяще написано и пользовалось огромной популярностью в своё время, нынешнее воздействие на читателя заключается в том, что он испытывает жалость к человеку, обладающему столь признанной властью и положением, злоупотребляющему ими, посвящая свои таланты личной злобе и мелким ссорам. Среди прочих его многочисленных произведений читатель найдёт наиболее точное представление Поупа о себе в «Послании доктору Арбетноту», и будет уместно завершить наше исследование этого странного сочетания тщеславия и величия «Всеобщей молитвой», которая показывает, по крайней мере, что Поуп размышлял и оценил себя, и что все дальнейшие суждения, следовательно, излишни.
ДЖОНАТАН СВИФТ (1667-1745)
==========================
В каждой трагедии Марло мы видим образ человека, охваченного одной страстью – жаждой власти ради неё самой. В каждой из них мы видим, что могущественный человек, не владеющий собой, подобен опасному инструменту в руках ребёнка; и трагедия заканчивается гибелью человека от неуправляемой силы, которой он обладает. Жизнь Свифта – именно такая живая трагедия. Он обладал способностью к накоплению богатства, подобно герою «Мальтийского еврея», но пользовался ею презрительно и с печальной иронией оставил то, что у него осталось от большого состояния, на основание больницы для душевнобольных. Упорным трудом он добился огромной литературной власти и использовал её для высмеивания всего человечества. Он вырвал политическую власть из рук тори и использовал её для оскорбления тех самых людей, которые помогали ему и держали его судьбу в своих руках. Благодаря своей властной личности он обладал странной властью над женщинами и жестоко ею пользовался, чтобы заставить их почувствовать свою неполноценность. Будучи беззаветно любимым двумя добрыми женщинами, он принёс им обоим горе и смерть, а себе – бесконечные страдания. Поэтому его могущество всегда влекло за собой трагедию. Только вспоминая его жизнь, полную борьбы, разочарований и горечи, мы можем оценить личностный характер его сатиры и, возможно, проникнуться сочувствием к этому величайшему гению из всех писателей эпохи Августа.
ЖИЗНЬ.
=====
Свифт родился в Дублине в 1667 году в семье англичан. Его отец умер до его рождения; мать была бедна, и Свифт, хотя и гордый, как Люцифер, был вынужден принимать помощь от родственников, которые оказывали её неохотно.
В школе Килкенни, и особенно в Дублинском университете, он ненавидел учебную программу, читая только то, что соответствовало его натуре; но, поскольку диплом был необходим для его успеха, он был вынужден принять его как милость от экзаменаторов, которых он презирал в глубине души. После окончания университета ему оставалась только должность у дальнего родственника, сэра Уильяма Темпла, который дал ему должность личного секретаря, главным образом из-за нежелательного родства.
Темпл был государственным деятелем и превосходным дипломатом, но он также считал себя великим писателем и вступил в литературную полемику о сравнительных достоинствах классической и современной литературы. Первое заметное произведение Свифта, «Битва книг», написанное в это время, но не опубликованное, представляет собой острую сатиру на обе стороны спора. Здесь проявляется первый прилив горечи: Свифт находился в щекотливом положении для человека его гордости, зная о своём интеллектуальном превосходстве над нанимателем, и при этом на него смотрели как на слугу, и он ел за одним столом с слугами. Так он провёл десять лучших лет своей жизни в прекрасном Мур-Парке в графстве Суррей, с каждым годом всё больше ожесточаясь и непрестанно проклиная свою судьбу. Тем не менее, он много читал и учился, и, когда его отношения с Темплом стали невыносимыми, он поссорился со своим покровителем, принял сан и вступил в англиканскую церковь. Спустя несколько лет мы видим его обосновавшимся в маленькой церкви в Ларакоре, в Ирландии, – стране, которую он горячо не любил, но куда он переехал, потому что ему не было доступно никакое другое «проживание».
В Ирландии, верный своим церковным обязанностям, Свифт трудился, чтобы улучшить положение несчастных людей вокруг него. Никогда прежде о бедняках его приходов не заботились так хорошо; но Свифт раздражался под своим гнетом, всё больше раздражаясь, видя, как простые люди продвигаются на высокие должности, в то время как он сам остаётся незамеченным в маленькой сельской церкви, – главным образом потому, что был слишком горд и слишком резок с теми, кто мог бы его продвинуть. В Ларакоре он закончил свою «Сказку о бочке» – сатиру на различные церкви того времени, которая была опубликована в Лондоне в 1704 году вместе с «Битвой книг». Это произведение прославило его как самого влиятельного сатирика своего времени, и вскоре он оставил свою церковь, чтобы влиться в борьбу партийной политики. Дешевый памфлет был тогда самым мощным известным политическим оружием; и поскольку Свифту не было равных в написании памфлетов, он вскоре стал настоящим диктатором. В течение нескольких лет, особенно с 1710 по 1713 год, Свифт был одной из самых важных фигур в Лондоне. Виги боялись плети его сатиры; тори боялись потерять его поддержку. Его обхаживали, льстили, уговаривали со всех сторон; но то, как он использовал свою новую власть, печально даже думать. Им овладело невыносимое высокомерие. Лорды, государственные деятели, даже дамы были вынуждены просить его благосклонности и извиняться за каждое воображаемое оскорбление его эгоизма. Именно в это время он пишет в своем дневнике Стелле:
Господин секретарь сказал мне, что герцог Бекингем много говорил обо мне и желает моего знакомства. Я ответил, что это невозможно, поскольку он еще не сделал достаточных авансов; Затем Шрусбери сказал, что, по его мнению, герцог не привык к ухаживаниям. Я ответил, что ничего не могу с этим поделать, поскольку всегда ожидал ухаживаний, пропорциональных положению мужчины, и больше от герцога, чем от любого другого мужчины.
В письме герцогине Куинсберри он пишет: «Я рад, что вы знаете свой долг; ведь в Англии уже более двадцати лет существует известное и устоявшееся правило: все дамы, стремящиеся к знакомству со мной, неизменно первыми обращаются ко мне, и чем выше их положение, тем значительнее были их ухаживания».
Когда тори ушли из власти, положение Свифта стало неопределённым. Он ожидал, и, вероятно, ему обещали епископство в Англии с местом среди пэров королевства; но тори предложили ему вместо этого место декана собора Святого Патрика в Дублине. Это было унизительно для человека с его гордым характером; но после его беспощадной сатиры на религию в «Сказке о бочке» любая церковная должность в Англии стала невозможной. Дублин был для него лучшим, что он мог получить, и он с горечью принял это, снова проклиная судьбу, которую сам на себя навлек.
С возвращением в Ирландию начинается последний акт трагедии его жизни. Его самое известное литературное произведение, «Путешествия Гулливера», было написано здесь; но горечь жизни постепенно перерастала в безумие, и ужасная личная скорбь, о которой он никогда не говорил, достигла своего апогея в смерти Эстер Джонсон, прекрасной молодой женщины, которая любила Свифта с тех пор, как они познакомились в доме Темпла, и которой он написал свой «Дневник для Стеллы».
В последние годы жизни Свифт страдал от болезни мозга, симптомы которой у него проявлялись часто, и он становился то идиотом, то безумцем. Он умер в 1745 году, и когда его завещание было раскрыто, выяснилось, что он оставил всё своё имущество на основание приюта Святого Патрика для душевнобольных и неизлечимо больных. Этот приют и по сей день остаётся самым выразительным памятником его своеобразному гению.
Творчество Свифта.
=================
По биографии Свифта легко предсказать, какую литературу он создаст. В целом, его произведения представляют собой чудовищную сатиру на человечество; и дух этой сатиры ясно виден в небольшом инциденте, произошедшем в первые дни его пребывания в Лондоне. В то время в городе жил некий астролог по имени Партридж, который обманывал публику, рассчитывая гороскопы по звездам и продавая ежегодный альманах, предсказывающий будущие события. Свифт, ненавидевший всякое мошенничество, написал, с большой показной ученостью, свой знаменитый альманах «Бикерстафф», содержащий «Предсказания на 1708 год, определенные по безошибочным звездам». Поскольку Свифт редко подписывал свои произведения, полагаясь на их успех или провал, его пародия появилась под псевдонимом Айзек Бикерстафф, имя которого впоследствии прославило издание «Тэтлер» благодаря Стилу. Среди предсказаний было следующее:
Моё первое предсказание — пустяк; тем не менее, я упомяну о нём, чтобы показать, насколько невежественны в своих делах эти глупые претенденты на звание астролога: оно касается Партриджа, составителя календаря; я сверился со звездой его рождения по своим собственным правилам и обнаружил, что он неизбежно умрёт 29 марта следующего года, около одиннадцати часов вечера, от сильной лихорадки; поэтому я советую ему обдумать это и вовремя уладить свои дела.
30 марта, на следующий день после того, как предсказание должно было сбыться, в газетах появилось письмо налогового инспектора с подробностями смерти Партриджа и описанием действий судебного пристава и гробовщика; а на следующее утро вышла подробнейшая «Элегия мистера Партриджа». Когда бедный Партридж, внезапно оставшись без клиентов, опубликовал опровержение погребения, Свифт ответил подробнейшей «Оправданием Айзека Бикерстаффа».
в котором он доказал с помощью астрологических правил, что Партридж мертв, а человек, занявший его место, является самозванцем, пытающимся обманом лишить наследников их наследства.
Эта едкая шутка напоминает все сатиры Свифта. Против любого лицемерия или несправедливости он предлагает средство точно такого же рода, только более отвратительное, и защищает свой план с такой серьёзностью, что сатира ошеломляет читателя ощущением чудовищной лжи.
Так, его серьёзное «Рассуждение в доказательство того, что отмена христианства может быть сопряжена с некоторыми неудобствами» – это настолько ужасающая сатира на злоупотребления христианством со стороны его мнимых последователей, что мы не можем сказать, намеревался ли Свифт указать на необходимые реформы, успокоить свою совесть или же пошутить над Церковью, как он это сделал с бедным Партриджем.
То же самое относится и к его «Скромному предложению» о детях Ирландии, где утверждается, что бедные ирландские фермеры должны выращивать детей как лакомство, которое, подобно жареным свиньям, будет подавать на столы преуспевающих англичан. В этом характернейшем произведении невозможно найти ни Свифта, ни его мотивы. Несправедливость, от которой страдала Ирландия, её упрямство в доведении больших семей до неминуемой нищеты и безразличие английских политиков к её страданиям и протестам – всё это безжалостно изображено; но почему? Это до сих пор остаётся без ответа загадкой жизни и творчества Свифта.
Две величайшие сатиры Свифта — «Сказка о бочке» и «Путешествия Гулливера».
«Сказка» начиналась как мрачное разоблачение мнимых слабостей трёх основных религиозных верований: католической, лютеранской и кальвинистской, в отличие от англиканской, но завершилась сатирой на всю науку и философию.
Свифт объясняет своё причудливое название обычаем моряков бросать киту лохань, чтобы отвлечь его внимание и отвлечь от нападения на корабль, — что лишь доказывает, как мало Свифт знал о китах и моряках. Но оставим это.
Его книга — это лохань, брошенная врагам церкви и государства, чтобы отвлечь их от дальнейших нападок или критики; и суть аргумента в том, что все церкви, как и вся религия, наука и государственная политика, — отъявленное лицемерие.
Самая известная часть книги – аллегория о старике, который умер и оставил каждому из своих трёх сыновей, Питеру, Мартину и Джеку, по пальто (которое есть христианская Истина), с подробными инструкциями по уходу за ним и его использованию. Эти три имени символизируют католиков, лютеран и кальвинистов; и то, как сыновья уклоняются от воли отца и меняют фасон своей одежды, – часть горькой сатиры на все религиозные секты. Хотя она и заявляет о своей защите англиканской церкви, этой организации, пожалуй, приходится хуже других, ибо ей не осталось ничего, кроме тонкой мантии обычая, под которой она может скрыть своё мнимое лицемерие.
В «Путешествиях Гулливера» сатира становится ещё более невыносимой. Как ни странно, эта книга, на которой, в основном, и зиждется литературная слава Свифта, была написана не из каких-либо литературных побуждений, а скорее как способ излить собственную злобу на судьбу и человеческое общество. Её до сих пор читают с удовольствием, как «Робинзона Крузо», ради увлекательных приключений героя; и, к счастью, читатели обычно не замечают её унизительного влияния и мотивов.
«Путешествия Гулливера» повествуют о четырёх вымышленных путешествиях некоего Лемюэля Гулливера и его приключениях в четырёх удивительных странах. Первая книга рассказывает о его путешествии и кораблекрушении в Лилипутии, где жители ростом с большой палец, а все их поступки и мотивы — карликовые. В мелких ссорах этих карликов мы должны видеть ничтожность человечества. Государственные деятели, добивающиеся положения и благосклонности, выделывая обезьяньи прыжки на туго натянутом канате перед своим государем, и две великие партии, литтлендцы и бигенденцы, ввергающие страну в гражданскую войну из-за важнейшего вопроса о том, следует ли разбивать яйцо тупым или острым концом, – это сатиры на политику эпохи и поколения Свифта. Стиль простой и убедительный; неожиданные ситуации и приключения так же увлекательны, как и шедевр Дефо; и в целом это самая интересная из сатир Свифта.
Во втором путешествии Гулливера оставляют в Бробдингнеге, где обитают гиганты, и всё происходит в огромных масштабах.
Низость человечества кажется ещё более отвратительной на фоне величия этих высших существ. Когда Гулливер рассказывает о своём народе, его амбициях, войнах и завоеваниях, гиганты могут лишь удивляться, что такой яд может быть в таких маленьких насекомых.
В третьем путешествии Гулливер продолжает свои приключения на Лапуте, и это сатира на всех учёных и философов. Лапута — летающий остров, поддерживаемый в воздухе магнитом; и все профессора знаменитой академии в Лагадо имеют такое же воздушное телосложение. Философ, который восемь лет трудился, чтобы извлечь солнечный свет из огурцов, — типичный представитель сатирического отношения Свифта ко всем научным проблемам. Именно в этом путешествии мы узнаём о струльдбругах, ужасной расе людей, обречённых жить на земле, потеряв надежду и желание жить. Картина становится ещё более ужасной в свете последних лет жизни самого Свифта, в которые он был вынужден жить, будучи обузой для себя и своих друзей.
Очевидная цель этих трёх путешествий — сорвать завесу привычек и обычаев, которыми люди обманывают себя, и показать грубые пороки человечества такими, какими их видит Свифт. В четвёртом путешествии беспощадная сатира доходит до своего логического завершения. Это приводит нас в страну гуигнгнмов, где лошади, высшие и разумные существа, являются правящими животными. Однако всё наше внимание сосредоточено на еху – устрашающей расе, имеющей облик и форму людей, но живущей в невыразимой деградации.
«Дневник Стеллы», написанный главным образом в 1710–1713 годах для Эстер Джонсон, интересен нам по двум причинам.
Во-первых, это превосходный комментарий к современным персонажам и политическим событиям, написанный одним из самых мощных и оригинальных умов той эпохи;
во-вторых, своими любовными пассажами и чисто личными описаниями он даёт нам наилучший, доступный нам портрет самого Свифта на пике его могущества и влияния. Читая сейчас эти нежные слова к женщине, которая его любила и принесла в его жизнь едва ли не единственный луч света, мы можем лишь удивляться и молчать. Совершенно иными являются его «Письма суконщика» – образец политической тирады и народного спора, который возбудил бездумную английскую публику и принес большую пользу Ирландии, предотвратив план политиков по девальвации ирландской монеты.
Стихи Свифта, хотя и энергичные и оригинальные (как и стихи Дефо того же периода), в целом сатиричны, часто грубы и редко выходят за рамки виршей. В отличие от своего друга Аддисона, Свифт видел в растущем лоске и благопристойности общества лишь маску лицемерия; и он часто использовал свои стихи, чтобы шокировать новорождённую скромность, указывая на природную уродливость, которую его больной ум обнаруживал под любой прекрасной оболочкой.
То, что Свифт — самый оригинальный писатель своего времени и один из величайших мастеров английской прозы, неоспоримо. Прямота, энергия, простота отмечают каждую страницу. Среди писателей той эпохи он стоит почти особняком в своём презрении к литературным эффектам. Непоколебимо держа перед собой цель, он ведёт прямо к концу с убедительностью, непревзойдённой в нашем языке. Даже в самых гротескных его творениях читатель никогда не теряет чувства реальности, ощущения себя очевидцем самых невероятных событий — настолько сильна и убедительна проза Свифта. Дефо обладал такой же силой; но, например, при написании «Робинзона Крузо» его задача была сравнительно лёгкой, поскольку и его герой, и его приключения были естественны; в то время как Свифт делает реальными пигмеев, великанов и самые невозможные ситуации с такой же лёгкостью, как если бы он писал о фактах. Несмотря на эти превосходные качества, обычному читателю лучше ограничиться «Путешествиями Гулливера» и сборником тщательно подобранных произведений. Ибо, надо признать, большая часть произведений Свифта – неполезное чтение.
Они слишком сатиричны и разрушительны; они подчёркивают недостатки и пороки человечества и, таким образом, противоречат общему направлению нашей литературы, которая от Киневульфа до Теннисона следует Идеалу, как Мерлин следовал Проблеску, и не успокаивается, пока не проявятся сокровенная красота человеческой души и божественная цель его борьбы.
ДЖОЗЕФ АДДИСОН (1672-1719)
===========================
В приятном искусстве жить в обществе себе подобных Аддисон, несомненно, мастер. Именно благодаря совершенному выражению этого искусства, той новой социальной жизни, которая, как мы уже отмечали, была характерна для эпохи Анны, Аддисон занимает столь важное место в истории литературы. Менее сильный и оригинальный, чем Свифт, он, тем не менее, обладает, и заслуживает того, чтобы обладать, более продолжительным влиянием. Свифт – это буря, ревущая против льда и мороза поздней весны английской жизни. Аддисон – это солнце, которое растапливает лед, сушит грязь и наполняет землю светом и надеждой. Подобно Свифту, он презирал обман, но, в отличие от него, никогда не терял веры в человечество; и во всех его сатирах присутствует мягкая доброта, которая заставляет лучше думать о ближних, даже когда он смеется над их мелким тщеславием.
Два бесценных дела, которые сделал Аддисон для нашей литературы.
Во-первых, он преодолел определённую порочную тенденцию, унаследованную от литературы Реставрации. Очевидной целью низменной драмы и даже большей части поэзии той эпохи было сделать добродетель смехотворной, а порок – привлекательным. Аддисон решительно выступил против этой недостойной тенденции. Сорвать маску с порока, показать его уродство и уродство, но раскрыть добродетель в её природной красоте – вот в чём заключалась цель Аддисона; и он преуспел в этом настолько, что никогда, с его времён, наша английская литература всерьёз не следовала ложным богам. Как говорит Маколей: «Он столь убедительно ответил пороку на насмешки, которые ещё недавно были направлены против добродетели, что с его времён открытое нарушение приличий всегда считалось у нас верным признаком глупости».
Во-вторых, под влиянием и с помощью более оригинального гения своего друга Стила, Аддисон ухватился за новую светскую жизнь клубов и сделал её темой бесконечных увлекательных эссе о типах мужчин и манерах. «Тэтлер» и «Спектейтор» положили начало современной эссеистике; а их исследования человеческих характеров, примером которых является «Сэр Роджер де Коверли», служат подготовкой к современному роману.
ЖИЗНЬ.
=====
Жизнь Аддисона, как и его произведения, разительно отличается от жизни Свифта.
Он родился в Милстоне, графство Уилтшир, в 1672 году. Его отец был учёным английским священником, и всю жизнь Аддисон естественным образом следовал тихому и культурному образу жизни, к которому он привык с детства. В знаменитой школе Чартерхаус в Лондоне и в университете Оксфорда он преуспел в характере и учёности и стал известен как автор изящных стихов. Одно время он намеревался поступить в церковь, но друзья легко убедили его поступить на государственную службу. В отличие от Свифта, который оскорблял своих политических начальников, Аддисон выбрал более тактичный способ завоевать дружбу влиятельных людей. Его стихи, адресованные Драйдену, сразу же завоевали расположение этого литературного лидера, а одно из его латинских стихотворений, «Рисвикский мир» (1697), с его благосклонной оценкой государственных деятелей короля Вильгельма, обеспечило ему благоприятное политическое признание. Это также принесло ему пенсию в размере трехсот фунтов в год и предложение отправиться за границу и совершенствовать искусство дипломатии, что он тут же и сделал, извлекая из этого большую выгоду.
С литературной точки зрения, наиболее интересным произведением раннего периода жизни Аддисона является его «Описание величайших английских поэтов» (1693), написанное им в бытность его членом Оксфордского университета. Драйдена щедро хвалят, Спенсера прощают или одобряют, а Шекспир даже не упоминается. Однако Аддисон писал по «классическим» правилам Буало; и поэт, как и его время, был, пожалуй, слишком искусственным, чтобы оценить природный гений.
Во время путешествия за границу смерть Вильгельма и потеря власти вигами внезапно лишили Аддисона пенсии; нужда заставила его вернуться домой, и какое-то время он жил в нищете и безвестности. Затем произошла битва при Бленхейме, и, пытаясь найти поэта, который бы воспевал это событие, Аддисон попал в поле зрения тори. Его поэма «Поход», воспевающая победу, произвела фурор в стране. Вместо того чтобы заставить героя убивать тысячи и десятки тысяч, подобно героям древнего эпоса, Аддисон, понимая, что требуется от современного полководца, заставил Мальборо руководить битвой извне, сравнив его с ангелом, летящим на вихре:
Именно тогда была доказана могучая душа великого Мальбро,
что в шоке от наступающих войск, не тронутый,
Среди смятения, ужаса и отчаяния,
Осмотрел все ужасные картины войны;
В мирной мысли обозрел поле смерти,
Изнемогающим эскадронам посылал своевременную помощь,
Вдохновил отброшенные батальоны на бой,
И указал сомнительному сражению, где следует бушевать.
Итак, когда ангел по божественному повелению
С нарастающими бурями сотрясает грешную землю,
(Как недавно над бледной Британией в прошлом),
Спокойный и безмятежный он гонит яростный порыв ветра;
и, довольный исполнением приказов Всевышнего,
несется в вихре и направляет бурю.
Это одно сомнительное сравнение принесло Аддисону состояние. Никогда ни до, ни после механистический труд поэта не был так высоко оценен. Его называли лучшим произведением из когда-либо написанных, и с того дня Аддисон неуклонно рос в политической карьере и занимал высокие посты. Он стал заместителем министра, членом парламента, министром по делам Ирландии и, наконец, государственным секретарем. Вероятно, ни один другой литератор, опираясь только на свое перо, не поднимался так быстро и так высоко в должности.
Остаток жизни Аддисона был поделен между политическими обязанностями и литературой. Его эссе для «Тэтлера» и «Спектейтора», которые мы до сих пор бережно храним, были написаны между 1709 и 1714 годами; но большую литературную известность он снискал своей классической трагедией «Катон», о которой мы почти забыли. В 1716 году он женился на вдове, графине Уорик, и переехал жить в ее дом, знаменитый Холланд-Хаус. Его супружеская жизнь продлилась всего три года и, вероятно, не была счастливой. Конечно, он никогда не писал о женщинах, кроме как с мягкой сатирой, и все больше становился клубным человеком, проводя большую часть своего времени в клубах и кофейнях Лондона. До этого времени его жизнь была на удивление мирной; но его последние годы были омрачены ссорами, сначала с Поупом, затем со Свифтом и, наконец, с его давним другом Стилом. Первая ссора произошла на литературной почве и была во многом результатом ревности Поупа. Ядовитая карикатура последнего на Аддисона в роли Аттикуса показывает, как он мстил великому и доброму человеку, который был его другом. Другие ссоры со Свифтом, и особенно с его старым другом Стилом, были печальным результатом политических разногласий и показывают, насколько невозможно смешивать литературные идеалы с партийной политикой.
Он спокойно скончался в 1719 году. Лучшая эпитафия ему — краткое описание из «Английских юмористов» Теккерея:
Жизнь, полная благополучия и красоты, спокойная смерть; огромная слава и любовь впоследствии к его счастливому и незапятнанному имени.
ТРУДЫ АДДИСОНА.
==============
Наиболее долговечными из произведений Аддисона являются его знаменитые «Очерки», собранные из «Тэтлера» и «Спектейтора». Мы говорили о нём как о мастере искусства благопристойной жизни, и эти очерки служат неизменным стимулом для других познавать и практиковать это изящное искусство. В эпоху фундаментальной грубости и искусственности он принёс благотворное послание утончённости и простоты, подобно тому, как Рёскин и Арнольд говорили с более поздней эпохой материализма; только успех Аддисона был больше, чем у них, благодаря его более глубокому знанию жизни и большей вере в людей. Он обрушивается на всё мелкое тщеславие и все крупные пороки своего времени не в суровой манере Свифта, которая заставляет нас чувствовать безнадёжность по отношению к человечеству, а с доброй насмешкой и мягким юмором, который воспринимает быстрое улучшение как должное. Прочитать жестокие «Письма к юной леди» Свифта, а затем «Вскрытие головы кавалера» Аддисона и его же «Вскрытие сердца кокетки» — значит сразу понять секрет более стойкого влияния последнего.
Заслуживают внимания ещё три результата этих восхитительных эссе:
во-первых, они дают нам наилучшую картину новой общественной жизни Англии с её многочисленными новыми интересами;
во-вторых, они подняли искусство литературной критики на гораздо более высокий уровень, чем когда-либо прежде, и как бы сильно мы ни расходились с их суждениями и их интерпретацией такого человека, как Мильтон, они, безусловно, привели англичан к лучшему пониманию и оценке их собственной литературы;
и, наконец, в Неде Софтли, литературном дилетанте, Уилле Уимбле, бедном родственнике, сэре Эндрю Фрипорте, купце, Уилле Хоникомбе и сэре Роджере, сельском джентльмене, они дают нам персонажей, которые навсегда остаются частью той славной компании, которая простирается от сельского священника Чосера до Малвани Киплинга. Аддисон и Стил не только ввели современное эссе, но и в таких персонажах, как эти, возвещают зарю современного романа.
Из всех его эссе наиболее известны и любимы те, которые знакомят нас с сэром Роджером де Коверли, гениальным законодателем жизни и нравов в тихой английской провинции.
По стилю эти эссе примечательны тем, что демонстрируют растущее совершенство английского языка. Джонсон говорит: «Всякий, кто хочет овладеть английским стилем, простым, но не грубым, и элегантным, но не вычурным, должен посвящать дни и ночи тому, что написано Аддисоном». И снова он говорит: «Посвятите дни и ночи, сэр, изучению Аддисона, если вы хотите стать хорошим писателем или, что ещё ценнее, честным человеком». Это была хорошая критика для своего времени, и даже в настоящее время критики сходятся во мнении, что эссе Аддисона стоит прочитать один раз ради них самих и много раз ради их влияния на формирование ясного и изящного стиля письма.
Стихи Аддисона, пользовавшиеся огромной популярностью в его время, сейчас редко читают. Его «Катон», с его классическими единствами и отсутствием драматической силы, следует считать неудачей, если рассматривать его как трагедию; но он представляет собой превосходный пример риторики и тонкого чувства, которые тогда считались неотъемлемыми чертами хорошего письма. Лучшая сцена этой трагедии находится в пятом акте, где Катон ведёт монолог, держа в руке раскрытую книгу Платона «Бессмертие души» и обнажённый меч на столе перед ним:
Так должно быть — Платон, ты рассуждаешь правильно! —
Иначе откуда эта приятная надежда, это заветное желание,
Эта тоска по бессмертию?
Или откуда этот тайный страх и внутренний ужас,
Перед тем, чтобы рухнуть в ничто? Почему душа
В себе и ужасается гибели?
Это божество движется внутри нас;
Это само небо указывает на загробную жизнь,
И возвещает человеку вечность.
Многие читатели часто используют отдельные стихи Аддисона, даже не подозревая, кому они обязаны. Его благочестивая натура нашла отражение во многих гимнах, некоторые из которых до сих пор поются и любят в наших церквях. Многие прихожане, подобно Теккерею, восхищаются великолепным размахом его стихотворения «Бог в природе», начинающегося словами «Пространный небосвод в вышине». Почти так же известны и любимы его «Гимн путника» и «Продолжающаяся помощь», начинающиеся словами «Когда все милости Твои, о мой Боже».
Последний гимн, написанный во время шторма у берегов Италии, когда капитан и команда были деморализованы ужасом, показывает, что поэзия, особенно хороший гимн, который можно петь в том же духе, что и молиться, иногда является самой практичной и полезной вещью в мире.
РИЧАРД СТИЛ (1672–1729).
=======================
Стил был почти во всех отношениях полной противоположностью своему другу и коллеге по работе – лихой, добросердечный, эмоциональный, обаятельный ирландец. В школе Чартерхаус и Оксфорде он делился всем с Аддисоном, не прося взамен ничего, кроме любви. В отличие от Аддисона, он учился мало и оставил университет, чтобы поступить в Конную гвардию. Он побывал солдатом, капитаном, поэтом, драматургом, эссеистом, членом парламента, управляющим театром, издателем газеты и занимался ещё двадцатью вещами – всё это он начинал с радостью, а затем бросал, иногда против своей воли, как, например, когда его исключили из парламента, а иногда и потому, что другие сиюминутные интересы были более привлекательными. Его стихи и пьесы сейчас малоизвестны, но читатель, который поищет их, найдёт кое-что интересное о самом Стиле. Например, он любил детей и был одним из немногих писателей своего времени, кто проявлял искреннее и непоколебимое уважение к женщине. Даже больше, чем Аддисон, он высмеивает порок и превозносит добродетель. Он – основатель «Тэтлера» и вместе с Аддисоном создатель «Спектейтора» – двух периодических изданий, которые за короткий, менее чем четыре года, период оказали большее влияние на последующую литературу, чем все остальные журналы века, вместе взятые. Более того, он – гений сэра Роджера и многих других персонажей и эссе, за которые Аддисон обычно получает все заслуги. В эссе для «Тэтлера» часто невозможно разделить творчество этих двух авторов; но большинство критиков считают, что наиболее оригинальные детали – персонажи, мысли, бьющая через край доброта – в значительной степени принадлежат Стилу; в то время как Аддисону выпала работа по полировке и совершенствованию эссе, а также добавлению той щепотки юмора, которая сделала их самыми желанными литературными гостями, которых когда-либо принимала Англия.
«TATLER» И «SPECTATOR».
=======================
Благодаря своему таланту в написании политических памфлетов Стил был назначен официальным составителем географического справочника.
Находясь на этой должности и работая в нескольких небольших газетах, Стил задумал издавать газету, которая публиковала бы не только политические новости, но и клубные сплетни и кофейни, а также лёгкие эссе о жизни и нравах того времени. Немедленным результатом – Стил никогда не позволял ни одной идее оставаться без внимания – стал знаменитый журнал Tatler, первый номер которого вышел 12 апреля 1709 года. Это был небольшой лист формата «фолио», выходивший по почтовым дням три раза в неделю и продававшийся по пенни за экземпляр. Серьёзность его предназначения очевидна из этого посвящения к первому тому сборника эссе Tatler:
Основная цель этой статьи — разоблачить ложные уловки жизни, сорвать маски хитрости, тщеславия и притворства и рекомендовать общую простоту в нашей одежде, нашей речи и нашем поведении.
Успех этого неслыханного сочетания новостей, сплетен и эссе был мгновенным. Ни один лондонский клуб или кофейня не могли себе позволить обходиться без него, и на его страницах зародился первый всеобщий интерес к современной английской жизни, отраженной в литературе. Стил сначала написал всё издание целиком и подписывал свои эссе именем Айзека Бикерстаффа, которое прославил Свифт несколькими годами ранее. Говорят, что Аддисон вскоре узнал одно из своих замечаний, адресованных Стилу, и тайна авторства была раскрыта. С тех пор Аддисон стал постоянным автором, а иногда и другие авторы добавляли к нему эссе о новой общественной жизни Англии.
Стил потерял должность составителя географического справочника, и журнал «Tatler» прекратил своё существование менее чем через два года, но лишь после того, как он завоевал поразительную популярность и проложил путь своему преемнику. Два месяца спустя, 1 марта 1711 года, вышел первый номер «Spectator». В новом журнале политика и новости как таковые игнорировались; это был литературный журнал, в чистом виде, и всё его содержание состояло из одного лёгкого эссе. В то время это считалось безумным начинанием, но его мгновенный успех доказал, что люди жаждали литературного выражения новых социальных идеалов. Следующее причудливое письмо редактору может послужить примером той роли, которую «Spectator» играл в повседневной жизни Лондона:
Г-н Спектейтор, ваша газета — часть моего чайного сервиза; и моя служанка так хорошо знает мое настроение, что, когда она сегодня утром заказала мне завтрак (мне уже было поздно), она ответила, что «Спектейтор» еще не пришел, но чайник закипел, и она ждет его с минуты на минуту.
Именно в несравненных статьях журнала «Spectator» Аддисон проявил себя наиболее «достойным упоминания». Он написал большинство статей, и в первом номере журнала появилось следующее описание журнала «Spectator», под которым Аддисон теперь широко известен:
Нет такого места, где я бы не появлялся; иногда меня видят заходящим в круг политиков в кофейне «Уиллс» и с большим вниманием слушающим рассказы, раздающиеся в этих маленьких круглых аудиториях. Иногда я курю трубку в «Чайлдс» и, хотя, кажется, слушаю только «Почтальона», подслушиваю разговоры за каждым столиком. По воскресеньям я появляюсь в «Сент-Джеймсском» и иногда присоединяюсь к небольшому политическому комитету во внутренней комнате, как человек, пришедший послушать и поучиться. Моё лицо также очень хорошо известно в «Грецианце», «Кокоа Три» и в театрах как на Друри-Лейн, так и на Хеймаркете. Уже более десяти лет меня принимают за торговца на бирже; а иногда я выдаю себя за еврея в собрании биржевых спекулянтов у Джонатана… Таким образом, я живу в мире скорее как зритель человечества, чем как представитель вида… именно этот образ я намерен сохранить в этой статье.
Огромное место, которое эти два небольших журнала занимают в нашей литературе, кажется совершенно несоразмерным краткости их существования. За короткий четырёхлетний период совместной работы Аддисона и Стила лёгкое эссе утвердилось как одна из важнейших форм современной литературы, а литературный журнал завоевал себе место выразителя общественной жизни нации.
СЭМЮЭЛ ДЖОНСОН (1709-1784)
==========================
Читатель «Джонсона» Босуэлла, наслушавшись бесконечного ворчания и увидев неуклюжие действия героя, часто ловит себя на мысли, почему он должен завершать чтение глубочайшим уважением к этому «старому медведю», объекту пресмыкающегося внимания Босуэлла. Перед ним человек, который, конечно, не был величайшим писателем своего времени, возможно, даже не великим писателем вовсе, но, тем не менее, был диктатором английской литературы и до сих пор маячит на протяжении веков великолепной литературы как её самая яркая и самобытная фигура. Более того, перед ним огромный, толстый, неуклюжий человек с вульгарными манерами и внешностью, который монополизирует разговор, яростно спорит, оскорбляет всех, дубинками подавляет оппозицию: «Мадам» (обращаясь к изысканной хозяйке за столом), «не говорите больше глупостей»; «Сэр» (обращаясь к высокому гостю), «я вижу, вы подлый виг». Разговаривая, он издаёт странные животные звуки, «иногда издавая полусвист, иногда кудахча, как курица»; а когда он завершает яростный спор и унижает своих оппонентов догматизмом или насмешками, он откидывается назад, чтобы «выдохнуть, как кит», и осушить бесчисленное количество чашек горячего чая. И всё же этот любопытный диктатор элегантной эпохи был настоящим львом, которого очень ценило общество; вокруг него, в его собственном бедном доме, собирались выдающиеся художники, учёные, актёры и литераторы Лондона – все чтили этого человека, любили его и внимали его догматизму, как греки внимали голосу своего оракула.
В чём же секрет этого поразительного зрелища? Если читатель естественным образом обратится за объяснением к произведениям Джонсона, он будет разочарован. Читая его стихи, мы не находим ничего, что могло бы нас порадовать или вдохновить, а лишь уныние и пессимизм, с несколькими моральными замечаниями, выраженными в рифмованных двустишиях:
Но, едва замеченные, знающие и смелые
Падают во всеобщей резне золота;
Опустошающая чума! Что свирепствует без ограничений,
И переполняет преступлениями историю человечества;
Ради золота свой меч обнажает наемник-негодяй,
Ради золота наемный судья искажает законы;
Богатство, накопленное за богатство, не покупает ни правды, ни безопасности;
Опасности растут по мере того, как растут сокровища.
Это здравый смысл, но это не поэзия; и нет нужды искать информацию в увесистых томах Джонсона, ведь любой моралист может с ходу изложить нам ту же доктрину. Что касается его эссе в «Рамблере», некогда столь успешных, то, хотя мы и восхищаемся их громкими словами, тщательно выверенными предложениями и классическими аллюзиями, с тем же успехом можно попытаться заинтересоваться старомодной трёхчасовой проповедью. Мы вяло читаем несколько страниц, зеваем и ложимся спать.
Поскольку деятельность этого человека не объясняет его лидерства и влияния, мы исследуем его личность; и здесь всё интересно. Благодаря нескольким часто цитируемым отрывкам из биографии Босуэлла, Джонсон предстаёт перед нами как эксцентричный медведь, забавляющий нас своим рычанием и неуклюжими выходками. Но был и другой Джонсон – храбрый, терпеливый, добрый, религиозный человек, который, как сказал Голдсмит, «не имел от медведя ничего, кроме шкуры»; человек, который, как герой, боролся с нищетой, болью, меланхолией и ужасным страхом смерти, и мужественно преодолел их. «Эта беда прошла; так же пройдёт и эта», – пел печальный Деор в первой старинной англосаксонской лирике; и это выражает великий и страдающий дух Джонсона, который перед лицом огромных препятствий никогда не терял веры в Бога и в себя. Хотя он был реакционером в политике, поддерживая произвол королей и выступая против растущей свободы народа, его политические теории, как и его манеры, были не глубже его кожи; ибо во всем Лондоне не было никого более доброго к обездоленным и никого более готового протянуть руку каждому борющемуся мужчине и женщине, встречавшимся ему на пути. Проходя мимо бедных бездомных арабов, спящих на улицах, он клал им монету в руку, чтобы они могли счастливо проснуться; ибо сам он хорошо знал, что значит быть голодным. Таков был Джонсон — «масса подлинной мужественности», как называл его Карлейль, и за это люди любили и почитали его.
Жизнь Джонсона.
===============
Джонсон родился в Личфилде, Стаффордшир, в 1709 году. Он был сыном мелкого книготорговца, человека бедного, но умного и любящего литературу, как это всегда было с книготорговцами в хорошие времена, когда в каждом городе был свой книжный магазин.
С детства Джонсону приходилось бороться с физическими недостатками и болезнями, а также с нежеланием усердно работать. Он готовился к университету, отчасти в школах, но в основном благодаря всепоглощающему чтению в отцовской лавке, и к моменту поступления в Оксфорд он прочитал больше классических авторов, чем большинство выпускников. Ещё до окончания курса ему пришлось покинуть университет из-за бедности, и сразу же он начал свою долгую борьбу за выживание в качестве писаки-референта.
В двадцать пять лет он женился на женщине, которая годилась ему в матери, – он называл это браком по настоящей любви, – и, получив за неё приданое в 800 фунтов стерлингов, они вместе открыли частную школу, которая с треском провалилась. Затем, без денег и влиятельных друзей, он оставил дом и жену в Личфилде и отправился в Лондон в сопровождении лишь Дэвида Гаррика, впоследствии ставшего знаменитым актёром и бывшего одним из его учеников. Здесь, ведомый старыми связями, Джонсон познакомился с книготорговцами и время от времени зарабатывал пенни, сочиняя предисловия, рецензии и переводы.
Жизнь, которую он вёл там со своими литературными собратьями, была поистине собачьей. Многие писатели того времени, высмеянные в бессердечной «Дунсиаде» Поупа, не имея богатых покровителей, которые могли бы их содержать, жили в основном на улицах и в тавернах, ночуя на куче пепла или под причалом, как крысы; радуясь корочке хлеба и счастливея от единственной еды, которая позволяла им некоторое время работать, не напоминая о голоде. Несколько избранных жили в жалких жилищах на Граб-стрит, которая с тех пор стала синонимом состояния борющихся писателей. Джонсон часто рассказывал нам, что он бродил по улицам всю ночь напролёт, в унылую погоду, когда было слишком холодно, чтобы спать, без еды и крова. Но он постоянно писал для книготорговцев и для «Gentleman’s Magazine», и вскоре стал известен в Лондоне и получал достаточно работы, чтобы заработать на жизнь.
Произведениями, которые обеспечили этот небольшой успех, были его поэма «Лондон» и «Жизнь поэта-дикаря» – в лучшем случае жалкая жизнь, которую, пожалуй, лучше было бы оставить без биографа. Но успех его был подлинным, хотя и небольшим, и теперь лондонские книготорговцы обращаются к нему с просьбой написать словарь английского языка.
Это был огромный труд, отнявший у него почти восемь лет, и задолго до его завершения он проел полученные за него деньги. В свободное время он написал «Тщету человеческих желаний» и другие стихотворения, а также завершил свою классическую трагедию «Ирена».
Под влиянием большого успеха журнала «Spectator» Джонсон основал два журнала: «The Rambler» (1750—1752) и «The Idler» (1758—1760). Позднее эссе «Rambler» были опубликованы отдельной книгой и быстро разошлись десятью изданиями; однако финансовая отдача была незначительной, и Джонсон тратил значительную часть своих доходов на благотворительность. Когда в 1759 году умерла его мать, Джонсон, хотя и один из самых известных людей Лондона, остался без денег и в спешке закончил «Rasselas», свой единственный роман, чтобы, как говорят, оплатить похороны матери.
Лишь в 1762 году, когда Джонсону исполнилось пятьдесят три года, его литературные труды были, как обычно, вознаграждены королевской властью, и Георг III назначил ему ежегодную пенсию в триста фунтов. Тогда в его жизни наступил проблеск солнца. Вместе с художником Джошуа Рейнольдсом он основал знаменитый Литературный клуб, членами которого были Бёрк, Питт, Фокс, Гиббон, Голдсмит и, конечно же, все великие литераторы и политики того времени. Это период знаменитых бесед Джонсона, которые Босуэлл запечатлел в мельчайших подробностях и подарил миру. Его представление о беседе, как показано в сотнях мест у Босуэлла, заключается в том, чтобы победить противника любой ценой; сбить его с ног аргументами, а когда они не срабатывают, личными насмешками; догматизировать каждый возможный вопрос, произнести несколько оракулов, а затем с победоносным видом отступить. Относительно взглядов философа Юма на смерть он говорит: «Сэр, если он действительно так думает, то его восприятие нарушено, он безумен. Если же он так не думает, то он лжёт». Уходите, оппозиция. Больше нечего сказать. Как ни странно, именно очевидные ошибки этих монологов теперь привлекают нас, словно мы наслаждаемся удачной шуткой над диктатором. Однажды одна дама спросила его: «Доктор Джонсон, почему вы определили бабку как колено лошади?» «Невежество, мадам, чистое невежество», прогремел великий авторитет.
Когда Джонсону было семьдесят лет, его посетили несколько книготорговцев, которые собирались выпустить новое издание «Английских поэтов» и хотели, чтобы Джонсон, как ведущий лондонский литератор, написал предисловия к нескольким томам. Результатом стали его «Жизни поэтов», как они известны сейчас, и это его последнее литературное произведение. Он умер в своём бедном доме на Флит-стрит в 1784 году и был похоронен среди почитаемых поэтов Англии в Вестминстерском аббатстве.
ТРУДЫ ДЖОНСОНА.
===============
«Книга, – говорит доктор Джонсон, – должна помогать нам либо наслаждаться жизнью, либо переносить её». Если судить по этому стандарту, то сложно определить, какую из многочисленных книг Джонсона рекомендовать. Две вещи, «достойные упоминания», – это его «Словарь» и «Жизнеописания поэтов», хотя обе они ценны не как литература, а скорее как литературоведческий труд. «Словарь», как первая амбициозная попытка составить английский лексикон, чрезвычайно ценен, несмотря на то, что его деривация часто ошибочна, а в своих странных определениях он часто демонстрирует юмор или предвзятость. Определяя «овёс», например, как зерно, которое в Англии дают лошадям, а в Шотландии – народу, он потворствует своему предубеждению против шотландца, которого никогда не понимал, точно так же, как, определяя «пенсию», он находит повод раскритиковать писателей, которые льстили своим покровителям со времён Елизаветы, хотя впоследствии сам принял приличную пенсию. С присущей ему честностью он отказался изменить свое определение в последующих изданиях словаря.
«Жизни поэтов» – самые простые и читабельные из его литературных произведений. Десять лет, прежде чем начать писать эти биографии, он посвятил себя беседам, и здесь тяжеловесный стиль его эссе-«бродяг» уступает место более лёгкому и естественному выражению. Как критические работы, они часто вводят в заблуждение, восхваляя искусственных поэтов, таких как Каули и Поуп, и отдавая мало должного или даже во многом несправедливо по отношению к более благородным поэтам, таким как Грей и Мильтон; и их нельзя сравнивать с теми, что можно найти в «Истории английской поэзии» Томаса Уортона, опубликованной в том же поколении.
Однако как биографии они представляют собой превосходное чтение, и именно им мы обязаны некоторыми из самых известных изображений ранних английских поэтов.
Стихов Джонсона читатель найдёт достаточно, если пробежится взглядом на «Тщету человеческих желаний». Его единственный рассказ, «Расселас, принц Абиссинии», скорее риторический, чем романтический, но всё же интересен читателю, желающему узнать личные взгляды Джонсона на общество, философию и религию. Любое из его эссе, например, «О чтении» или «Пагубные последствия мечтаний», будет достаточно, чтобы познакомить читателя с джонсоновским стилем, которым когда-то восхищались и копировали ораторы, но который, к счастью, сменился более естественной манерой речи. Стоит признать, что большинство его произведений довольно утомительны. Джонсон обязан своим выдающимся местом в нашей литературе не своим книгам, а скорее образу самого Джонсона, созданному Босуэллом.
«ЖИЗНЬ ДЖОНСОНА» БОСУЭЛЛА
=========================
В лице Джеймса Босуэлла (1740–1795) мы видим ещё одну выдающуюся фигуру – пустого шотландского адвоката, который бежит, как собачка, по пятам за своим властным господином, неистово ожидая ласки и унижаясь от подзатыльника, и безмерно доволен, если только может быть рядом с ним и записывать его пророчества. Всю свою жизнь Босуэлл, похоже, стремился сиять в отблесках славы великих людей, а его главной задачей было записывать их слова и деяния. Когда он приехал в Лондон в возрасте двадцати двух лет, Джонсон, тогда ещё находившийся на заре своей великой славы, был для этого ненасытного маленького искателя славы словно Серебряный Доктор для голодной форели. Он искал знакомства, как золотоискатель, бродил повсюду, где Джонсон декламировал, пока в книжной лавке Дэвиса не представилась прекрасная возможность. Вот его рассказ об этом великом событии:
Я был очень взволнован [говорит Босуэлл] и, вспомнив его предубеждение против шотландцев, о котором я много слышал, сказал Дэвису: «Не говори ему, откуда я родом». «Из Шотландии», — шаловливо воскликнул Дэвис. «Мистер Джонсон», — сказал я, — «я действительно родом из Шотландии, но ничего не могу с этим поделать». «Вот это, сэр», — воскликнул Джонсон, — «как я обнаружил, очень многие ваши соотечественники просто не могут с этим поделать». Этот удар меня изрядно ошеломил;и когда мы сели, я почувствовал себя немало смущенным и обеспокоенным тем, что может произойти дальше.
Затем в течение нескольких лет, с упорством, которое не могли сломить никакие отповеди, и с толстой кожей, которую не могли сделать чувствительной никакие насмешки, он следует за Джонсоном; пробирается в Литературный клуб, где ему не рады, чтобы быть рядом со своим кумиром; увозит его на Гебриды; беседует с ним при каждом удобном случае; а когда его не приглашают на пир, ждёт снаружи дома или таверны, чтобы провести его домой вместе с хозяином в густом тумане раннего утра. И как только оракул исчезает из виду и ложится спать, Босуэлл торопится домой, чтобы подробно записать всё, что он видел и слышал. Именно его подробным записям мы обязаны нашим единственным совершенным портретом великого человека; всем его тщеславием, его величием, его предрассудками, суевериями и даже деталями его внешности:
Вот гигантское тело, огромное лицо, изборожденное шрамами болезней, коричневое пальто, чёрные шерстяные чулки, седой парик с обгоревшим челом, грязные руки, обкусанные и обгрызенные до мяса ногти. Мы видим, как глаза и рот судорожно двигаются; мы видим, как перекатывается тяжёлая фигура; мы слышим, как она пыхтит; а затем раздаётся: «Почему, сэр!», «Что же тогда, сэр?», «Нет, сэр!» и «Вы не понимаете, как ответить на этот вопрос, сэр!»
Записям Босуэлла мы обязаны также и тем, что знаем эти знаменитые беседы, эти словесные, сокрушительные битвы, которые прославили Джонсона в своё время и которые до сих пор заставляют нас изумляться. Вот пример беседы, взятый почти наугад из сотни подобных в несравненной биографии Босуэлла. Выслушав предубеждения Джонсона против Шотландии и его догматические высказывания о Вольтере, Робертсоне и двадцати других, один неудачливый теоретик приводит на свет недавнее эссе о возможной будущей жизни животных, ссылаясь на некий возможный авторитет из священных писаний:
Джонсон, который не хотел слышать ничего о будущем состоянии, что не было одобрено строгими канонами ортодоксальности, отговаривал от этих разговоров; и, оскорблённый продолжением этой болтовни, он воспользовался случаем, чтобы нанести джентльмену удар упрека.
Поэтому, когда бедный спекулянт с серьёзным, метафизически-задумчивым лицом обратился к нему: «Но, право же, сэр, когда мы видим очень умную собаку, мы не знаем, что о ней думать», Джонсон, заливаясь радостью при этой мысли, лучезарно сверкнувшей в его глазах, быстро обернулся и ответил: «Верно, сэр; а когда мы видим очень глупого человека, мы не знаем, что о нём думать». Затем он встал, подошёл к огню и некоторое время стоял там, смеясь и ликуя.
Затем оракул продолжает говорить о скорпионах и естественной истории, отрицая факты и требуя доказательств, которые никто не может предоставить:
Казалось, он с удовольствием рассуждал о натурфилософии. «Что вальдшнепы, — сказал он, — летают над северными странами, доказано, потому что их наблюдали в море. Ласточки, конечно, спят всю зиму. Многие из них собираются вместе, кружа и кружа, а затем все вместе бросаются под воду и ложатся на дно реки». Он рассказал нам, что одним из его первых эссе было латинское стихотворение о светлячке: «Простите, я не спросил, где его можно найти».
Затем следует поразительный набор тем и мнений. Он каталогизирует библиотеки, улаживает дела в Китае, выносит приговор мужчинам, женящимся на женщинах, превосходящих его по статусу, попирает народные свободы, безжалостно критикует Свифта и добавляет несколько разнообразных оракулов, большинство из которых столь же достоверны, как его знания о зимней спячке ласточек.
Когда на следующее утро я навестил доктора Джонсона, он был весьма доволен своим мастерством в общении, проявленным накануне вечером. «Что ж, — сказал он, — мы хорошо поговорили». «Да, сэр, — [говорю я], — вы сбили с ног и забодали нескольких человек».
Его слушатели, отнюдь не возмущаясь этим странным диктатом ума, словно не знают усталости. Они ловят его слова, хвалят его, льстят ему, повторяют его суждения по всему Лондону на следующий день и возвращаются вечером, жаждущие продолжения. Всякий раз, когда разговор начинает затихать, Босуэлл подобен женщине с попугаем или мужчине с танцующим медведем. Он должен расшевелить животное, заставить его говорить или танцевать на благо общества. Он подобострастно подкрадывается к своему герою и совершенно неуместно задаёт вопрос теологии, социальной теории, моды на одежду или брак, философскую загадку:
«Как вы думаете, сэр, естественные чувства рождаются вместе с нами?» или «Сэр, если бы вас заперли в замке, а рядом с вами был новорожденный младенец, что бы вы сделали?» Далее следуют новые законы, суждения, пророчества Джонсона; ненасытная публика окружает его и аплодирует; Босуэлл слушает, сияя лицом, и тут же отправляется домой, чтобы записать это чудо. Это поразительное зрелище; не знаешь, смеяться или горевать. Но мы знаем этого человека и его аудиторию почти так же хорошо, как если бы сами там присутствовали; и в этом, неосознанно, и заключается великолепная сила этого непревзойденного биографа.
Когда Джонсон умер, появилась возможность, которую Босуэлл высматривал и ждал около двадцати лет. Теперь он будет сиять в мире не отражением, а собственным сиянием. Он собрал свои бесконечные заметки и записи и начал писать свою биографию, но не спешил. Несколько биографий Джонсона появились в течение четырёх лет после его смерти, не нарушая совершенного самодовольства Босуэлла. После семи лет труда он подарил миру свою «Жизнь Джонсона». Это бессмертное произведение; похвалы излишни; её нужно прочитать, чтобы оценить. Подобно греческим скульпторам, маленький раб создал более долговечное произведение, чем великий мастер. Человек, который прочтёт его, узнает Джонсона так, как не знает никого другого, живущего по ту сторону границы; и ему действительно не хватит чуткости, если он положит работу без большей любви и признания всей хорошей литературы.
Поэтам-романтикам и романистам посвящены специальные главы; из других писателей — Беркли и Юм в философии; Робертсон, Юм и Гиббон ;;в истории; Честерфилд и леди Монтегю в писании писем; Адам Смит в экономике; Питт, Берк, Фокс и два десятка менее известных писателей в политике — мы выбираем только двоих: Берка и Гиббона, чьи произведения наиболее типичны для августовского, то есть элегантного, классического стиля прозы.
ЭДМУНД БЕРК (1729—1797)
=======================
Прочитать все собрания сочинений Бёрка и, таким образом, досконально понять его – задача не из лёгких. Мало кто способен на это. С другой стороны, читать отрывки из них, как это делает большинство из нас, – значит составить неверное представление об этом человеке и либо присоединиться к хвалебным хвалам его блестящему ораторскому искусству, либо честно признать, что его периоды тяжеловесны, а идеи часто погребены под джонсоновским многословием. Таковы контрасты, которые можно обнаружить на последовательных страницах двенадцати томов Бёрка, охватывающих огромный диапазон политической и экономической мысли той эпохи и сочетающих факты и вымысел, философию, статистику и блестящие полёты воображения в степени, невиданной ранее в английской литературе. Ведь Бёрк по духу принадлежит к новой романтической школе, а по стилю – образец для формальных классиков. Нам остаётся лишь бегло окинуть взглядом жизнь этого замечательного ирландца, а затем подумать о его месте в нашей литературе.
ЖИЗНЬ.
======
Берк родился в Дублине в семье ирландского адвоката в 1729 году. После окончания университета в Тринити-колледже он приехал в Лондон изучать право, но вскоре отказался от этой идеи, что, в свою очередь, привело его в политику. У него была душа и воображение поэта, и юриспруденция была лишь помехой на его пути. Два его первых труда, «Оправдание естественного общества» и «Происхождение наших идей возвышенного и прекрасного», принесли ему как политическое, так и литературное признание, и ему по очереди предоставили несколько небольших должностей. В тридцать шесть лет он был избран в парламент от Вендовера; и в течение следующих тридцати лет он был ведущей фигурой в Палате общин и самым красноречивым оратором, которого когда-либо знал этот орган. Чистый и неподкупный как в политике, так и в личной жизни, ни один более ученый и преданный слуга Содружества никогда не выступал за справедливость и свободу человека.
Он был на пике своего влияния в то время, когда колонии боролись за независимость; и тот факт, что он отстаивал их интересы в одной из своих величайших речей, «О примирении с Америкой», придаёт ему дополнительный интерес в глазах американских читателей. Его поддержка Америки тем более примечательна, что в других вопросах Берк был далёк от либерализма. Он решительно выступил против учений романтических писателей, с энтузиазмом воспринявших Французскую революцию; он осудил принципы революционеров, порвал с либеральной партией вигов, примкнув к тори, и во многом способствовал развязыванию ужасной войны с Францией, которая привела к падению Наполеона.
Полезно помнить, что среди всей этой борьбы и ожесточения партийной политики Берк неизменно придерживался благороднейших личных идеалов правды и честности; и что во всей своей деятельности, будь то борьба с работорговлей, призывы к справедливости для Америки, защита бедных коренных жителей Индии от жадности корпораций или противопоставление себя народному сочувствию Франции в её отчаянной борьбе, он стремился исключительно к благополучию человечества. Выйдя на пенсию в 1794 году, он заслужил благодарность и любовь всей нации.
СОЧИНЕНИЯ.
=========
В карьере Бёрка можно выделить три чётко выраженных периода, которые тесно связаны с годами его деятельности в Америке, Индии и Франции. Первый период был периодом пророчества. Он изучал историю и нравы американских колоний и предупреждал Англию о катастрофе, которая последует за её упорным игнорированием американских требований и, особенно, американского духа. Его великие речи «Об американском налогообложении» и «О примирении с Америкой» были произнесены в 1774 и 1775 годах, предшествовав Декларации независимости. В этот период труды Бёрка казались напрасными; он проиграл дело, а Англия потеряла свою величайшую колонию.
Второй период – период обличения, а не пророчества. Англия завоевала Индию; но когда Бёрк изучил методы её победы и понял, насколько бездушно миллионы бедных туземцев были вынуждены служить интересам английской монополии, его душа возмутилась, и он вновь стал защитником угнетённого народа.
Две его величайшие речи этого периода — «Набоб долгов Аркота» и его грандиозный «Импичмент Уоррену Гастингсу». И снова он, по всей видимости, проиграл дело, хотя и продолжал бороться за справедливость. Гастингс был оправдан, и разграбление Индии продолжилось; но семена реформ были посеяны, проросли и принесли плоды ещё долго после окончания деятельности Берка.
Третий период, как ни странно, – период реакции. Неизвестно, было ли это связано с тем, что ужасы Французской революции напугали его опасностью, грозящей народной свободе, или же с тем, что его собственное продвижение по службе и власти неосознанно заставило его встать на сторону высших классов. Не подлежит сомнению, что он был столь же искренен и благороден, как и всю свою прежнюю жизнь. Он порвал с либеральными вигами и присоединился к реакционным тори. Он выступал против романтических писателей, пылавших энтузиазмом по поводу Французской революции, и громогласно осуждал опасности, которые должен был породить революционный дух, забывая, что именно революция сделала возможной современную Англию. Здесь, где, как мы должны признать, он ошибался в своём деле, он впервые добился успеха. Во многом благодаря влиянию Бёрка растущая симпатия к французскому народу в Англии была остановлена, и была объявлена ;;война, завершившаяся ужасающими победами при Трафальгаре и Ватерлоо.
Самая известная работа Берка этого периода — его «Размышления о Французской революции», которые он шлифовал и перерабатывал снова и снова, прежде чем они были наконец напечатаны. Это амбициозное литературное эссе, хотя и имело замечательный успех, разочаровывает читателя. Несмотря на кельтскую кровь, Берк не понимал французов или те принципы, за которые боролись простые люди по-своему; а его обличения и обращения к Франции представляют проповедника без чувства юмора, обрушивающегося на грешников, которых нет в его общине. В эссе мало проясняющих идей, но много джонсонианской риторики, что делает его периоды утомительными, несмотря на наше восхищение гениальностью его автора. Более значимым является одно из первых эссе Берка «Философское исследование происхождения наших представлений о возвышенном и прекрасном», которое иногда читают, чтобы продемонстрировать разницу в стиле с эссе Эддисона в журнале Spectator на тему «Удовольствия воображения».
Самые известные речи Бёрка – «О примирении с Америкой», «Американское налогообложение» и «Импичмент Уоррена Гастингса» – до сих пор широко изучаются в наших школах как образцы английской прозы; и это обстоятельство, как правило, придаёт им преувеличенную литературную значимость. Рассматриваемые исключительно как литературные произведения, они имеют достаточно недостатков;
и первый из них, столь характерный для классической эпохи, заключается в том, что они изобилуют изящной риторикой, но лишены простоты. В строгом смысле эти красноречивые речи – не литература, призванная восхищать читателя и наводить на размышления, а скорее исследования риторики и умственной концентрации.
Всё это, однако, лежит на поверхности. Внимательное изучение любой из этих трёх знаменитых речей обнаруживает определённые замечательные качества, которые объясняют важное место, отведённое им в изучении английского языка.
Во-первых, демонстрируя величественность и риторическую силу нашего языка, эти речи практически не имеют себе равных.
Во-вторых, хотя Бёрк и говорит прозой, он, по сути, поэт, чья образность, подобно прозе Мильтона, более примечательна, чем у многих наших поэтов. Он говорит фигурами, образами, символами; и музыкальная модуляция его фраз отражает влияние его широкого кругозора в поэзии. Не только по образному выражению, но, в гораздо большей степени, по духу он принадлежит к поэтам эпохи Возрождения. Порой его язык псевдоклассичен, отражая влияние Джонсона и его школы; но его мысль всегда романтична; он руководствуется скорее идеалами, чем практическими интересами, и глубокое сочувствие человечеству, пожалуй, является его самой заметной чертой.
В-третьих, главная цель этих речей, столь отличающихся от большинства политических речей, — не завоевание одобрения или привлечение голосов, а установление истины. Подобно нашему Линкольну, Бёрк питал глубокую веру в неотразимую силу истины, а также веру в людей, которые, если судить по истории нашей расы, не станут добровольно следовать лжи. Методы этих двух великих лидеров поразительно схожи в том отношении, что каждый из них повторяет свою идею по-разному, представляя истину с разных точек зрения, так что она будет привлекательна для людей с самым разным опытом.
В остальном эти два человека разительно контрастируют. Необразованный Линкольн говорит простыми, простыми словами, использует в качестве иллюстраций жизнь на ферме и часто добавляет юмористические истории, настолько уместные и «показательные», что слушатели никогда не забудут суть его аргументации. Учёный Бёрк говорит витиеватыми, величественными периодами и ищет иллюстрации во всей истории и литературе. Богатство его образов и аллюзий, в сочетании с редким сочетанием поэтического и логического мышления, делают эти речи замечательными, совершенно независимо от их темы и цели.
В-четвертых (и, пожалуй, самое важное в этом человеке и его творчестве), Бёрк твёрдо стоит на принципе справедливости. Он изучал историю и обнаружил, что установление справедливости между людьми и между нациями было высшей целью каждого реформатора с сотворения мира. Его не прельщает ни малый, ни временный успех; только истина может быть достаточной для аргументации; и ничто, кроме справедливости, никогда не разрешит вопрос окончательно. Такова его платформа, простая, как Золотое правило, и непоколебимая, как моральный закон. Поэтому, хотя он, по-видимому, и не достигает своего непосредственного желания в каждой из этих трёх речей, принцип, за который он выступает, не может быть повреждён. Как сказал современный писатель о Линкольне: «Полный, обильный поток его жизни, пульсирующий в сердце нации, всё ещё бьётся»; и его слова по-прежнему оказывают сильное влияние на формирование курса английской политики в сторону справедливости.
ЭДВАРД ГИББОН (1737-1794)
=========================
Чтобы понять Бёрка или Джонсона, нужно прочитать множество книг и быть осторожным в своих суждениях; но с Гиббоном задача сравнительно проста, ведь достаточно рассмотреть всего две его книги – «Мемуары» и первый том «Истории», чтобы понять автора. В его «Мемуарах» мы видим интересное отражение личности самого Гиббона – человека, который с удовлетворением смотрит на материальную сторону вещей, всегда ищет для себя самый лёгкий путь и избегает жизненных трудностей и ответственности. «Я вздыхал как влюблённый; но я повиновался как сын», – говорит он, когда, спасая своё наследство, оставил любимую женщину и вернулся домой, чтобы насладиться отцовскими хлебами и рыбой. Это отражает всю жизнь этого человека. Его «История», напротив, – выдающееся произведение. Это первое на нашем языке произведение, написанное на научных принципах и с прочной фактической основой; а стиль – вершина того классицизма, который господствовал в Англии целое столетие. Сочетание исторических фактов и литературного стиля делает «Упадок и разрушение Римской империи» единственным событием в жизни Гиббона, которое «достойно того, чтобы его помнили».
ИСТОРИЯ ГИББОНА.
================
Много лет Гиббон, подобно Мильтону, размышлял над бессмертным произведением и пробовал разные исторические сюжеты, но в итоге безуспешно их бросал. В своём «Дневнике» он рассказывает, как его смутные намерения обретали форму:
Именно в Риме 15 октября 1764 года, когда я сидел в раздумьях среди руин Капитолия и в то время как босые монахи пели вечерню в храме Юпитера, мне впервые пришла в голову мысль описать упадок и падение города.
Двенадцать лет спустя, в 1776 году, Гиббон ;;опубликовал первый том «Упадка и разрушения Римской империи»; и огромный успех работы побудил его продолжить работу над остальными пятью томами, которые публиковались с перерывами в течение следующих двенадцати лет. «История» начинается с правления Траяна, в 98 году н. э., и «прокладывает прямой римский путь» через запутанную историю тринадцати веков, заканчиваясь падением Византийской империи в 1453 году. Объём «Истории» огромен.
Он охватывает не только упадок Римской империи, но и такие события, как нашествие северных варваров, распространение христианства, реорганизация европейских народов, создание великой Восточной империи, расцвет магометанства и величие Крестовых походов. С одной стороны, ему не хватает философской проницательности, он довольствуется фактами, не понимая их причин; и, поскольку Гиббон, по-видимому, не способен понять духовные и религиозные движения, он совершенно неадекватно описывает огромное влияние христианства. С другой стороны, учёность Гиббона не оставляет места для критики; он много читал, отфильтровывал факты из множества книг и записей, а затем выстраивал их в том внушительном порядке, с которым мы уже знакомы. Более того, он необычайно справедлив и разборчив в использовании всех имеющихся в его распоряжении документов и источников. Таким образом, он создал первую англоязычную историю, которая успешно выдержала испытание современными исследованиями и научными изысканиями.
Стиль работы столь же внушителен, как и её великий предмет. Более того, почти с любой другой темой звучный гул его величественных сентенций был бы неуместен. Хотя произведение заслуживает всех эпитетов, которыми его награждали восторженные поклонники, – «завершённый», «изящный», «великолепный», «округлённый», «массивный», «звучный», «изобилующий», «замысловатый», «украшенный», «исчерпывающий», – следует признать, пусть даже шёпотом, что стиль порой затмевает наш интерес к повествованию. Он отфильтровывал факты из множества источников, а затем часто снова прячет их в бесконечных периодах, и приходится часто заново их отсеивать, чтобы быть уверенным даже в самых простых фактах. Другой недостаток заключается в том, что Гиббон ;;безнадёжно мирской в ;;своих воззрениях; он любит зрелища и толпы больше, чем отдельных личностей, и ему не хватает энтузиазма и духовного проникновения. Результат порой настолько откровенно материален, что возникает вопрос: не о силах ли или машинах он читает, а не о людях. Немного почитать его «Историю» здесь и там — это прекрасная вещь, оставляющая под впечатлением элегантного классического стиля и учености; но длительное чтение может вызвать в нас тоску по простоте, естественности и, прежде всего, по тому пылу энтузиазма, который заставляет мертвых героев снова жить на страницах произведений.
Однако это суждение не должно затмевать тот факт, что книга имела исключительно высокий тираж; и что это само по себе является свидетельством того, что множество читателей сочли ее не только познавательной, но и читабельной и интересной.
II. ВОЗРОЖДЕНИЕ РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
=====================================
Ветхий порядок меняется, уступая место новому;
И Бог осуществляет Себя многими способами,
чтобы ни один добрый обычай не развратил мир.
«Кончина Артура» Теннисона.
ЗНАЧЕНИЕ РОМАНТИЗМА.
====================
В то время как Драйден, Поуп и Джонсон последовательно были диктаторами английской литературы, и пока под их руководством героический двустих стал модным в поэзии, а литература в целом стала сатирической или критической по духу и формальной по выражению, новое романтическое течение постепенно возникло. «Времена года» Томсона (1730) стало первым примечательным стихотворением романтического возрождения; число и значение стихотворений и поэтов неуклонно росли, пока в эпоху Вордсворта и Скотта дух романтизма не овладел нашей литературой более полно, чем когда-либо классицизм. Это романтическое течение, которое Виктор Гюго называет «либерализмом в литературе», есть просто выражение жизни, увиденной воображением, а не прозаическим «здравым смыслом», который был центральной доктриной английской философии XVIII века. У него есть шесть важных характеристик, которые отличают его от так называемой классической литературы, которую мы только что рассмотрели:
1. Романтическое движение было отмечено и всегда отмечается сильной реакцией и протестом против рабства правил и обычаев, которые в науке и теологии, а также в литературе, как правило, сковывают свободный человеческий дух.
2. Романтизм вернулся к природе и простому человечеству как к своему материалу, и этим резко контрастирует с классицизмом, который ограничивался преимущественно клубами и гостиными, а также общественной и политической жизнью Лондона. «Времена года» Томсона, несмотря на свои недостатки, были откровением о природном богатстве и красоте, которые на протяжении почти столетия почти не замечались великими писателями Англии.
3. Он возродил мечту о золотом веке, в котором суровые реалии жизни были забыты, а идеалы юности утвердились как единственно неизменные. «Ибо мечтатель живёт вечно, а труженик умирает в один день», – фраза, возможно, выражает лишь буйную фантазию современного поэта; но если задуматься, мечты и идеалы народа остаются драгоценным достоянием ещё долго после того, как их каменные памятники рухнут, а битвы забыты. Романтическое течение подчёркивало эти вечные идеалы юности и взывало к человеческому сердцу так, как не могла бы классическая элегантность Драйдена и Поупа.
4. Романтизм был отмечен глубоким человеческим сочувствием и, как следствие, пониманием человеческого сердца. Не интеллекту или науке сердце открывает свои сокровища, а прикосновению отзывчивой натуры; и то, что скрыто от мудрых и благоразумных, открывается детям. Поуп не обладал заметной человечностью; творчество Свифта – ужасающая сатира; Аддисон восхищал благовоспитанное общество, но не имел никакого послания для простых людей; в то время как даже Джонсон, при всей своей доброте, не испытывал сочувствия к простым людям, но поддерживал сэра Роберта Уолпола в его политике невмешательства во зло, пока революция не вынудит его обратить внимание на гуманность. С возрождением романтизма всё изменилось. Пока Говард героически боролся за тюремную реформу, а Уилберфорс – за освобождение рабов, Грей написал свои «краткие и простые анналы бедняков», Голдсмит – «Заброшенную деревню», а Каупер пел:
Моё ухо болит,
Моя душа изнемогает от ежедневных сообщений
О несправедливости и бесчинствах, которыми полна земля.
В ожесточенном сердце человека нет плоти,
Оно не сочувствует человеку.
Это сочувствие бедным и этот крик против угнетения становились все сильнее и сильнее, пока не достигли своей кульминации в «Бобби» Бернсе, который, больше чем любой другой писатель на любом языке, является поэтом неграмотного человеческого сердца.
5. Романтическое движение было выражением индивидуального гения, а не устоявшихся правил. В результате литература эпохи Возрождения столь же разнообразна, как характеры и настроения разных писателей. Например, когда мы читаем Поупа, у нас складывается общее впечатление однообразия, словно все его отточенные стихи были созданы на одном станке; но в творчестве лучших романтиков наблюдается бесконечное разнообразие. Читать их – всё равно что проехать по новой деревне, встретить два десятка разных человеческих типов и в каждом найти что-то, что можно полюбить или запомнить. Природа и человеческое сердце так же новы, как будто мы никогда их не изучали. Поэтому, читая романтиков, которые обращались к этим источникам в поисках материала, мы редко утомляемся, но часто удивляемся; и это удивление подобно восходу солнца или морю, которые всегда предлагают новую красоту и глубоко волнуют нас, как будто мы никогда раньше их не видели.
6. Романтическое движение, следуя за своим собственным гением, не было совсем без руководства. Строго говоря, ни в истории, ни в литературе нет новых течений; каждое вырастает из чего-то хорошего, что ему предшествовало, и с почтением обращается к мастерам прошлого. Спенсер, Шекспир и Мильтон были вдохновителями романтического возрождения; и мы едва ли можем прочитать стихотворение ранних романтиков, не найдя в нём намёка на влияние одного из этих великих лидеров.
Романтизм обладает и другими характерными чертами, но эти шесть – протест против рабства правил, возвращение к природе и человеческому сердцу, интерес к старинным сагам и средневековым романам как к отголоскам героической эпохи, сочувствие труженикам мира, акцент на индивидуальном гении и возвращение к литературным образцам, основанным на Мильтоне и елизаветинцах, а не на Поупе и Драйдене, – наиболее заметны и интересны. Вспоминая их, мы сможем лучше оценить творчество следующих писателей, которые в той или иной степени иллюстрируют возрождение романтической поэзии в XVIII веке.
ТОМАС ГРЕЙ (1716-1771)
======================
Комендантский час возвещает о прощании;
Мычащее стадо медленно бредет по лугу;
Пахарь бредет домой своим усталым путём,
И мир оставляет тьме и мне.
Теперь мерцающий пейзаж мерцает перед глазами,
И в воздухе царит торжественная тишина,
Кроме того места, где жук совершает свой гудящий полет,
И сонный звон убаюкивает далекие складки.
Так начинается «самое известное стихотворение на английском языке», полное нежной меланхолии, присущей всей ранней романтической поэзии. Его следует читать целиком, как совершенный образец в своём роде. Даже «Il Penseroso» Мильтона, на который оно так сильно намекает, не превосходит его по красоте и выразительности.
ЖИЗНЬ ГРЕЯ.
===========
Автор знаменитой «Элегии» — самый эрудированный и уравновешенный из ранних поэтов-романтиков. В юности он был слабым, единственным из двенадцати детей, переживших младенчество; несчастливое детство, тирания отца и разлука с любимой матерью наложили на всю его жизнь отпечаток меланхолии, заметный во всех его стихотворениях. В знаменитой Итонской школе, а затем в Кембридже он, по-видимому, следовал собственным научным вкусам, а не учебной программе, и, как и Гиббон, был потрясен общей праздностью и бесцельностью университетской жизни. Одним из счастливых результатов его школьной жизни стала дружба с Хорасом Уолполом, который взял его за границу в трёхлетнее путешествие по континенту.
Невозможно представить себе лучшего показателя существенного различия между классической и новоромантической школами, чем то, что раскрывается в письмах Грея и Аддисона, где они делятся своими впечатлениями от заграничных путешествий. Так, когда Аддисон пересёк Альпы, около двадцати пяти лет назад, в хорошую погоду, он написал: «Очень утомительное путешествие… Вы не можете себе представить, как я рад виду равнины». Грей пересёк Альпы в начале зимы, «закутавшись в муфты, капюшоны и маски из бобра, меховые сапоги и медвежьи шкуры», но восторженно написал: «Ни одна пропасть, ни один поток, ни одна скала не были бы наполнены религией и поэзией».
Вернувшись в Англию, Грей недолго жил в Сток-Поджесе, где написал «Оду Итону» и, вероятно, набросал «Элегию», которая, однако, была закончена лишь в 1750 году, восемь лет спустя.
В последние годы своей скромной и ученой жизни он был профессором современной истории и языков в Кембридже, не испытывая никакой тягостной нагрузки от чтения лекций студентам. Здесь он посвятил себя учебе и поэзии, разнообразив свою работу «блужданиями» по рукописям нового Британского музея и «лилипутскими» путешествиями по Англии и Шотландии. Он умер в своих комнатах в Пембрук-колледже в 1771 году и был похоронен на небольшом кладбище в Сток-Поджесе.
СОЧИНЕНИЯ ГРЕЯ.
===============
«Письма» Грея, опубликованные в 1775 году, прекрасно читаются, а его «Дневник» до сих пор остаётся образцом естественного описания; но именно небольшому сборнику стихов он обязан своей славой и своим местом в литературе. Эти стихотворения естественным образом делятся на три периода, в которых можно проследить процесс освобождения Грея от классических правил, столь долго царивших в английской литературе.
В первый период он написал несколько небольших стихотворений, лучшими из которых являются «Гимн невзгодам» и оды «К весне» и «На далёком горизонте Итонского колледжа».
Эти ранние стихотворения обнаруживают два многозначительных момента:
во-первых, появление той меланхолии, которая характеризует всю поэзию этого периода; и,
во-вторых, изучение природы не ради её собственной красоты или истины, а скорее как подходящего фона для игры человеческих эмоций.
Во втором периоде те же тенденции проявляются в более сильном развитии.
К этому периоду относится «Элегия, написанная на сельском кладбище» (1750), самое совершенное стихотворение эпохи.
Читая «Il Penseroso» Мильтона и «Элегию» Грея, можно увидеть начало и завершение той «литературы меланхолии», которая занимала английских поэтов более века.
Два других известных стихотворения этого второго периода – пиндаровские оды: «The Progress of Poesy» и «Bard».
Первое сильно напоминает «Пир Александра» Драйдена, но в большей мелодичности и разнообразии выразительных средств чувствуется влияние Мильтона.
«Bard» во всех отношениях более романтичен и оригинален.
Старый менестрель, последний из валлийских певцов, останавливает короля Эдуарда и его армию на диком горном перевале и с прекрасным поэтическим неистовством пророчествует об ужасе и опустошении, которые всегда будут преследовать тирана.
С первой строки: «Гибель тебя постигнет, безжалостный король!», до финала, где старый бард падает с высокой скалы и исчезает в речных потоках, поэма пронизана огнём древнего и благородного рода людей. Она полностью порывает с классической школой и провозглашает литературную независимость.
В третьем периоде Грей на время отходит от валлийского материала и открывает новое поле романтического интереса в двух скандинавских поэмах: «Роковые сёстры» и «Нисхождение Одина» (1761).
Грей перевёл свой материал с латыни, и хотя этим двум поэмам недостаёт изначальной силы и величия скандинавских саг, они примечательны тем, что привлекают внимание к неиспользованному богатству литературного материала, скрытого в северной мифологии. Именно Грею и Перси (опубликовавшему свои «Северные древности» в 1770 году) во многом обязан глубоким интересом к древнескандинавским сагам, сохраняющимся и по сей день.
В совокупности произведения Грея представляют собой интереснейший комментарий к разнообразной жизни XVIII века. Он был учёным, знакомым со всеми интеллектуальными интересами своего времени, и его работы во многом отличаются точностью и изысканностью классической школы; но он также разделяет пробудившийся интерес к природе, к простому человеку и к средневековой культуре, а его творчество в целом романтично как по стилю, так и по духу. Тот же конфликт между классической и романтической школами и торжество романтизма ясно видны в творчестве самого разностороннего из современников Грея, Оливера Голдсмита.
ОЛИВЕР ГОЛДСМИТ (1728-1774)
===========================
Поскольку «Заброшенная деревня» – одно из самых известных стихотворений на нашем языке, Голдсмиту обычно отводят высокое место среди поэтов рассвета романтизма. Но «Деревня», если внимательно её прочитать, оказывается рифмованным эссе в стиле знаменитого «Опыта о человеке» Поупа; своей популярностью оно обязано пробуждаемым им сочувственным воспоминаниям, а не своему поэтическому совершенству. Голдсмит преуспел именно как прозаик. Он – эссеист, обладающий тонким вкусом Аддисона, но с большим сочувствием к человеческой жизни; он – драматург, один из немногих, кто когда-либо писал комедию, способную сохранить свою популярность на протяжении веков; но, возможно, более великим, чем поэт, эссеист и драматург, является Голдсмит-романист, который взялся за важную работу по очищению раннего романа от его жестоких и непристойных тенденций и который в «Викарии Уэйкфилда» подарил нам одного из самых долговечных персонажей английской литературы. В своей манере, особенно в поэзии, Голдсмит слишком сильно находился под влиянием своего друга Джонсона и классицистов; но в своём деле, в своём сочувствии природе и человеческой жизни, он, несомненно, принадлежит к новой романтической школе. В целом, он самый разносторонний, самый обаятельный, самый непоследовательный и самый обаятельный гений из всех литераторов, прославивших эпоху Джонсона.
ЖИЗНЬ.
======
Карьера Голдсмита – это карьера безответственного, неуравновешенного гения, которая могла бы привести в отчаяние, если бы сам он не оставался столь привлекательным при всей своей непоследовательности. Он родился в деревне Паллас, Ирландия, в семье бедного ирландского викария, чей благородный характер изображен в «Докторе Примроузе» из «Викария Уэйкфилда» и в семье сельского священника из «Заброшенной деревни». После неудовлетворительного обучения в различных школах, где его считали безнадежно глупым, Голдсмит поступил в Тринити-колледж в Дублине в качестве сизара, то есть студента, оплачивающего обучение трудом. Своими выходками он впал в немилость у властей, но это его мало беспокоило. Он также был крайне беден, что беспокоило его еще меньше: когда он зарабатывал несколько шиллингов, сочиняя баллады для уличных певцов, его деньги чаще уходили нищим, чем на уплату его честных долгов.
После трёх лет учёбы в университете он сбежал, как в бульварном романе, и чуть не умер от голода, прежде чем его нашли и вернули с позором. Затем он немного поработал и в 1749 году получил учёную степень.
Странно, что семья уговаривала такого праздного и безответственного юношу принять духовный сан; но это было так. Ещё два года Голдсмит занимался теологией, но был отвергнут, когда представился кандидатом на церковное служение. Он пытался преподавать, но потерпел неудачу. Затем его воображение обратилось к Америке, и, вооружившись деньгами и хорошей лошадью, он отправился в Корк, откуда должен был отправиться в Новый Свет. Он бездельничал по приятным ирландским дорогам, опоздал на корабль и вскоре, без всяких денег, вернулся к родственникам верхом на жалкой кляче по кличке Фиддлбэк, на которую по дороге обменял свою. Он занял ещё пятьдесят фунтов и отправился в Лондон изучать юриспруденцию, но быстро проиграл деньги в карты и снова появился, как всегда любезный и безответственный, среди своих отчаявшихся родственников. На следующий год они отправили его в Эдинбург изучать медицину. Здесь за пару лет он стал популярен как певец и рассказчик, для которого медицина была лишь мучительным недугом. Внезапно его охватила жажда странствий, и он отправился за границу, якобы для завершения медицинского образования, но на самом деле – чтобы, как весёлый нищий, скитаться по Европе, распевая песни и играя на флейте за еду и кров. Возможно, он немного учился в Лейдене и Падуе, но это было лишь побочным занятием. Спустя год или больше скитаний он вернулся в Лондон, якобы получив диплом врача, якобы в Лувене или Падуе.
Следующие несколько лет прошли в жалкой борьбе за выживание, работая учителем, помощником аптекаря, комиком, школьным сторожем и, наконец, врачом в Саутуарке. Постепенно он увлекся литературой и перебивался кое-как, подрабатывая у лондонских книготорговцев. Некоторые его эссе и его «Гражданин мира» (1760–1761) привлекли к нему внимание Джонсона, который, найдя его, был привлечён сначала его бедностью, а затем его гениальностью и вскоре объявил его…«один из первых, кто теперь стал нашим писателем». Дружба Джонсона оказалась бесценной, и вскоре Голдсмит стал членом элитного Литературного клуба. Он быстро оправдал доверие Джонсона, опубликовав «Путешественника» (1764), который был признан одним из лучших стихотворений века. Деньги теперь текли к нему щедро благодаря заказам от книготорговцев; он снял новую квартиру на Флит-стрит и роскошно её обставил; но у него была неумеренная страсть к яркой одежде, и он тратил её на бархатные плащи и на благотворительность быстрее, чем зарабатывал. На какое-то время он возобновил свою врачебную практику, но его роскошная одежда не привлекла пациентов, как он ожидал; и вскоре он снова обратился к писательству, чтобы расплатиться с долгами книготорговцев. Он создал несколько поверхностных и крайне неточных учебников, таких как «Одушевленная природа» и истории Англии, Греции и Рима, которые приносили ему хлеб и еще больше красивой одежды, а также «Викарий Уэйкфилда», «Заброшенная деревня» и «Она склоняется, чтобы победить», которые принесли ему неувядающую славу.
После встречи с Джонсоном Голдсмит стал объектом любопытства Босуэлла; и «Жизни Джонсона» Босуэлла мы обязаны многими подробностями жизни Голдсмита — его невзрачностью, неловкостью, шутками и нелепостями, которые делали его попеременно мишенью и предметом насмешек знаменитого Литературного клуба. Босуэлл не любил Голдсмита и поэтому рисует его нелестный портрет, но даже это не скрывает заразительного хорошего настроения, которое заставляло людей любить его. Когда на сорок седьмом году жизни он заболел лихорадкой, то с детской доверчивостью обратился к шарлатанскому лекарству, чтобы вылечиться. Он умер в 1774 году, и Джонсон установил мемориальную доску со звучной латинской эпитафией в Вестминстерском аббатстве, хотя Голдсмит был похоронен в другом месте. «Пусть не будут помнить его слабости; он был великим человеком», — сказал Джонсон; и литературный мир, который, подобно этому старому диктатору, в глубине души достаточно добр, хотя часто и груб в своих методах, рад принять и зафиксировать вердикт.
ТРУДЫ ГОЛДСМИТА.
===============
О ранних эссе Голдсмита и его поздних школьных работах мало что можно сказать.
Они обосновались вдали от глаз рядового читателя. Возможно, самым интересным из них является серия писем для «Public Ledger» (впоследствии опубликованных под названием «Гражданин мира»), написанных с точки зрения предполагаемого китайского путешественника и содержащих его взгляды на английскую цивилизацию. Слава Голдсмита в основном основана на следующих пяти произведениях:
«Путешественник» (1764) создал Голдсмиту репутацию среди современников, но сейчас его редко читают, разве что студенты, которые хотели бы понять, как Голдсмит когда-то находился под влиянием Джонсона и его псевдоклассических идеалов. Это длинная поэма, состоящая из рифмованных двустиший, представляет собой обзор и критику общественной жизни различных стран Европы и отражает многие из собственных путешествий и впечатлений Голдсмита.
«Заброшенная деревня» (1770), хотя и написана в том же механистическом стиле, настолько проникнута искренним человеческим сочувствием и так точно выражает бунт отдельного человека против общественных институтов, что множество простых людей с радостью слушали её, не спрашивая критиков, можно ли назвать её хорошей поэзией. Несмотря на недостатки, на которые Мэтью Арнольд обратил достаточно внимания, она стала одним из наших самых известных стихотворений, хотя нам невольно хотелось бы, чтобы монотонность её двустиший была нарушена ирландскими народными песнями и балладами, которые очаровывали уличную публику в Дублине и приносили Голдсмиту тёплый приём французскими крестьянами, где бы он ни останавливался, чтобы спеть. В лице деревенского священника и школьного учителя Голдсмит пополнил список Чосера двумя очаровательными персонажами, которые будут жить так же долго, как и английский язык. Критика, что образ процветающего «Свит Оберн» никогда не относился ни к одной деревне в Ирландии, несомненно, справедлива, но это не подлежит сомнению. Голдсмит был неисправимым мечтателем, склонным видеть все, как он видел свои долги и свою яркую одежду, в чисто идеалистическом ключе.
«Добрый человек» и «Она склоняется, чтобы победить» — две комедии Голдсмита. Первая, комедия характеров, хотя в ней есть несколько комичных сцен и один комичный персонаж, Крокер, потерпела неудачу на сцене и больше не была возобновлена ;;с успехом.
Последняя, ;;комедия интриг, — одна из немногих пьес, никогда не терявших своей популярности. Её живые, бурлящие сцены и приятно абсурдные персонажи — Марлоу, Хардкаслы и Тони Лампкин — до сих пор привлекают внимание современных театралов; и почти каждый любительский драматический кружок рано или поздно включает «Она склоняется, чтобы победить» в свой список достопримечательностей.
«Викарий из Уэйкфилда» – единственный роман Голдсмита и первый на любом языке, где семейная жизнь приобретает непреходящий романтический интерес. Как бы мы ни восхищались зарождением английского романа, к которому мы сейчас обратимся, нас всё же шокируют его частые жестокости и непристойности. Голдсмит, как и Стил, питал ирландское благоговение перед чистой женственностью, и это благоговение заставляло его избегать, как вредителя, вульгарности и грубости, которые, казалось, находили удовольствие в современных романистах, таких как Смоллетт и Стерн. Таким образом, он сделал для романа то же, что Аддисон и Стил сделали для сатиры и эссе: он облагородил и возвысил его, сделав достойным старых англосаксонских идеалов, которые являются нашим лучшим литературным наследием.
Вкратце, «Викарий из Уэйкфилда» — это история простого английского священника, доктора Примроуза, и его семьи, которые переходят от счастья к великим испытаниям. Несчастья, которые, как говорят, никогда не приходят поодиночке, в этом случае появляются стаями; но сквозь нищету, горе, заключение и невыразимую утрату дочерей вера викария в Бога и человека торжествует. До самого конца он подобен одному из старых мучеников, который поет Аллилуйя, в то время как львы рычат вокруг него и его детей на арене. Оптимизм Голдсмита, надо признать, здесь доведен до предела. Читателю иногда предлагают прекрасные фразы в стиле Джонсона там, где он, естественно, ожидал бы простого и энергичного языка; и его постоянно преследует подозрение, что даже в этом лучшем из возможных миров тучи скорби викария слишком легко превращались в ливни благословения; тем не менее, его заставляют читать дальше, и в конце он с радостью признается, что Голдсмиту удалось создать интереснейшую историю из материала, который в других руках превратился бы либо в бурлеск, либо в жестокую трагедию.
Отбросив все романтические страсти, интриги и приключения, на которые опирались другие романисты, Голдсмит в этой простой истории из повседневной жизни добился трех примечательных результатов:
он сделал человеческое отцовство почти божественным явлением;
он прославил моральные чувства, которые группируются вокруг семейной жизни как центра цивилизации;
и он дал нам в лице доктора Примроуза поразительную и долговечную фигуру, которая больше похожа на личного знакомого, чем на персонажа книги.
УИЛЬЯМ КАУПЕР (1731–1800)
=========================
В лице Каупера мы видим ещё одного интересного поэта, который, подобно Грею и Голдсмиту, показывает борьбу романтических и классических идеалов.
В первом сборнике своих стихов Каупер сильнее стеснен литературной модой, чем Голдсмит в своих «Путешественнике» и «Заброшенной деревне».
Однако во второй период Каупер свободно использует белый стих; и его восхищение природой и простыми персонажами, такими как возница и почтальон в «Задаче», показывает, что его классицизм быстро оттаивает под влиянием романтического чувства.
В своих поздних произведениях, особенно в бессмертном «Джоне Гилпине», Каупер отбрасывает моду, отдаёт поводья Пегасу, выходит на большую дорогу и тем самым оказывается достойным предшественником Бёрнса, самого непосредственного и интересного из всех ранних романтиков.
ЖИЗНЬ.
=====
Жизнь Купера – трогательная история застенчивого и робкого гения, для которого мир людей был слишком суров, и который, словно раненый зверь, замыкался в природе. Он родился в Грейт-Беркхэмстеде, графство Хартфордшир, в 1731 году в семье английского священника. Он был хрупким, чувствительным ребенком, чье детство было омрачено смертью матери и пренебрежением со стороны семьи. В шесть лет его отправили в школу для мальчиков, где он был запуган юными варварами, сделавшим его жизнь невыносимой. Был один свирепый хулиган, в лицо которому Купер не мог смотреть; он узнавал врага по пряжкам на его ботинках и вздрагивал при его приближении. Яростные оскорбления в его произведении «Тироциниум, или Обзор школ» (1784) показывают, как школьные переживания повлияли на его ум и здоровье. В течение двенадцати лет он изучал право, но при приближении государственного экзамена на должность он был настолько напуган, что попытался покончить жизнь самоубийством.
Это событие пошатнуло его рассудок, и следующие двенадцать месяцев он провёл в приюте Сент-Олбанс. Смерть отца в 1756 году принесла поэту небольшое состояние, избавившее его от необходимости бороться за пропитание, подобно Голдсмиту. После выздоровления он много лет жил в доме Анвинов – образованных людей, которые разглядели в этом застенчивом и меланхоличном, но при этом наделённом особым чувством юмора человеке гениальность. Миссис Анвин, в частности, заботилась о нём как о сыне; и всё счастье, которое он испытывал в своей жалкой жизни, было результатом преданности этой доброй женщины, которая стала «Марией» всех его стихотворений.
Второй приступ безумия был вызван болезненным интересом Каупера к религии, возможно, под влиянием неукротимого рвения некоего Джона Ньютона, викария, с которым Каупер работал в небольшом приходе Олни и вместе с которым он составил знаменитые гимны Олни. Остаток жизни он, между периодами меланхолии и безумия, провёл в садоводстве, заботе о своих многочисленных домашних животных, сочинении стихов, переводе Гомера и очаровательных писем. Два его самых известных стихотворения были подсказаны ему живой и образованной вдовой, леди Остин, которая рассказала ему историю Джона Гилпина и попросила написать балладу на эту тему. Она также уговорила его написать длинную поэму белым стихом; и когда он потребовал тему, она в шутку предложила диван, который был в то время новым предметом мебели. Каупер немедленно написал «Диван» и, под влиянием поэтических возможностей, таящихся в неожиданных местах, время от времени дополнял это стихотворение, назвав своё законченное произведение «Заданием». Оно было опубликовано в 1785 году, и автор сразу же был признан одним из ведущих поэтов своего времени. Последние годы его жизни прошли в долгой борьбе с безумием, пока смерть милосердно не положила конец этой борьбе в 1800 году. Его последнее стихотворение, «Изгнанник», — это крик отчаяния, в котором под видом человека, смытого за борт во время шторма, он описывает себя погибающим на глазах у друзей, бессильных помочь.
СОЧИНЕНИЯ КАУПЕРА.
==================
Первый том стихов Купера, включающий «Распространение заблуждения», «Истина», «Застольные беседы» и т. д., интересен прежде всего тем, что показывает, насколько поэт был связан классическими правилами своего времени.
Эти стихи в целом унылы, но определённая мягкость и, в особенности, доля чистого юмора порой вознаграждают читателя. Ведь Каупер был юмористом, и лишь непрекращающаяся тень безумия помешала ему прославиться именно в этом жанре.
«Задание», написанное белым стихом и опубликованное в 1785 году, – самое длинное стихотворение Каупера. Привыкнув к естественной поэзии Вордсворта и Теннисона, нам трудно оценить поразительную оригинальность этого произведения. Конечно, многое в нём условно и «деревянно», как и многое в поэзии Вордсворта; но когда, после прочтения рифмованных эссе и вычурных двустиший эпохи Джонсона, мы внезапно обращаемся к описаниям Каупером уютных пейзажей, лесов и ручьев, пахарей, погонщиков и разъезжающего почтальона, мы понимаем, что находимся на заре лучшего дня в поэзии:
Он идет, вестник шумного мира,
В забрызганных сапогах, с перетянутой талией и замёрзшими кудрями:
Вести со всех стран громыхают за ним.
Верный своему долгу, с плотно набитым грузом позади,
Но не заботясь о том, что он несёт, его единственная забота
Довести его до назначенного постоялого двора,
И, сбросив ожидаемый мешок, пройти дальше.
Он насвистывает на ходу, беззаботный негодяй,
Хладнокровный и всё же весёлый: вестник печали
Возможно, для тысяч, и радостен для некоторых;
Ему безразлично, горе или радость.
Дома в пепле, и падение акций,
Рождения, смерти и браки, письма, мокрые
От слёз, струящихся по щекам писателя
Быстрых, как точки под его беглым пером,
Или полные любовных вздохов отсутствующих возлюбленных,
Или отзывчивых нимф, одинаково волнующих
Его коня и его самого, не замечая их всех.
Самый трудоёмкий труд Каупера – перевод Гомера белым стихом – был опубликован в 1791 году. Его величественная, в духе Мильтона, часть и более точное изложение греческого языка значительно превосходят искусственные двустишия Поупа. Он также во многих отношениях лучше более известного и более причудливого перевода Чепмена; но по какой-то причине он не имел успеха и так и не получил заслуженного признания. Совершенно иной по духу – многочисленные гимны поэта, опубликованные в сборнике «Олни» в 1779 году и до сих пор исполняемые в наших церквях.
Достаточно упомянуть лишь несколько первых строк – «Бог движется неисповедимым образом», «О, если бы мы могли идти ближе с Богом», «Иногда свет преподносит сюрпризы», – чтобы показать, как его кроткий и благочестивый дух оставил свой след в сердцах тысяч людей, которые теперь едва ли знают его имя. Очаровательные «Письма» Купера, опубликованные в 1803 году, завершают цикл его важных работ, и читатель, любящий читать письма, обнаружит, что они относятся к числу лучших в своём роде. Однако Купер запомнился не своими амбициозными произведениями, а скорее своими небольшими стихотворениями, которые нашли свой путь во многие дома. Среди них самое быстрое отклик в сердцах понимающих – это его короткое стихотворение «При получении портрета моей матери», начинающееся с выразительной строки: «О, если бы эти губы обладали речью». Другой рассказ, «Александр Селькирк», начинающийся словами «Я – монарх всего, что я вижу», показывает, как опыт Селькирка, потерпевшего кораблекрушение (что вдохновило Дефо на создание «Робинзона Крузо»), повлиял на робкую натуру и воображение поэта. Последним и самым известным из всех является его бессмертный рассказ «Джон Гилпин». Каупер был в ужасном приступе меланхолии, когда леди Остин рассказала ему эту историю, которая оказалась лучше лекарства, ибо всю ночь в спальне поэта раздавались смешки и сдержанный смех. На следующее утро за завтраком он продекламировал балладу, создание которой доставило столько удовольствия автору. Студенту стоит прочитать её, даже если он не читает ничего другого у Каупера; и ему будет не хватать юмора и понимания, если он не будет готов с энтузиазмом повторить последнюю строфу:
Давайте же споём: Да здравствует король,
И Гилпин, да здравствует он!
И когда он в следующий раз выедет в путь
Да буду я там, чтобы увидеть.
РОБЕРТ БЕРНС (1759-1796)
========================
После более чем столетия классицизма мы с интересом ознакомились с творчеством трёх поэтов: Грея, Голдсмита и Купера, чья поэзия, подобно хору пробуждающихся птиц, предвещает рассвет нового дня. Два других поэта того же возраста символизируют восход солнца. Первый – пахарь Бернс, который говорит прямо из сердца, обращаясь к первобытным чувствам человечества; второй – мистик Блейк, который лишь наполовину понимает собственные мысли, и чьи слова волнуют чувствительную натуру, как музыка или луна в середине неба, пробуждая в душе те смутные желания и стремления, которые обычно дремлют и которые невозможно выразить, потому что у них нет имени. Блейк прожил свою робкую, мистическую, духовную жизнь в многолюдном городе, и его послание адресовано тем немногим, кто способен его понять. Бернс прожил свою печальную, трудовую, блуждающую жизнь под открытым небом, под солнцем и дождём, и его песни трогают весь мир. Поэзия последнего, насколько она философична, основана на двух принципах, которых классическая школа никогда не понимала: простые люди в глубине души романтичны и любят идеал, и простые человеческие эмоции составляют основу истинной поэзии. Во многом благодаря следованию этим двум принципам, Бёрнс, пожалуй, величайший поэт-песенник мира. Его поэтическое кредо можно выразить одной из его собственных строф:
Дай мне искру природного огня,
Вот знание, которого я жажду;
И тогда, хотя я буду брести по грязи и болоту
В седле или на телеге,
Моя Муза, хотя и в скромном одеянии,
Может тронуть сердце.
ЖИЗНЬ.
=====
Жизнь Бёрнса — это «жизнь фрагментов», как называл её Карлейль; и отдельные фрагменты так же непохожи, как благородный «Субботний вечер Коттера» и тирады и бунты «Весёлых нищих». Подробности этой печальной и бессвязной жизни, пожалуй, лучше было бы забыть. Мы же обращаем внимание лишь на факты, которые помогают нам понять этого человека и его поэзию.
Бернс родился в глинобитном доме в Аллоуэе, Шотландия, суровой зимой 1759 года. Его отец был прекрасным типом шотландского крестьянина тех дней — бедным, честным, богобоязненным человеком, который трудился от рассвета до темноты, чтобы выжать из неподатливой земли пропитание для своей семьи.
Его высокая фигура была сгорблена неустанным трудом; волосы были редкими и седыми, а в глазах – измученный, затравленный взгляд крестьянина, которого нищета и неуплата арендной платы гонят с одной бедной фермы на другую. Семья часто постилась по необходимости и жила уединенно, чтобы избежать соблазна потратить свои с трудом заработанные деньги. Дети ходили босиком и с непокрытой головой в любую погоду, разделяя труд родителей и их беспокойство об арендной плате. В тринадцать лет Бобби, старший, работал полный рабочий день на ферме; в шестнадцать он стал главным рабочим на ферме отца; и он описывает эту жизнь как «безрадостное уныние отшельника и непрестанные мучения раба на галерах». В 1784 году отец, после всей жизни, проведенной в тяжелом труде, был спасен от долговой тюрьмы чахоткой и смертью. Чтобы хоть что-то спасти от развалин дома и хоть как-то прокормить семью, двое старших сыновей подали иск на погашение задолженности по зарплате, которую так и не выплатили. На скромную сумму, которая им досталась, они похоронили отца, купили другую ферму, Моссгил, в Мохлине, и снова начали долгую борьбу с бедностью.
Такова вкратце история детства самого Бернса, составленная в основном из его писем. Есть и другая, более приятная сторона этой картины, отблески которой мы видим в его стихах и в его «Записной книжке». Здесь мы видим мальчика в школе; как и большинство шотландских крестьян, отец дал своим сыновьям наилучшее образование, какое только мог. Мы видим, как он идёт за плугом, не как раб, а как свободный человек, напевая старинную шотландскую песню и сочиняя более удачную, подходящую к мелодии. Мы видим, как он останавливает плуг, чтобы послушать ветер, или отворачивается, чтобы не потревожить птиц, поющих и вьющих гнезда. За ужином мы видим семью за столом, счастливую, несмотря на скудный обед: у каждого ребёнка в одной руке ложка, в другой – книга. Мы слышим, как Бетти Дэвидсон декламирует из своего богатого запаса какую-нибудь героическую балладу, которая воодушевляла юные сердца и заставляла их забывать о дневных трудах. А в рассказе «Субботний вечер крестьянина» мы видим отрывок из жизни шотландских крестьян, который заставляет нас почти преклоняться перед этими героическими мужчинами и женщинами, сохранившими веру и чувство собственного достоинства перед лицом нищеты и чьи сердца, несмотря на грубую внешность, были нежными и верными, как сталь.
Крайне неудачная перемена в жизни Бернса началась, когда в семнадцать лет он покинул ферму и отправился в Киркосвальд изучать геодезию. Город был пристанищем контрабандистов, грубых и пьяниц; и Бернс быстро окунулся в те сцены «буйства и буйного разгула», которые впоследствии стали его проклятием. Некоторое время он усердно учился, но однажды, поднимаясь на высоту солнца, увидел в соседнем саду красивую девушку, и любовь заставила его понервничать. Вскоре он бросил работу и вернулся на ферму, к нищете.
В двадцать семь лет Бернс впервые привлёк к себе внимание литературных деятелей и в тот же миг занял лидирующие позиции в шотландской литературе. Отчаявшись из-за бедности и личных привычек, он решил эмигрировать на Ямайку и собрал несколько своих ранних стихотворений, надеясь продать их за достаточную сумму, чтобы оплатить расходы на поездку. Результатом стало знаменитое килмарнокское издание Бернса, опубликованное в 1786 году, за которое ему предложили двадцать фунтов. Говорят, он даже купил билет и накануне отплытия написал «Прощание с Шотландией», начинающееся словами «Мрачная ночь быстро сгущается», которое он намеревался назвать своей последней песней на шотландской земле.
Утром он передумал, отчасти под влиянием смутного предзнаменования результата своего литературного приключения; эта небольшая книга произвела фурор по всей Шотландии. Не только учёные и литераторы, но «даже крестьяне и служанки», как говорит современник, охотно тратили свои с трудом заработанные шиллинги на новую книгу. Вместо того чтобы отправиться на Ямайку, молодой поэт поспешил в Эдинбург, чтобы договориться о переиздании своего произведения. Его путешествие сопровождалось неизменными овациями, а в столице его радушно встречали и угощали лучшие представители шотландского общества. Этот неожиданный триумф продлился всего одну зиму. Любовь Бернса к тавернам и разгульной жизни шокировала его образованных гостей, и когда он вернулся в Эдинбург следующей зимой после приятной прогулки по Хайленду, он не привлек к себе особого внимания. Он покинул город в гневе и разочаровании и вернулся на родину, где чувствовал себя как дома. Последние несколько лет жизни Бернса – печальная трагедия, и мы поспешно о них умолчим.
Он купил ферму Эллисленд в Дамфрисшире и женился на верной Джин Армор в 1788 году, чтобы писать о ней:
Я вижу её в цветах, покрытых росой,
Я вижу её нежную и прекрасную;
Я слышу её в пении птиц,
Я слышу, как она очаровывает воздух:
Нет ни одного цветка, который бы рос
У фонтана, на лужайке или на траве;
Нет ни одной птицы, которая бы пела,
Но напоминает мне о моей Джин.
Достаточно вспомнить об этом. В следующем году его назначили акцизным сборщиком, то есть сборщиком налогов с продажи спиртного, и небольшого жалованья, в сочетании с доходами от стихов, хватило бы на скромный достаток его семьи, если бы он держался подальше от кабаков. В течение нескольких лет его жизнь, полная чередования трудов и безделья, иногда освещалась его великолепным лирическим гением, и он создал множество песен – «Bonnie Doon», «My Love’s like a Red, Red Rose», «Auld Lang Syne», «Highland Mary» и волнующую душу «Scots wha hae», сочинённую во время скачки по болотам во время бури, – благодаря которым имя Бернса стало известно везде, где говорят по-английски, и чтилось везде, где собирались шотландцы. Он скончался в 1796 году в возрасте всего тридцати семи лет. Его последнее письмо было просьбой к другу о деньгах, чтобы отсрочить пристава, а одно из его последних стихотворений – дань уважения Джесси Льюарс, доброй девушке, которая помогала ему ухаживать за ним во время болезни. Эта последняя изысканная строка, «О, ты был в котле», положенная на музыку Мендельсона, – одна из наших самых известных песен, хотя ее история редко подозревается теми, кто ее поет.
ПОЭЗИЯ БЁРНСА.
=============
Публикация стихотворения Килмарнокского Бёрнса под названием «Стихотворения, написанные преимущественно на шотландском диалекте» (1786) знаменует собой эпоху в истории английской литературы, подобно выходу «Пастушьего календаря» Спенсера. После столетия холодной и формальной поэзии, смягчаемой лишь романтизмом Грея и Купера, эти свежие, вдохновенные песни проникали прямо в сердце, словно музыка возвращающихся птиц весной. Это был небольшой томик, но книга была замечательная; и в связи с ним нам вспоминается строка Марло «Бесконечные богатства в маленькой комнате».
Такие стихотворения, как «Субботний вечер фермера», «К мыши», «К горной маргаритке», «Человека создали для траура», «Два пса», «Обращение к дьяволу» и «Хэллоуин», свидетельствуют о том, что весь дух романтического возрождения воплощен в этом безвестном пахаре. Любовь, юмор, пафос, отклик на природу – все поэтические качества, трогающие человеческое сердце, присутствуют здесь; и сердце было тронуто так, как не тронуто со времён Елизаветы. Если читатель снова обратит внимание на шесть характеристик романтического течения, а затем прочтёт шесть стихотворений Бернса, он сразу увидит, как прекрасно этот человек выражает новую идею. Или возьмём одно предложение:
Нежный поцелуй, и мы расстанемся!
Прощай, и навсегда!
Глубоко в душе, в слезах, я поклянусь тебе,
В противоборствующих вздохах и стонах я поклянусь тебе.
Кто скажет, что Фортуна огорчает его,
Когда звезда надежды его покидает?
Меня не освещает ни один весёлый проблеск;
Тёмное отчаяние вокруг окутывает меня тьмой.
Я никогда не буду винить свою пристрастную фантазию,
Ничто не устоит перед моей Нэнси;
«Суть тысячи любовных историй» заключена в этой короткой песенке. Критики отводят ему высокое место в истории нашей литературы, поскольку он воплощает новый дух романтизма; а его песни проникают прямо в сердце, и он — поэт простых людей.
О многочисленных песнях Бернса, написанных для музыки, говорить не приходится. Они нашли путь к сердцам целых народов и говорят сами за себя. Они варьируются от изысканной «O wert you in the cauld blast» («О, ты был в знойном тумане») до проникновенного призыва к шотландскому патриотизму в «Scots wha hae wi' Wallace bled» («Шотландцы, которые истекали кровью»), которую, по словам Карлейля, следует петь горлом вихря. Многие из этих песен были сочинены в лучшие дни Бернса, когда он шёл за плугом или отдыхал после работы, а в голове звучала мелодия какой-нибудь старинной шотландской песни. Во многом именно потому, что он думал о музыке, сочиняя её, многие его стихи обладают певучестью, предполагающей мелодичность при чтении.
Среди его стихотворений о природе «К мыши» и «К горной маргаритке», безусловно, лучшие, они открывают поэтические возможности, которые повседневно незаметно проплывают у нас под ногами. Эти два стихотворения — предел мечтаний Бернса о природе как таковой. Большинство его стихотворений, таких как «Зима» и «Барнеры и холмы Бони Дуна», рассматривают природу так же, как её рассматривал Грей, — как фон для игры человеческих эмоций.
Его стихотворений, полных эмоций, невероятное множество. Любопытно, что мир всегда смеётся и плачет одновременно; и мы едва ли сможем прочитать хотя бы страницу Бернса, не встретив этого естественного сочетания улыбок и слёз. Примечательно также, что все сильные эмоции, будучи выражены естественно, легко слагаются в поэзию; и Бернс, как никто другой, обладает поразительной способностью описывать свои собственные эмоции с живостью и простотой, так что они мгновенно находят отклик в наших собственных. Невозможно прочитать, например, «Я люблю мою Джин», не влюбившись в какую-нибудь идеализированную женщину; или «К Марии на небесах», не разделив личного горя того, кто любил и потерял.
Помимо песен о природе и человеческих чувствах, Бернс подарил нам множество стихотворений, которым невозможно дать общее название. Среди них следует отметить «A man’s a man for a’ that», выражающее новое романтическое представление о человечестве; «The Vision», которое производит сильное впечатление о ранних идеалах Бернса; «Epistle to a Young Friends», из которого, а не из его сатир, мы узнаём о личных взглядах Бернса на религию и честь; «Address to the Unco Guid», где поэт взывает к милосердию; и «A Bard’s Epitaph», которая, как краткое изложение его собственной жизни, вполне могла бы быть помещена в конце его стихотворений. «Halloween», изображающий деревенское веселье, и «The Twa Dogs», противопоставляющий богатых и бедных, обычно считаются одними из лучших произведений поэта; но человеку, незнакомому с шотландским диалектом, они покажутся довольно сложными.
Из более длинных поэм Бернса наиболее заслуживают прочтения две: «Субботний вечер коттера» и «Тэм о'Шентер» — первая дает наиболее полную картину благородной бедности, какую мы имеем; вторая – самое живое и наименее предосудительное из его юмористических произведений. Трудно найти где-либо ещё такое сочетание грусти и смеха, как в «Тэме о’Шантере». За исключением этих двух, более длинные стихотворения мало что добавляют к славе автора или нашему собственному удовольствию. Начинающему лучше читать изысканные песни Бернса и с радостью осознавать его место в сердцах народа, а остальное забыть, ибо они лишь огорчают нас и затмевают лучшие стороны поэта.
УИЛЬЯМ БЛЕЙК (1757-1827)
========================
Песня дикая, спускаясь по долинам,
Песня радостного ликования,
На облаке я увидел ребёнка,
И он, смеясь, сказал мне:
"Спой песню о ягнёнке";
И я запел с весёлым весельем.
"Флейтист, сыграй эту песню ещё раз!"
И я заиграл, он заплакал, услышав.
«Флейтист, сядь и напиши
В книгу, которую все смогут прочитать»;
И он исчез из виду,
И я сорвал дудочку,
И сделал деревенское перо,
И окрасил воду в чистоту,
И я написал свои весёлые песни.
Чтобы каждый ребёнок мог их услышать.
Из всех поэтов-романтиков XVIII века Блейк – самый независимый и самый самобытный. В своих самых ранних произведениях, написанных им едва ли не ребёнком, он, по-видимому, обращается к поэтам-песенникам елизаветинской эпохи; но большую часть жизни он был поэтом, рожденным исключительно вдохновением, не следуя ничьей воле и не подчиняясь ничьему голосу, кроме голоса, который слышал в своей собственной мистической душе. Будучи самым выдающимся литературным гением своего времени, он практически не оказал на него влияния. В самом деле, мы до сих пор едва ли понимаем этого поэта чистой фантазии, этого мистика, этого трансцендентного безумца, который до конца своей насыщенной жизни оставался непостижимым ребёнком.
ЖИЗНЬ.
======
Блейк, сын лондонского торговца, был странным, одарённым воображением ребёнком, чья душа больше находила общий язык с ручьями, цветами и феями, чем с толпой городских улиц. Помимо чтения и письма, он получил образование; но в десять лет начал копировать гравюры и сочинять стихи. Он также начал долгий курс обучения искусству, что привело к публикации его собственных книг, украшенных гравюрами на полях, раскрашенными от руки, – необычное оформление, достойное яркого художественного вкуса, который проявляется во многих его ранних стихах.
В детстве ему являлись видения Бога и ангелов, заглядывающих в его окно; а став взрослым, он думал, что его посещают души великих усопших: Моисея, Вергилия, Гомера, Данте, Мильтона – «величественные тени, серые, но светящиеся», как он их называет. Похоже, он никогда не задавался вопросом, насколько эти видения были чистой иллюзией, но безоговорочно верил им и доверял им. Для него вся природа была обширным духовным символизмом, в котором он видел эльфов, фей, дьяволов, ангелов – все смотрели на него с дружбой или враждебностью глазами цветов и звёзд:
С синим небом, расправленным крыльями,
И мягким солнцем, что восходит и поет;
С деревьями и полями, полными волшебных эльфов,
И маленькими дьяволами, которые сражаются за себя;
С ангелами, посаженными в боярышниковые беседки,
И самим Богом в уходящие часы.
И это странное пантеистическое понимание природы было не вопросом вероисповедания, а самой сутью жизни Блейка. Как ни странно, он не пытался основать новый религиозный культ, а следовал своим путём, бодро распевая гимны, терпеливо работая, несмотря на уныние и неудачи. То, что писатели гораздо менее гениальные были вознесены в его пользу, в то время как он оставался бедным и безвестным, похоже, нисколько его не беспокоило. Более сорока лет он усердно трудился над книжной гравюрой, руководствуясь в своём искусстве Микеланджело, но придумывая собственные, любопытные рисунки, которым мы до сих пор удивляемся. Иллюстрации к «Ночным мыслям» Янга, к «Могиле» Блэра и к «Изобретениям к Книге Иова» так же ясно демонстрируют своеобразие ума Блейка, как и его стихи. Занимаясь своим ремеслом, он изрекал — ибо, по-видимому, никогда не сочинял — бессвязные видения и непонятные рапсодии, среди которых время от времени попадались маленькие жемчужины, которые до сих пор заставляют наши сердца петь:
Ах, подсолнух, утомленный временем,
считающий шаги солнца;
Стремясь к этому сладкому золотому краю.
Где завершен путь путника;
Где юность томилась от желания,
И бледная дева, окутанная снегом,
Восстанет из могил и устремится
Куда мой подсолнечник хочет идти!
Странный цветок, который можно найти на лондонской улице;но он напоминает о жизни самого Блейка, внешне напряжённой и тихой, но внутренне полной приключений и волнений. Его последние масштабные пророческие произведения, такие как «Иерусалим» и «Мильтон» (1804), были продиктованы ему, как он утверждает, сверхъестественными силами и даже против его воли. Они понятны лишь наполовину, но кое-где в них можно увидеть проблески той же поэтической красоты, что отличает его маленькие стихотворения. Критики обычно называют Блейка «безумцем»; но это лишь отговорка. В лучшем случае он автор изысканных стихов; в худшем — он безумен лишь «северо-северо-западно», как Гамлет; и загадка заключается в том, чтобы найти метод в его безумии. Самое удивительное в нём – это то, как он, не теряя рассудка и жизнерадостно, пробирался сквозь нищету и безвестность, изрыгая изысканные стихи или бессмысленные рапсодии, словно ребёнок, равнодушно играющий с драгоценными камнями, соломинками или солнечными лучами. Он был кротким, добрым, совершенно неземным человечком с необыкновенными глазами, которые даже на безжизненных портретах, кажется, отражали какую-то необычную гипнотическую силу. Он умер безвестно, улыбаясь при видении рая, в 1827 году. Это было почти столетие назад, но он до сих пор остаётся одной из самых непостижимых фигур в нашей литературе.
СОЧИНЕНИЯ БЛЕЙКА.
=================
«Поэтические наброски», опубликованные в 1783 году, представляют собой сборник ранних стихов Блейка, многие из которых были написаны им ещё в детстве. В нём много сырых и бессвязных произведений, но есть и несколько поразительно оригинальных стихов. Два более поздних и более известных сборника – «Песни невинности» и «Песни опыта», – отражают два совершенно разных взгляда на человеческую душу. Как и во всех его произведениях, в этих песнях изобилие, казалось бы, бесполезного материала; но, выражаясь языком шахтёров, всё это – «золотая жила»; в них проблески золотых зёрен, ожидающих нашего просеивания, и время от времени мы неожиданно находим самородок:
Мой господин был подобен цветку на челе
Живого мая; ах, жизнь, хрупкая, как цветок!
Мой господин был подобен звезде на высочайших небесах.
Привлеченной на землю чарами и злобой;
Мой господин был подобен открывающемуся глазу дня;
Но он помрачён; словно летняя луна.
Затуманился; упал, как величественное дерево, срубленное;
Дыхание небес обитало в его листьях.
Учитывая хаотичный характер большинства произведений Блейка, чтение лучше всего начать с небольшой книги избранных произведений, содержащей лучшие песни из этих трёх небольших томов. Суинберн называет Блейка единственным поэтом XVIII века с «высшим и простым поэтическим гением», единственным человеком той эпохи, которого по всем параметрам можно поставить в один ряд с великими мастерами прошлого. Похвала, несомненно, чрезмерна, а критика несколько несдержанна; но, прочитав «Вечернюю звезду», «Воспоминание», «Ночь», «Любовь», «К музам», «Весну», «Лето», «Тигра», «Агнца», «Ком и гальку», мы, возможно, разделим восторг Суинберна. Несомненно, в этих трёх томах собраны одни из самых совершенных и оригинальных песен на нашем языке.
О пространных поэмах Блейка, его титанических пророчествах и апокалиптическом великолепии невозможно справедливо рассказать в таком кратком произведении. Внешне они напоминают огромную кучу мякины, а разбросанные зерна пшеницы едва ли оправдывают труд по их просеиванию. Любознательный читатель получит представление об удивительном мистицизме Блейка, обратившись к любому из произведений его середины жизни – «Уризену», «Вратам рая», «Браку Рая и Ада», «Америке», «Французской революции» или «Видению дочерей Альбиона». Его последние произведения, такие как «Иерусалим» и «Мильтон», слишком малоизвестны, чтобы представлять какую-либо литературную ценность. Читать любое из этих произведений небрежно – значит считать автора безумцем; изучать их, вспоминая песни Блейка и его гений, – значит тихо процитировать его собственный ответ ребёнку, спросившему о стране снов:
«О, что за земля – страна снов?
–Что за горы её и что за ручьи её?
О отец, я видел там свою мать,
Среди лилий у прекрасных вод».
«Милое дитя, я тоже у приятных ручьёв
Всю ночь бродил в стране снов;
Но хотя воды тихи и теплы,
Я не смог добраться до другого берега».
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПОЭТЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ
================================
Мы выбрали пятерых поэтов, упомянутых выше: Грея, Голдсмита, Купера, Бернса и Блейка, как наиболее типичных и интересных из писателей, провозгласивших начало романтизма в XVIII веке. С ними мы связываем группу второстепенных писателей, чьи произведения пользовались огромной популярностью в своё время. Обычный читатель не обратит на них внимания, но для студента все они значимы как выражение совершенно разных этапов романтического возрождения.
ДЖЕЙМС ТОМСОН (1700–1748).
=========================
Томсон принадлежит к числу пионеров романтизма. Подобно Грею и Голдсмиту, он колебался между псевдоклассикой и новыми романтическими идеалами, и уже по этой причине, как ни по какой другой, его ранние произведения интересны – подобно неуверенности ребёнка, который колеблется, ползти ли ему на четвереньках или рисковать упасть, идя пешком. Он «достоин того, чтобы его помнили» за три стихотворения: «Правь, Британия», которое до сих пор является одним из национальных гимнов Англии, «Замок праздности» и «Времена года». «Мечтательный и романтический замок» (1748), занимаемый волшебником праздностью и его добровольными пленниками в стране Дремотихед, – чисто спенсеровский по своей образности и написан в спенсеровской строфе. «Времена года» (1726–1730), написанные белым стихом, описывают виды и звуки сменяющегося года и собственные ощущения поэта от природы. Эти два стихотворения, хотя и довольно скучные для современного читателя, были значимы для раннего романтического возрождения в трех отношениях: в них отказались от преобладающего героического двустишия; в качестве образца они обратились к елизаветинцам, а не к Поупу; и они привлекли внимание к давно забытой жизни природы как к теме поэзии.
УИЛЬЯМ КОЛЛИНС (1721–1759).
==========================
Коллинз, друг и ученик Томсона, обладал, как и Каупер, тонким, нервным характером; и над ним также витала ужасная тень безумия. Его первое произведение, «Восточные эклоги» (1742), романтично по настроению, но написано в преобладающем механистическом двустишии. Все его последующие произведения романтичны как по мысли, так и по выражению. Его «Ода о народных суевериях горцев» (1750) – интересное явление в возрождении романтизма, поскольку оно открыло для воображения новый мир – мир ведьм, пигмеев, фей и средневековых королей.
ДЖОРДЖ КРЭББ (1754–1832).
========================
Крэбб – интересное сочетание реализма и романтизма; его работы, изображающие повседневную жизнь, порой смутно напоминают романы Филдинга. «Деревня» (1783), поэма, не имеющая себе равных в изображении рабочих его эпохи, местами напоминает Филдинга своей грубой энергией, а затем – Драйдена своей точной стихосложением. Поначалу поэма не имела успеха, и Крэбб отказался от своих литературных мечтаний. Более двадцати лет он прожил священником в сельском приходе, зорко наблюдая за жизнью простых людей вокруг. Затем он опубликовал ещё несколько стихотворений, точно таких же, как «Деревня», которые сразу же принесли ему славу и деньги. Они также принесли ему дружбу Вальтера Скотта, который, как и другие, считал Крэбба одним из первых поэтов своего времени. Эти более поздние стихотворения – «Приходской регистр» (1807), «Городской округ» (1810), «Рассказы в стихах» (1812) и «Рассказы зала» (1819) – написаны в том же духе. Они написаны двустишиями; они – размышления о природе и сельской жизни; в них много грязного и скучного, но, тем не менее, это реальные портреты реальных мужчин и женщин, такими, какими их видел Крэбб, и как таковые они по-прежнему интересны. Голдсмит и Бернс идеализировали бедняков, и мы восхищаемся их сочувствием и проницательностью. Крэббу оставалось показать, что в жалких рыбацких деревнях, в жизни трудолюбивых мужчин и женщин, детей, рабочих, контрабандистов, нищих – всех слоев и положений простых людей – есть много романтики, не преувеличивая и не идеализируя их пороки и добродетели.
ДЖЕЙМС МАКФЕРСОН (1736–1796).
=============================
Макферсон – необычная фигура, потакавшая новому романтическому интересу к древним эпическим героям и снискавшая огромную, хотя и мимолетную, славу благодаря серии литературных подделок. Макферсон был шотландским школьным учителем, образованным человеком, но, очевидно, не слишком утончённым, чьё воображение было взбудоражено некоторыми старинными стихами, которые он, возможно, слышал на гэльском языке среди горцев.
В 1760 году он опубликовал свои «Фрагменты древней поэзии, собранные в Хайленде» и утверждал, что его работа представляет собой всего лишь перевод гэльских рукописей. Сомнительно, привлекло бы само произведение внимание; но тот факт, что обилие литературного материала, возможно, ожидало своего открытия, вызвал интерес, подобный тому, который сейчас испытывают при открытии египетской гробницы, и в Эдинбурге была немедленно объявлена ;;подписка, чтобы отправить Макферсона в Хайленд для сбора новых «рукописей». Результатом стала эпопея «Фингал» (1762), «эта тощая и жалкая подделка под поэзию», как называет её Суинберн, которую автор, по его словам, перевёл с гэльского поэта Оссиана. Успех поэмы был ошеломляющим, и Макферсон продолжил её, написав «Темора» (1763), ещё одну эпическую поэму в том же духе. В обоих этих произведениях Макферсону удаётся придать своим героям атмосферу первозданного величия; персонажи крупные и неясные; образы порой великолепны; язык — своего рода напевная, напыщенная проза:
И вот Фингал восстал во всей своей мощи и трижды возвысил голос. Кромла ответил, и сыны пустыни замерли. Они склонили свои красные лица к земле, устыдившись присутствия Фингала. Он пришёл, как дождевая туча в дни солнца, когда оно медленно катится по холму, и поля ожидают ливня. Сваран увидел грозного короля Морвена и остановился на середине его пути. Тёмный он опирался на своё копьё, вращая своими красными глазами. Безмолвный и высокий, он казался дубом на берегах Лубара, чьи ветви давно сожжены небесной молнией. Тысячи его хлынули вокруг героя, и тьма битвы сгущается на холме.
Публикация этого мрачного, полного фантазии произведения вызвала литературную бурю. Несколько критиков во главе с доктором Джонсоном потребовали показать оригинальные рукописи, и когда Макферсон отказался их предоставить, поэмы Оссиана были объявлены подделкой; тем не менее, они имели огромный успех. Макферсон был удостоен чести быть литературным исследователем; ему была предоставлена ;;официальная должность с пожизненным жалованьем; а после смерти в 1796 году он был похоронен в Вестминстерском аббатстве. Блейк, Бернс и, конечно же, большинство поэтов того времени находились под влиянием этой фальшивой поэзии.
Даже ученый Грей был обманут и восхищен «Оссианом», а такие далекие друг от друга люди, как Гете и Наполеон, неумеренно его расхваливали.
ТОМАС ЧАТТЕРТОН (1752–1770).
===========================
Этот «чудесный мальчик», которому Китс посвятил свой «Эндимион» и который воспет в «Адонаисе» Шелли, – одна из самых печальных и интересных фигур романтического возрождения. В детстве он часто посещал старую церковь Святой Марии в Редклиффе в Бристоле, где его очаровывал средневековый дух этого места, и особенно один старый сундук, известный как сундук Канинга, содержащий заплесневелые документы, хранившиеся триста лет. Со странным, сверхъестественным вниманием ребёнок изучал эти реликвии прошлого, переписывая их вместо тетради, пока не научился имитировать не только орфографию и язык, но даже почерк оригинала. Вскоре после появления подделок «Оссиана» Чаттертон начал собирать документы, по-видимому, очень древние, содержащие средневековые поэмы, легенды и семейные истории, сосредоточенные вокруг двух персонажей — Томаса Роули, священника и поэта, и Уильяма Канинга, купца из Бристоля во времена Генриха VI. Кажется невероятным, что весь замысел этих средневековых романов был разработан одиннадцатилетним ребёнком, и что он смог настолько хорошо воспроизвести стиль и манеру письма времён Кэкстона, что печатники были введены в заблуждение; но это факт. Всё больше и больше «Записок Роули», как их называли, Чаттертон создавал — по-видимому, из архивов старой церкви; на самом деле, плод его собственного воображения, — восхищая широкий круг читателей и вводя в заблуждение всех, кроме Грея и нескольких учёных, которые заметили иногда неправильное использование английских слов пятнадцатого века. Вся эта работа была тщательно проработана и несла на себе несомненную печать литературного гения. Читая сейчас его «Эллу», или «Балладу о Харите», или длинную поэму в стиле баллады «Трагедия Бристоу», трудно поверить, что это произведение мальчишки. В семнадцать лет Чаттертон отправился в Лондон ради литературной карьеры, где вскоре принял яд и покончил с собой в припадке детской тоски, вызванной нищетой и голодом.
ТОМАС ПЕРСИ (1729–1811).
=======================
Перси, епископу Ирландской церкви в Дроморе, мы обязаны первой попыткой систематического сбора народных песен и баллад, которые считаются одним из сокровищ национальной литературы. В 1765 году он опубликовал в трёх томах свои знаменитые «Реликвии древней английской поэзии». Наиболее ценной частью этого труда является замечательное собрание старинных английских и шотландских баллад, таких как «Чеви Чейз», «Нут Браун Мэйд», «Дети леса», «Битва при Оттерберне» и многих других, которые без его труда могли бы легко исчезнуть. Теперь у нас есть гораздо лучшие и более достоверные издания этих баллад, поскольку Перси искажал свои материалы, свободно добавляя и убирая, и даже придумывая несколько собственных баллад. На это, вероятно, повлияли два мотива.
Во-первых, разные версии одной и той же баллады сильно различались; И Перси, изменяя их по своему усмотрению, позволил себе ту же свободу, что и многие другие писатели, обращаясь с тем же материалом.
Во-вторых, Перси находился под влиянием Джонсона и его школы и считал необходимым добавить несколько изящных баллад, «чтобы искупить грубость более устаревших стихов». Сейчас это звучит странно, учитывая нашу привычку к точности в работе с историческим и литературным материалом; но это выражает общий дух эпохи, в которой он жил.
Несмотря на эти недостатки, «Реликвии» Перси знаменуют собой целую эпоху в истории романтизма, и их влияние на всё романтическое движение трудно оценить. Скотт говорит о них: «Как только я впервые смог наскрести несколько шиллингов, я купил себе экземпляр этих любимых томов; и не думаю, что когда-либо читал книгу хотя бы наполовину так часто или с таким энтузиазмом». Поэзия самого Скотта во многом вдохновлена ;;этими ранними балладами, а его «Менестрели шотландской границы» обязана своим появлением главным образом влиянию творчества Перси.
Помимо «Реликвий», Перси подарил нам ещё один замечательный труд – «Северные древности» (1770), переведённый с французского «Истории Дании» Малле. Этот труд также оказал огромное влияние, познакомив английских читателей с новой и увлекательной мифологией, более грубой и примитивной, чем греческая;и мы всё ещё, как в музыке, так и в литературе, находимся под чарами Тора и Одина, Фреи и валькирий, а также той потрясающей драмы страсти и трагедии, которая завершилась «Сумерками богов». Литературный мир в неоплатном долгу перед Перси, который сам не написал ничего значительного, но, собирая и переводя произведения других, во многом приблизил торжество романтизма в девятнадцатом веке.
III. ПЕРВЫЕ АНГЛИЙСКИЕ РОМАНИСТЫ
================================
Главными литературными явлениями сложного XVIII века являются господство так называемого классицизма, возрождение романтической поэзии и открытие современного романа. Из этих трёх последний, пожалуй, самый важный. Помимо того, что роман – самый современный и в настоящее время самый читаемый и влиятельный вид литературы, мы с гордостью считаем его оригинальным вкладом Англии в мир литературы. Другие великие виды литературы, такие как эпос, любовный роман и драма, были впервые созданы другими странами; но идея современного романа, по-видимому, в основном сложилась на английской почве; и по количеству и высокому мастерству своих романистов с Англией вряд ли может соперничать какая-либо другая страна. Прежде чем мы начнём изучать писателей, создавших этот новый вид литературы, стоит кратко рассмотреть его значение и историю.
СМЫСЛ РОМАНА. Пожалуй, самое важное замечание обычного читателя о художественном произведении принимает форму вопроса: «Хорошая ли это история?» Ведь современный читатель во многом похож на ребёнка и первобытного человека в том отношении, что его должен привлечь и удержать сюжетный элемент повествования, прежде чем он научится ценить его стиль или моральное значение. Поэтому сюжетный элемент необходим для романа; но откуда берёт начало история, сказать невозможно. С таким же успехом мы могли бы искать происхождение расы; ибо где бы ни находились первобытные люди, там мы видим, как они с нетерпением собираются вокруг рассказчика. В чертогах наших саксонских предков скоп и сказитель всегда были самыми желанными гостями; а в вигвамах американских индейцев человек, рассказавший легенды о Гайавате, имел аудиторию, столь же внимательную, как и та, что собиралась на греческих праздниках, чтобы послушать историю странствий Улисса.
Инстинкту человека, или врожденной любви к истории, мы обязаны всей нашей литературой; и роман должен в какой-то степени удовлетворять этот инстинкт, иначе он перестанет быть оцененным.
Второй вопрос, который мы задаем относительно художественного произведения, заключается в следующем: насколько в нем присутствует элемент воображения? Ведь именно от элемента воображения во многом зависит наша классификация художественных произведений на романы, любовные романы и просто приключенческие истории. Разделения здесь столь же размыты, как граница между детством и юностью, между инстинктом и разумом; но есть определенные принципы, которыми мы можем руководствоваться. Мы замечаем, что в развитии любого нормального ребенка наступает момент, когда для своих историй он желает рыцарей, великанов, эльфов, фей, ведьм, магии и чудесных приключений, не имеющих никакой основы в опыте. Он рассказывает о себе необыкновенные истории, которые могут быть лишь смутными воспоминаниями о сне или творениями пробуждающегося воображения — и то, и другое так же реально для него, как и любая другая сторона жизни. Когда мы говорим, что такой ребенок «фантазирует», мы даем ему совершенно верное название; Этот внезапный интерес к необычайным существам и событиям знаменует собой развитие человеческого воображения, поначалу буйного, поскольку оно не руководствуется разумом, который развивается позднее, и для удовлетворения этого нового интереса был изобретен любовный роман. Роман изначально представляет собой художественное произведение, в котором воображение даёт полную волю, не будучи ограничено фактами или вероятностями. Он повествует о необычайных событиях, о героях, чьи способности преувеличены, и часто добавляет элемент сверхчеловеческих или сверхъестественных персонажей. Невозможно провести границу, где заканчивается любовный роман; но этот элемент чрезмерного воображения, невероятных героев и событий является его отличительной чертой в любой литературе.
Где начинается роман, тоже сказать невозможно; но, опять же, мы находим подсказку в опыте каждого читателя. В жизни каждого юноши наступает момент, естественно и неизбежно, когда романтика перестаёт его увлекать. Он живёт в мире фактов, знакомится с мужчинами и женщинами, хорошими, плохими, но все они – люди; и он требует, чтобы литература отражала жизнь, как он её знает по опыту.
Это стадия пробуждённого интеллекта, и в наших историях должны быть удовлетворены как интеллект, так и воображение. В начале этой стадии мы восхищаемся «Робинзоном Крузо»; мы с жадностью читаем множество приключенческих историй и несколько так называемых исторических романов; но в каждом случае нас должна увлечь история, мы должны найти героев и «движущиеся происшествия наводнений и полей», которые будоражат наше воображение; и хотя герой и приключение могут быть преувеличены, они должны быть естественными и находиться в рамках правдоподобия. Постепенно элемент приключения или неожиданного происшествия становится всё менее и менее важным, поскольку мы узнаём, что истинная жизнь – это не приключения, а простое, героическое дело труда и долга, ежедневный выбор между добром и злом. Жизнь – теперь самое реальное в мире – не жизнь королей, героев или сверхчеловеческих существ, а жизнь отдельного человека с её борьбой, искушениями, триумфами и неудачами, подобной нашей собственной; и любое произведение, правдиво отображающее жизнь, становится интересным. Итак, мы отбрасываем приключенческий роман и обращаемся к роману. Ведь роман – это художественное произведение, в котором воображение и интеллект объединяются, чтобы выразить жизнь в форме истории, а воображение всегда направляется и контролируется интеллектом. Его интересуют главным образом не романтика или приключения, а мужчины и женщины такими, какие они есть; он стремится показать мотивы и факторы, управляющие человеческой жизнью, а также влияние личного выбора на характер и судьбу. Таков истинный роман, и как таковой он открывает более широкое и интересное поле деятельности, чем любой другой вид литературы.
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ РОМАНА. Прежде чем роман достиг своего современного уровня, более или менее искренней попытки выразить человеческую жизнь и характеры, ему пришлось пройти через несколько столетий почти незаметного развития. К ранним предшественникам романа следует отнести сборник повестей, известных как «Греческие романы», датируемый II–VI веками н. э. Это яркие и восхитительные истории об идеальной любви и чудесных приключениях, которые оказали глубокое влияние на развитие любовных романов на протяжении следующего тысячелетия. Вторая группа предшественников – итальянские и испанские пасторальные романы, вдохновлённые «Эклогами» Вергилия.
Они были чрезвычайно популярны в XIV и XV веках, и их влияние позднее прослеживается в «Аркадии» Сидни, которая является лучшим произведением этого типа на английском языке.
Третья и наиболее влиятельная группа предшественников романа – это рыцарские романы, подобные «Смерти Артура» Мэлори. Читая эти прекрасные старинные романы на разных языках, можно заметить, что каждая нация вносит в них некоторые изменения, чтобы они лучше отражали национальные черты и идеалы. Одним словом, старинный роман неизбежно тяготеет к реализму, особенно в Англии, где чрезмерное воображение обуздывается, а герои становятся более человечными. У Мэлори, у неизвестного автора «Сэра Гавейна и Зелёного Рыцаря» и особенно у Чосера мы видим влияние практичного английского ума, придающего этим старинным романам более естественный облик и делающего героев, пусть и отдалённо, напоминающими мужчин и женщин своего времени. «Кентерберийские рассказы», ;;с их увлекательным сюжетом и восхитительно реалистичными персонажами, по крайней мере, намекают на связный сюжет, главная цель которого – отразить жизнь как она есть.
В елизаветинскую эпоху идея романа становится более определенной. В «Аркадии» Сидни (1580), рыцарском романе, пасторальная обстановка по крайней мере в целом верна природе; наша доверчивость не испытывает, как в старых романах, постоянного появления магии или чудес; и персонажи, хотя и идеализированные до утомления, иногда производят впечатление реальных мужчин и женщин. В «Новой Атлантиде» Бэкона (1627) мы имеем историю открытия мореплавателями неизвестной страны, населенной высшей расой людей, более цивилизованной, чем мы, — идея, которую Мор использовал в своей «Утопии» в 1516 году. Эти две книги не являются ни романами, ни повестями в строгом смысле этого слова, а исследованиями социальных институтов. Они используют связанную историю как средство преподавания моральных уроков и осуществления необходимых реформ; и это ценное предложение было принято многими нашими современными писателями в так называемых проблемных романах и романах цели.
Ближе к истинному роману романтическая история Лоджа «Розалинда», использованная Шекспиром в пьесе «Как вам это понравится». Она была создана по образцу итальянской новеллы, или рассказа, который стал очень популярен в Англии в елизаветинскую эпоху. В ту же эпоху в Англии появился испанский плутовской роман (от picaro — плут или мошенник), который поначалу был своего рода бурлеском на средневековый роман и брал своим героем не рыцаря, а какого-нибудь низкого негодяя или изгоя, сопровождавшего его через долгую карьеру скандалов и злодейств. Одним из самых ранних образцов этого плутовского романа на английском языке является «Неудачливый путник, или Жизнь Джека Уилтона» Нэша (1594), который также является предшественником исторического романа, поскольку действие происходит во время великолепной встречи Генриха VIII с королём Франции на Поле Золотой Парчи. Во всех этих рассказах и плутовских романах акцент делался не столько на жизни и характере героя, сколько на его приключениях; и интерес заключался главным образом в том, чтобы гадать, что же будет дальше и чем закончится сюжет. Этот же приём используется во всех бульварных романах, и это особенно мучительно для многих современных писателей.
Этот чрезмерный интерес к приключениям или событиям ради них самих, а не из-за их воздействия на характеры, и отличает современную приключенческую историю от настоящего романа.
В пуританскую эпоху мы ещё ближе подходим к современному роману, особенно в творчестве Баньяна; и поскольку пуритане всегда делали акцент на характерах, истории, как представляется, имели определённую моральную цель. «Путешествие пилигрима» Баньяна (1678) отличается от «Королевы фей» и от всех других средневековых аллегорий в том важном отношении, что персонажи, далекие от бескровных абстракций, — всего лишь тонко замаскированные мужчины и женщины. Действительно, многие современные люди, читая историю Христианина, находят в ней отражение своей собственной жизни и опыта. В «Жизни и смерти мистера Бэдмена» (1682) мы имеем ещё одно и даже более реалистичное исследование человека, каким он был во времена Баньяна. Эти две яркие фигуры, Христианин и мистер Бэдмен, принадлежат к числу величайших персонажей английской художественной литературы. Прекрасная работа Баньяна — его проницательность, описание характеров и акцент на моральных последствиях индивидуальных поступков — была продолжена Аддисоном и Стилом примерно тридцать лет спустя. Образ сэра Роджера де Коверли — подлинное отражение английской сельской жизни XVIII века; а благодаря бытовым зарисовкам Стила в «Тэтлере», «Спектейторе» и «Гардиан» (1709–1713) мы определённо пересекаем границу, лежащую за пределами любовного романа, и вступаем в область изучения характеров, где зарождается роман.
ОТКРЫТИЕ СОВРЕМЕННОГО РОМАНА.
=============================
Несмотря на столь долгую историю художественной литературы, на которую мы обратили внимание, можно с уверенностью сказать, что до публикации «Памелы» Ричардсона в 1740 году в литературе не появлялось ни одного настоящего романа. Под настоящим романом мы подразумеваем просто художественное произведение, повествующее историю простой человеческой жизни, наполненной эмоциями, и чья увлекательность основана не на событиях или приключениях, а на правдивости природы. Ряд английских романистов — Голдсмит, Ричардсон, Филдинг, Смоллетт, Стерн — похоже, ухватились за идею отражения жизни такой, какая она есть, в форме рассказа, и развивали её одновременно.
Результатом стало необычайное пробуждение интереса, особенно среди людей, которые прежде никогда не интересовались литературой. Следует помнить, что в предыдущие периоды число читателей было сравнительно невелико, и что, за исключением нескольких писателей, таких как Лэнгленд и Баньян, авторы писали в основном для высших классов. В XVIII веке распространение образования и появление газет и журналов привели к колоссальному увеличению числа читателей; и в то же время средний класс занял ведущее место в жизни и истории Англии. Эти новые читатели и этот новый, могущественный средний класс не были ограничены классическими традициями. Их мало волновало мнение доктора Джонсона и знаменитого Литературного клуба; и, если они вообще читали художественную литературу, их, по-видимому, мало интересовали преувеличенные любовные истории, невероятные герои и плутовские истории об интригах и злодействах, которые так интересовали высшие классы. Требовался новый тип литературы, который должен был выразить новый идеал XVIII века, а именно ценность и важность индивидуальной жизни. Так родился роман, выражающий, хотя и по-другому, те же идеалы личности и достоинства общей жизни, которые позднее были провозглашены в годы Американской и Французской революций и с радостью встречены поэтами романтического возрождения. Рассказывать людям не о рыцарях, королях или типажах героев, а о них самих в облике простых мужчин и женщин, об их собственных мыслях, мотивах и борьбе, о последствиях поступков для их собственных характеров – такова была цель наших первых романистов. Жадность, с которой их главы читали в Англии, и скорость, с которой их произведения копировались за рубежом, показывают, насколько сильно новое открытие привлекло читателей повсюду.
Прежде чем рассмотреть творчество этих писателей, которые первыми разработали современный роман, мы должны взглянуть на творчество пионера, Даниэля Дефо, которого мы относим к ранним романистам по той простой причине, что не знаем, как еще его классифицировать.
ДАНИЭЛЬ ДЕФО (1661(?)-1731)
==========================
Дефо часто приписывают открытие современного романа; но заслуживает ли он этой чести — вопрос открытый. Даже беглое прочтение «Робинзона Крузо» (1719), который обычно возглавляет список современной художественной литературы, показывает, что эта захватывающая история — в основном приключенческая история, а не исследование человеческого характера, как, вероятно, задумывал Дефо. Молодежь все еще читают ее как дешевый роман, пропуская морализаторские отрывки и спеша к новым приключениям; но они редко ценят превосходные зрелые причины, по которым дешевый роман изгоняется в тайное место в сеновале, в то время как Крузо гордо висит на рождественской елке или занимает почетное место на семейной книжной полке. «Явление миссис Вил», «Мемуары кавалера» и «Дневник чумного года» Дефо представляют собой такую ;;смесь фактов, вымысла и доверчивости, что они не поддаются классификации; В то время как другие так называемые «романы», такие как «Капитан Синглтон», «Молль Флендерс» и «Роксана», представляют собой лишь плутовские истории, с изрядной долей неестественного морализаторства и покаяния, добавленного для пуританского эффекта. В «Крузо» Дефо поднял реалистический приключенческий сюжет на очень высокую ступень развития; но его произведения вряд ли заслуживают называться подлинными романами, которые должны подчинять события достоверному изображению человеческой жизни и характеров.
ЖИЗНЬ.
=====
Дефо был сыном лондонского мясника по имени Фо и носил свою фамилию до сорока лет, когда он добавил к ней аристократическую приставку, с которой мы уже знакомы. События его насыщенной семидесятилетней жизни, за которые он прошёл через все крайности – от бедности к богатству, от преуспевающего кирпичника до нищего журналиста, от Ньюгейтской тюрьмы до огромной популярности и королевской милости, – в деталях довольно туманны; но четыре факта ясно выделяются, помогая читателю понять характер его творчества.
Во-первых, Дефо был мастером на все руки, а также писателем; его интерес в основном был сосредоточен на рабочем классе, и, несмотря на многие сомнительные методы, он, по-видимому, постоянно стремился к просвещению и возвышению простых людей. Это отчасти объясняет огромную популярность его произведений и тот факт, что литераторы критиковали их как…«годен только для кухни».
Во-вторых, он был радикальным нонконформистом в религии и, по замыслу отца, должен был стать независимым священником. Им овладело пуританское рвение к реформам, и он пытался своим пером делать то же, что Уэсли делал своими проповедями, не обладая, однако, ни в малейшей степени его искренностью и целеустремленностью. Это рвение к реформам характерно для всех его многочисленных трудов и объясняет морализаторство, которое можно встретить повсюду. В-третьих, Дефо был журналистом и памфлетистом, обладавшим репортерским взглядом на живописность и инстинктом газетчика, способным создать «хорошую историю». Он написал огромное количество памфлетов, стихов и журнальных статей; руководил несколькими газетами (одна из самых популярных, «Ревью», издавалась в тюрьме), и тот факт, что они часто резко расходились во мнениях по одному и тому же вопросу, оставался практически незамеченным. Действительно, статьи Дефо были настолько необычайно интересными и убедительными, что его, как правило, умудрялись использовать в своих работах правящие партии, будь то виги или тори. Эта долгая журналистская карьера, продолжающаяся полвека, объясняет его прямой, простой стиль повествования, который и по сей день поражает нас своей глубокой реалистичностью. Гению Дефо мы также обязаны двумя открытиями: «интервью» и передовой статьей, которые до сих пор ежедневно публикуются в наших лучших газетах.
Четвёртый факт, который следует помнить: Дефо был знаком с тюремной жизнью, и потому вешает басню. В 1702 году Дефо опубликовал замечательный памфлет под названием «Кратчайший путь к диссентерам», в котором поддерживал претензии свободных церквей против «высоких полётов», то есть тори и англиканцев. В мрачном юморе, напоминающем «Скромное предложение» Свифта, Дефо выступал за повешение всех священников-диссентеров и отправку всех членов свободных церквей в изгнание; и эта сатира была настолько яростно реалистичной, что и диссентеры, и тори восприняли автора буквально. Дефо предстал перед судом, был признан виновным в подстрекательской клевете и приговорён к штрафу, трём дням пребывания у позорного столба и тюремному заключению. Едва приговор был оглашён, как Дефо написал свой «Гимн позорному столбу»:
Да здравствует иероглифическая государственная машина,
придуманная для наказания фантазии, —
сборник виршей, высмеивающих его обвинителей, которые Дефо, обладая острым чувством рекламы, разбрасывал по всему Лондону. Толпы собирались, чтобы приветствовать его у позорного столба; и, видя, что Дефо наживает популярность на преследованиях, враги отправили его в Ньюгейтскую тюрьму. Он также использовал этот опыт, издавая популярную газету и знакомясь с мошенниками, пиратами, контрабандистами и прочими изгоями, о каждом из которых была «хорошая история», которую он мог использовать в дальнейшем. После освобождения из тюрьмы в 1704 году он использовал свои знания о преступниках в дальнейшем и поступил на государственную службу в качестве своего рода шпиона или агента секретной службы. Его тюремный опыт и дополнительные знания о преступниках, полученные за более чем двадцатилетнюю шпионскую деятельность, легли в основу его многочисленных историй о ворах и пиратах, Джонатане Уайлде и капитане Эвери, а также его поздних романов, которые повествуют почти исключительно о злодеях и изгоях.
Когда Дефо было почти шестьдесят, он обратился к прозе и написал великий труд, благодаря которому его и помнят. «Робинзон Крузо» мгновенно стал популярным, и автор прославился по всей Европе. Вскоре появились и другие его произведения, и Дефо заработал достаточно денег, чтобы уйти в отставку в Ньюингтоне и жить в достатке; но не праздно, ведь его деятельность в области художественной литературы может сравниться только с деятельностью Вальтера Скотта. Так, в 1720 году появились «Капитан Синглтон», «Дункан Кэмпбелл» и «Мемуары кавалера»; в 1722 году — «Полковник Джек», «Молль Флендерс» и поразительно реалистичный «Дневник чумного года». Таким образом, список растёт с поразительной быстротой, завершаясь «Историей дьявола» в 1726 году.
В последний год тайная связь Дефо с правительством стала известна, и в печати поднялся вопль негодования, в один миг уничтоживший популярность, которую он стяжал всей жизнью, полной интриг и труда. Он бежал из дома в Лондон, где и скончался в безвестности в 1731 году, скрываясь от реальных и мнимых врагов.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕФО.
==================
Во главе списка стоит «Робинзон Крузо» (1719–1720) – одна из немногих книг в литературе, популярность которой не ослабевает уже почти два столетия.
История основана на опыте Александра Селькирка, или Селькирка, который был высажен на острове Хуан-Фернандес у берегов Чили и жил там в одиночестве в течение пяти лет. По возвращении в Англию в 1709 году опыт Селькирка стал известен, и Стил опубликовал отчет о нем в The Englishman, не привлекая, однако, широкого внимания. То, что Дефо использовал историю Селькирка, практически несомненно; но со свойственной ему двуличностью он утверждал, что написал Крузо в 1708 году, за год до возвращения Селькирка. Как бы то ни было, сама история достаточно реальна, чтобы сойти прямо из судового журнала моряка. Дефо, как показано в его «Дневнике чумного года» и «Воспоминаниях кавалера», обладал искусством описывать вещи, которых он никогда не видел, с точностью очевидца.
Очарование рассказа – в его глубокой реальности, в череде мыслей, чувств, событий, в которых каждый читатель признает абсолютную правдивость. На первый взгляд может показаться, что один человек на необитаемом острове не может дать материала для длинного рассказа; но по мере чтения мы с изумлением осознаем, что каждая, даже самая незначительная мысль и действие – спасение груза с потерпевшего крушение судна, подготовка к обороне от воображаемых врагов, сильное волнение при обнаружении следа на песке – это запись того, что делал бы и чувствовал бы сам читатель, оказавшись один в таком месте. Долгий и разнообразный опыт Дефо теперь сослужил ему хорошую службу; более того, он «был единственным литератором своего времени, которого можно было бы выбросить на необитаемый остров, не теряя при этом понимания, что делать»; и он настолько точно ставит себя на место своего героя, что повторяет как его промахи, так и его победы. Итак, какой читатель, следя за героем Дефо в течение томительных, лихорадочных месяцев строительства огромной лодки, слишком большой для спуска на воду в одиночку, не вспомнит какого-нибудь мальчишку, который провёл много бурных дней в сарае или подвале, строя лодку или собачью будку, и который, когда работа была покрашена и закончена, обнаружил, что она на целый фут шире двери, и был вынужден разбить её вдребезги? Эта абсолютная естественность характеризует всю историю.
Это также исследование человеческой воли – терпения, стойкости и неукротимого саксонского духа, преодолевающего любые препятствия; и именно это заставило Руссо рекомендовать «Робинзона Крузо» как лучший трактат о воспитании, чем всё, что когда-либо написали Аристотель или современные авторы. И это подводит нас к самому важному в шедевре Дефо, а именно к тому, что герой олицетворяет всё человеческое общество, делая своими руками всё то, что, благодаря разделению труда и требованиям современной цивилизации, теперь делают многие разные рабочие. Таким образом, он является прообразом всего цивилизованного рода людей.
В остальных произведениях Дефо, число которых превышает двести, наблюдается поразительное разнообразие; но все они отмечены одним и тем же простым повествовательным стилем и одним и тем же глубоким реализмом. Наиболее известны «Дневник чумного года», в котором подробно описаны ужасы страшной эпидемии; «Мемуары кавалера», настолько реалистичные, что Чатем цитировал их как исторический источник в парламенте; и несколько плутовских романов, таких как «Капитан Синглтон», «Полковник Джек», «Молль Флендерс» и «Роксана». Последнее произведение некоторые критики отводят весьма высокое место в реалистической литературе, но, как и три других, и как второстепенные рассказы Дефо о Джеке Шеппарде и Картуше, это неприятное исследование порока, завершающееся вынужденным и неестественным раскаянием.
СЭМЮЭЛ РИЧАРДСОН (1689-1761)
============================
Ричардсону принадлежит честь создания первого современного романа. Он был сыном лондонского столяра, который из соображений экономии поселился в каком-то малоизвестном городке в Дербишире, где в 1689 году и родился Сэмюэл. Мальчик получил очень скромное образование, но обладал природным талантом к письму, и даже в детстве мы видим, как работницы часто нанимали его писать любовные письма. Этот ранний опыт, в сочетании с его любовью к обществу «дорогих дам», а не мужчин, дал ему то глубокое знание сердец сентиментальных и необразованных женщин, которое прослеживается во всех его произведениях. Более того, он был тонким наблюдателем нравов, и его удивительно точные описания часто заставляют нас слушать, даже когда он бывает очень скучен. В семнадцать лет он отправился в Лондон и освоил ремесло печатника, которым и занимался до конца своей жизни. В пятьдесят лет он имел скромную репутацию автора изящных посланий, и эта репутация побудила некоторых издателей обратиться к нему с предложением написать серию «Знакомых писем», которые могли бы послужить образцами для людей, не привыкших к письму. Ричардсон с радостью принял предложение и, к счастью, вдохновился идеей сделать так, чтобы эти письма рассказывали связную историю жизни девушки. Дефо рассказал приключенческую историю о жизни человека на необитаемом острове, но Ричардсон хотел рассказать историю внутреннего мира девушки среди соседей-англичан. Сейчас это звучит достаточно просто, но это ознаменовало эпоху в истории литературы. Как и любое другое великое и простое открытие, это заставляет нас задаться вопросом, почему кто-то не додумался до этого раньше.
РОМАНЫ РИЧАРДСОНА.
====================
Плодом вдохновения Ричардсона стала «Памела, или Вознаграждённая добродетель» – бесконечная серия писем[216], повествующая об испытаниях, невзгодах и счастливом замужестве слишком уж милой юной девицы, опубликованная в четырёх томах в 1740–1741 годах. Её главная слава заключается в том, что это наш первый роман в современном понимании. Помимо этого важного факта, если рассматривать её исключительно как роман, она сентиментальна, высокопарна и утомительна. Успех романа в своё время был огромен, и Ричардсон начал новую серию писем (он не умел рассказывать историю иначе), которые занимали его часы досуга в течение следующих шести лет.
Результатом стала «Кларисса, или История молодой леди», опубликованная в восьми томах в 1747–1748 годах. Это был ещё один, несколько более удачный, сентиментальный роман, принятый с огромным энтузиазмом. Из всех героинь Ричардсона Кларисса — самая человечная. В своих сомнениях и угрызениях совести, и особенно в горьком горе и унижении, она — настоящая женщина, в резком контрасте с механическим героем, Лавлейсом, который лишь иллюстрирует неспособность автора изобразить мужской характер. Драматизм в этом романе силён и усиливается письмами, которые позволяют читателю ближе познакомиться с персонажами и увидеть жизнь с их разных точек зрения. Говорят, Маколей, на которого «Кларисса» произвела глубокое впечатление, заметил, что, если бы роман был утерян, он мог бы восстановить его почти полностью по памяти.
Ричардсон отвернулся от своих героинь из среднего класса и через пять-шесть лет завершил новую серию писем, в которых попытался рассказать историю мужчины и аристократа. Результатом стал роман «Сэр Чарльз Грандисон» (1754) в семи томах, герой которого должен был стать образцом аристократических манер и добродетелей для представителей среднего класса, которые в основном и составляли читательскую аудиторию писателя. Ричардсон, начавший «Памелу» с намерения научить своих слушателей писать, закончил с осознанной целью научить их жить; и в большинстве своих произведений его главной целью, по его собственным словам, было привить добродетель и хорошее поведение. Поэтому его романы страдают как от его цели, так и от его собственных ограничений. Несмотря на скучное морализаторство и другие недостатки, Ричардсон в этих трёх книгах принёс литературному миру нечто совершенно новое, и мир оценил этот дар. Это была история человеческой жизни, рассказанная изнутри, и её интерес зиждился не на происшествиях или приключениях, а на правде о человеческой природе. В целом, чтение его произведений подобно изучению устаревшей модели парохода с кормовым колесом: оно интересно скорее своими нераскрытыми возможностями, чем своими достижениями.
ГЕНРИ ФИЛДИНГ (1707–1754)
=========================
ЖИЗНЬ.
=====
Если судить только по его способностям, Филдинг был величайшим представителем этой новой группы писателей-романистов и одним из самых талантливых, которых когда-либо создавала наша литература. Он родился в Ист-Стуре, Дорсетшир, в 1707 году. В отличие от Ричардсона, он был хорошо образован, проведя несколько лет в знаменитой Итонской школе и получив степень по литературе в Лейденском университете в 1728 году. Более того, он обладал более глубоким знанием жизни, приобретенным на основе собственного разнообразного и порой бурного опыта. В течение нескольких лет после возвращения из Лейдена он зарабатывал на жизнь ненадежным заработком, сочиняя пьесы, фарсы и буффонады для сцены. В 1735 году он женился на замечательной женщине, образ которой мы видим в двух его героинях, Амелии и Софии Вестерн, и жил расточительно на ее небольшое состояние в Ист-Стуре. Истратив все свои деньги, он вернулся в Лондон и изучал юриспруденцию, зарабатывая на жизнь эпизодическими пьесами и работой в газете. В течение десяти лет, или даже больше, о нём мало что известно, кроме того, что он опубликовал свой первый роман «Джозеф Эндрюс» в 1742 году и что он был назначен мировым судьёй Вестминстера в 1748 году. Оставшиеся годы своей жизни, в которые были написаны его лучшие романы, он посвятил не литературе, а своим обязанностям мирового судьи, и особенно пресечению шаек воров и головорезов, кишащих на улицах Лондона после наступления темноты. Он умер в Лиссабоне, куда отправился поправить здоровье, в 1754 году и похоронен там на английском кладбище. Трогательный рассказ об этом последнем путешествии, а также намёк на щедрость и добросердечие этого человека, несмотря на скандалы и неурядицы его жизни, можно найти в его последнем произведении «Дневник путешествия в Лиссабон».
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ФИЛДИНГА.
======================
Первый роман Филдинга, «Джозеф Эндрюс» (1742), был вдохновлён успехом «Памелы» и начинался как пародия на ложную сентиментальность и условности добродетелей героини Ричардсона. Своим героем он выбрал предполагаемого брата Памелы, который подвергался тем же искушениям, но, вместо того чтобы быть вознагражденным за свою добродетель, был бесцеремонно выброшен любовницей за дверь. На этом пародия заканчивается;
Герой отправляется в путь, и Филдинг совершенно забывает о Памеле, рассказывая о приключениях Джозефа и его спутника, пастора Адамса. В отличие от Ричардсона, который лишён чувства юмора, смягчает слова, морализирует и смакует сентиментальные горести своих героинь, Филдинг прямолинеен, энергичен, уморителен и груб до вульгарности. Он полон жизнерадостности и рассказывает историю бродяжнической жизни не ради морализаторства, как Ричардсон, или для того, чтобы подчеркнуть вынужденное раскаяние, как Дефо, а просто потому, что это ему интересно, и его единственная забота — «высмеять людей над их глупостями». Поэтому его история, хотя и изобилует неприятными эпизодами, в целом оставляет у читателя сильное впечатление реальности.
Поздние романы Филдинга — «Джонатан Уайлд» — история мошенника, напоминающая повествовательный стиль Дефо; «История Тома Джонса, подкидыша» (1749), его лучшее произведение; и «Амелия» (1751) — история хорошей жены, противопоставленной недостойному мужу. Его сила во всех этих произведениях — в энергичных, но грубых фигурах, подобных тем, что изображены на картинах Яна Стена, заполняющих большую часть его страниц; его слабость — в отсутствии вкуса и в скудости воображения или изобретательности, что заставляет его повторять свои сюжеты и события с небольшими вариациями. Пожалуй, самой заметной чертой всех его произведений является искренность. Филдинг любит мужественных мужчин такими, какие они есть, хорошими и плохими, но терпеть не может обман любого рода. В его сатире нет и злобы Свифта, но она тонка, как у Чосера, и добродушна, как у Стила. Он никогда не морализирует, хотя некоторые из его мастерски написанных сцен содержат более глубокий моральный урок, чем у Дефо или Ричардсона; и он никогда не судит даже худших из своих персонажей, не вспомнив о собственной слабости и не умерив свою справедливость милосердием. В целом, хотя многие его произведения, возможно, безвкусны и слишком грубы для приятного или полезного чтения, Филдинга следует считать художником, великим художником реалистической прозы; и продвинутый студент, читающий его, вероятно, согласится с мнением современного критика, что, создавая подлинные портреты мужчин и женщин своего времени, без морализаторства по поводу их пороков и добродетелей, он стал подлинным основоположником современного романа.
СМОЛЛЕТТ И СТЕРН
=================
Тобиас Смоллетт (1721–1771), по-видимому, пытался продолжить дело Филдинга; но ему не хватало его гения, а также его юмора и присущей ему доброты, и поэтому он наполнил свои страницы ужасами и жестокостями, которые иногда принимают за реализм. Смоллетт был врачом с эксцентричными манерами и свирепыми инстинктами, развившими свои неестественные особенности, послужив хирургом на линкоре, где он, по-видимому, перенял все пороки флота и медицинской профессии, которые впоследствии использовал в своих романах.
Его три самых известных произведения — «Родерик Рэндом» (1748), серия приключений, рассказанных героем; «Перегрин Пикль» (1751), в котором он с жестокой прямотой отражает худшие из своих морских приключений; и «Хамфри Клинкер» (1771), его последнее произведение, повествующее о безобидных приключениях валлийской семьи во время путешествия по Англии и Шотландии. Только это последнее произведение можно читать, не вызывая у читателей глубокого отвращения. Не обладая особым талантом, он моделирует свои романы по образцу Дон Кихота, и в результате получается просто серия вульгарных приключений, характерных для плутовского романа его эпохи. Если бы он не подражал «Всяк в своем нраве» Джонсона, его вряд ли бы назвали среди наших писателей-фантастов; но, ухватившись за какую-нибудь гротескную привычку или особенность и создав из нее характер — как, например, коммодор Траньон в «Перегрине Пикле», Мэтью Брэмбл в «Хамфри Клинкере» и Боулинг в «Родерике Рэндоме», — он заложил основу для той преувеличенности в изображении человеческих странностей, которая находит свое кульминацию в карикатурах Диккенса.
Лоуренса Стерна (1713–1768) сравнивали с «маленьким бронзовым сатиром древности, в чьём пустом теле хранились изысканные ароматы». Это верно, если говорить о сатире; более дряхлую, некрасивую личность трудно найти. Единственный вопрос в этом сравнении – характер этих ароматов, а это дело вкуса. В своём творчестве он – полная противоположность Смоллетту: последний склонен к грубой вульгарности, которую часто принимают за реализм; первый – к капризам, причудам и сентиментальным слёзам, которые часто лишь скрывают насмешку над человеческим горем и жалостью.
Две книги, по которым запомнился Стерн, – это «Тристрам Шенди» и «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии». Их называют романами по той простой причине, что мы не знаем, как их ещё назвать. Первый роман был начат, по его собственным словам, «без малейшего представления о том, чем всё обернётся»; его девять томов, издававшихся с перерывами с 1760 по 1767 год, развивались самым бесцельным образом, описывая жизнь эксцентричной семьи Шенди; и книга так и не была закончена. Её сила заключается главным образом в блестящем стиле, самом замечательном для своего времени, и в необычных персонажах, таких как дядя Тоби и капрал Трим, которые, при всей своей эксцентричности, настолько очеловечены гением автора, что по праву занимают место среди величайших «творений» нашей литературы. «Сентиментальное путешествие» – любопытное сочетание прозы, путевых заметок, разрозненных эссе на разные темы – все отмечены одним и тем же блеском стиля и несут на себе печать ложного отношения Стерна ко всему в жизни. Многие из лучших отрывков были либо адаптированы, либо целиком заимствованы у Бёртона, Рабле и десятка других писателей; так что, читая Стерна, никогда не можешь быть уверен, насколько он сам является автором, хотя отпечаток его гротескного гения виден на каждой странице.
ПЕРВЫЕ РОМАНИСТЫ И ИХ ТВОРЧЕСТВО.
=================================
С публикацией «Викария Уэйкфилда» Голдсмита в 1766 году первая серия английских романов достойно завершилась. Об этом произведении, с его изобилием простых, уютных сентиментов, сосредоточенных вокруг семейной жизни как самого священного из англосаксонских институтов, мы уже говорили. Если не считать «Робинзона Крузо» как приключенческого романа, «Викарий Уэйкфилда» — единственный роман этого периода, который можно смело рекомендовать всем читателям, как дающий превосходное представление о новом литературном жанре, который, возможно, был более замечателен своими обещаниями, чем своими достижениями. За короткий промежуток в двадцать пять лет внезапно появилась и расцвела новая форма литературы, которая оказала влияние на всю Европу почти на столетие и до сих пор составляет большую часть нашего литературного наслаждения. Каждый последующий писатель привносил в свое произведение что-то новое: Филдинг привносил животную энергию и юмор в анализ человеческого сердца Ричардсона, Стерн добавлял блеска, а Голдсмит подчеркивал чистоту и честные домашние чувства, которые по-прежнему являются величайшей движущей силой среди людей.
Итак, эти ранние мастера были подобны людям, вырезающим идеальную камею с обратной стороны. Один работает над профилем, другой — над глазами, третий — над ртом и тонкими чертами лица; и только когда работа завершена и камея повернута, мы видим законченное человеческое лицо и читаем его значение. Такова, в притче, история английского романа.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА.
=====================================
Рассматриваемый нами период охватывает период между Английской революцией 1688 года и началом Французской революции 1789 года. Исторически этот период знаменателен принятием Билля о правах в 1689 году. Этот знаменитый законопроект стал третьим и последним шагом в установлении конституционного правления: первым шагом была Великая хартия вольностей (1215 г.), а вторым – Петиция о праве (1628 г.). Современная форма кабинетного правления была установлена ;;в правление Георга I (1714–1727 гг.). Внешний престиж Англии укрепился благодаря победам при Мальборо на континенте в войне за испанское наследство; границы империи значительно расширились благодаря Клайву в Индии, Куку в Австралии и на островах Тихого океана, а также победам англичан над французами в Канаде и долине Миссисипи во время Семилетних, или франко-индейских, войн. Политически страна была разделена на вигов и тори: первые добивались большей свободы для народа; вторые поддерживали короля против народного правительства. Продолжающаяся борьба между этими двумя политическими партиями имела прямое (и, как правило, пагубное) влияние на литературу, поскольку многие великие писатели использовались партией вигов или тори для продвижения своих собственных интересов и для высмеивания своих врагов. Несмотря на эту постоянную борьбу партий, век примечателен быстрым социальным развитием, которое вскоре выразило себя в литературе. Клубы и кофейни множились, и общественная жизнь этих клубов привела к лучшим манерам, всеобщему чувству терпимости и особенно к своего рода поверхностной элегантности, которая проявляется в большей части прозы и поэзии того периода. С другой стороны, моральный уровень нации был очень низким; банды хулиганов заполонили городские улицы после наступления темноты;
Взяточничество и коррупция были нормой в политике, а пьянство было ужасающе распространено среди всех сословий. Деградировавшая раса йеху, описанная Свифтом, отражает деградацию, которую можно было наблюдать во множестве лондонских салунов. Этот низкий уровень морали подчёркивает важность великого методистского возрождения при Уайтфилде и Уэсли, начавшегося во второй четверти XVIII века.
Литература этого века необычайно сложна, но мы можем разделить её на три основные группы: царство так называемого классицизма, возрождение романтической поэзии и начало современного романа. Первая половина века, особенно первая, – это век прозы, во многом благодаря тому, что практические и социальные интересы века требовали выражения. Современные газеты, такие как «Chronicle», «Post» и «Times», и литературные журналы, такие как «Tatler» и «Spectator», появившиеся в этот век, оказали значительное влияние на развитие практичного прозаического стиля. Поэзия первой половины века, как это было представлено в Поупе, была отточенной, лишенной фантазии, формальной; закрытый двустих был повсеместно распространен, вытесняя все другие формы стиха. И проза, и поэзия слишком часто были сатирическими, а сатира не склонна создавать высокую литературу. Эти тенденции в поэзии были смягчены во второй половине века возрождением романтической поэзии.
В нашем исследовании мы отметили:
(1) Августовский или классический век; значение классицизма; жизнь и творчество Александра Поупа, величайшего поэта этой эпохи; Джонатана Свифта, сатирика; Джозефа Аддисона, эссеиста; Ричарда Стила, который был гением журналов Tatler и Spectator; Сэмюэля Джонсона, который на протяжении почти полувека был диктатором английской литературы; Джеймса Босуэлла, подарившего нам бессмертную «Жизнь Джонсона»; Эдмунда Берка, величайшего из английских ораторов; и Эдварда Гиббона, историка, известного своим трудом «Упадок и разрушение Римской империи».
(2) Возрождение романтической поэзии; значение романтизма; жизнь и творчество Томаса Грея; Оливера Голдсмита, известного поэта, драматурга и романиста; Уильяма Купера; Роберта Бернса, величайшего из шотландских поэтов; Уильяма Блейка, мистика;
и второстепенные поэты раннего романтического движения — Джеймс Томсон, Уильям Коллинз, Джордж Крэбб, Джеймс Макферсон, автор поэм Оссиана, Томас Чаттертон, юноша, который создал «Записки Роули», и Томас Перси, чья работа в области литературы заключалась в сборе старинных баллад, которые он называл «Реликвиями древнеанглийской поэзии», и в переводе историй скандинавской мифологии в своих «Северных древностях».
(3) Первые английские романисты; значение и история современного романа; жизнь и творчество Даниэля Дефо, автора «Робинзона Крузо», которого вряд ли можно назвать романистом, но которого мы относим к пионерам; а также романы Ричардсона, Филдинга, Смолетта, Стерна и Голдсмита.
ГЛАВА 10
========
ЭПОХА РОМАНТИЗМА (1800-1850)
============================
ВТОРОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПЕРИОД АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
===============================================
Первая половина XIX века отмечена триумфом романтизма в литературе и демократии в государственном управлении; и эти два движения настолько тесно связаны во многих странах и в столь многие исторические периоды, что возникает вопрос, нет ли между ними некой причинно-следственной связи. Подобно тому, как мы понимаем огромное стимулирующее влияние пуританизма на английскую свободу, вспоминая, что простые люди начали читать, и что их книгой была Библия, так и эту эпоху народного правления мы можем понять, вспомнив, что главной темой романтической литературы было благородство простых людей и ценность личности. Читая сейчас краткий отрезок истории, лежащий между Декларацией независимости (1776) и Законом о реформе Англии 1832 года, мы становимся свидетелями столь мощных политических потрясений, что «эпоха революции» — единственное название, которым мы можем её адекватно охарактеризовать. Её великие исторические движения становятся понятны только тогда, когда мы читаем то, что было написано в этот период; Ведь Французская революция и Американское Содружество, а также установление истинной демократии в Англии посредством Закона о реформе, были неизбежным результатом идей, быстро распространившихся в литературе по всему цивилизованному миру. Свобода – это, по сути, идеал; и этот идеал – прекрасный, вдохновляющий, притягательный, как знамя на ветру – неизменно поддерживался в умах людей множеством книг и памфлетов, таких разных, как «Стихи» Бернса и «Права человека» Томаса Пейна. Все они с жадностью читались простыми людьми, все провозглашали достоинство простой жизни и все выражали один и тот же страстный протест против любой формы классового или кастового угнетения.
Сначала мечта, идеал в какой-то человеческой душе; затем написанное слово, которое провозглашает ее и поражает другие умы ее истиной и красотой; затем объединенные и решительные усилия людей, направленные на то, чтобы сделать мечту реальностью, — вот, по-видимому, справедливая оценка той роли, которую играет литература, даже в нашем политическом прогрессе.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.
=====================
Рассматриваемый нами период начинается во второй половине правления Георга III и заканчивается восшествием на престол королевы Виктории в 1837 году.
Когда туманным утром в ноябре 1783 года король Георг вошел в Палату лордов и дрожащим голосом признал независимость Соединенных Штатов Америки, он неосознанно провозгласил триумф того свободного правительства свободных людей, которое было идеалом английской литературы на протяжении более тысячи лет; хотя только в 1832 году, когда Билль о реформе стал законом страны, сама Англия усвоила урок, преподанный ей Америкой, и стала демократией, о которой всегда мечтали ее писатели.
Полвека между этими двумя событиями – это время великих потрясений, но в то же время устойчивого прогресса во всех сферах английской жизни. Центром политических волнений стала Французская революция, это ужасное восстание, провозгласившее естественные права человека и отмену классовых различий. Его влияние на весь цивилизованный мир не поддается исчислению. В Англии множились патриотические клубы и общества, все из которых утверждали доктрину Свободы, Равенства, Братства – лозунги Революции. Молодая Англия, возглавляемая Питтом-младшим, приветствовала новую Французскую республику и предложила ей дружбу; старая Англия, которая не прощает никаких революций, кроме своей собственной, с ужасом смотрела на беспорядки во Франции и, введенная в заблуждение Берком и дворянами королевства, вынудила две страны вступить в войну. Даже Питт поначалу видел в этом благословение; потому что внезапное рвение к борьбе с чужой нацией — которое из-за какого-то ужасного извращения обычно называют патриотизмом — может отвлечь мысли людей от их собственных дел и обратить их на дела соседей и таким образом предотвратить угрозу революции дома.
Причины этой надвигающейся революции были не политическими, а экономическими. Благодаря изобретению стали и машин, а также монополии на транспортную торговлю, Англия превратилась в мастерскую мира. Её богатство превзошло самые смелые её мечты; но неравномерное распределение этого богатства было зрелищем, способным заставить ангелов плакать. Изобретение машин поначалу лишило работы тысячи квалифицированных рабочих; чтобы защитить немногих земледельцев, были введены высокие пошлины на кукурузу и пшеницу, и хлеб поднялся до голодных цен именно тогда, когда у рабочих было меньше всего денег, чтобы его оплатить.
Последовала любопытная картина. В то время как Англия богатела и тратила огромные суммы на содержание своей армии и субсидирование союзников в Европе, а дворяне, землевладельцы, фабриканты и купцы жили во всё большей роскоши, множество квалифицированных рабочих требовало работы. Отцы отправляли жён и маленьких детей на рудники и фабрики, где шестнадцати часов работы едва хватало на пропитание; и в каждом крупном городе бушевали толпы, состоявшие преимущественно из голодных мужчин и женщин. Именно это невыносимое экономическое положение, а не какая-либо политическая теория, как предполагал Берк, создало опасность новой английской революции.
Только помня об этих условиях, мы можем понять две книги – «Богатство народов» Адама Смита и «Права человека» Томаса Пейна, – которые едва ли можно считать литературой, но которые оказали огромное влияние в Англии. Смит был шотландским мыслителем, отстаивавшим доктрину о том, что труд – единственный источник богатства нации, и что любая попытка принудить труд к неестественному труду или помешать ему с помощью покровительственных пошлин свободно получать сырье для своей промышленности несправедлива и разрушительна. Пейн представлял собой любопытное сочетание Джекила и Хайда: поверхностный и ненадежный человек, но страстно преданный свободе народа. Его «Права человека», опубликованные в Лондоне в 1791 году, были подобны лирическому выкрику Бернса против институтов, угнетающих человечество. Опубликованная вскоре после падения Бастилии, она подлила масла в огонь, разгоревшийся в Англии после Французской революции. Автора выслали из страны на том странном основании, что он представлял угрозу английской конституции, но это произошло только после того, как его книга получила широкую продажу и влияние.
Все эти опасности, реальные и мнимые, миновали, когда Англия отвернулась от дел Франции, чтобы улучшить своё собственное экономическое положение. Долгая континентальная война завершилась свержением Наполеона при Ватерлоо в 1815 году; и Англия, значительно укрепив свой престиж за рубежом, обратилась к реформам внутри страны. Ликвидация африканской работорговли; смягчение чудовищно несправедливых законов, которые относили к одной категории бедных должников и мелких преступников;запрет детского труда; свобода печати; расширение избирательного права для мужчин; отмена ограничений для католиков в парламенте; учреждение сотен народных школ под руководством Эндрю Белла и Джозефа Ланкастера — вот лишь некоторые из реформ, знаменующих собой прогресс цивилизации за полвека. Когда Англия в 1833 году провозгласила освобождение всех рабов во всех своих колониях, она, сама того не подозревая, провозгласила своё окончательное освобождение от варварства.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭПОХИ.
==================================
Чрезвычайно интересно наблюдать, как литература поначалу отражала политические потрясения того времени; а затем, когда потрясения утихли и Англия начала масштабную реформаторскую работу, в ней внезапно пробудился новый творческий дух, который проявился в поэзии Вордсворта, Кольриджа, Байрона, Шелли, Китса и в прозе Скотта, Джейн Остин, Лэмба и Де Квинси – замечательной группы писателей, чей патриотический энтузиазм напоминает эпоху елизаветинской монархии, а гений сделал их эпоху известной как второй творческий период нашей литературы. Так, в ранние годы, когда старые институты, казалось, рушились вместе с Бастилией, Кольридж и Саути сформулировали свой юношеский проект «Пантисократии на берегах Саскуэханны» – идеального государства, в котором принципы утопии Мора должны были быть воплощены в жизнь. Даже Вордсворт, охваченный политическим энтузиазмом, мог писать:
Блаженством было жить в тот рассвет,
Но быть молодым – это было настоящим раем.
Суть романтизма, как следует помнить, заключалась в том, что литература должна отражать всё спонтанное и естественное в природе и человеке, и быть свободной следовать собственной фантазии по-своему. Мы уже отмечали эту особенность в творчестве елизаветинских драматургов, которые следовали своему гению, вопреки всем законам критики. У Кольриджа мы видим эту независимость, выраженную в «Кубла-хане» и «Старом мореходе», двух картинах-мечтах: одна – о многолюдном Востоке, другая – об одиноком море. У Вордсворта эта литературная независимость вела его к внутренней сути обыденных вещей. Следуя своему инстинкту, как и Шекспир, он тоже
Находит языки на деревьях, книги в журчащих ручьях,
Проповеди в камнях и добро во всём.
И поэтому, больше, чем любой другой писатель того времени, он наделяет обыденную жизнь природы и души простых мужчин и женщин величественным смыслом. Эти два поэта, Кольридж и Вордсворт, лучше всего представляют романтический гений своей эпохи, хотя Скотт имел более широкую литературную известность, а Байрон и Шелли – более широкую аудиторию.
Вторая характерная черта этого века заключается в том, что он является подчеркнуто поэтическим веком. Предыдущий век, с его практическим взглядом на жизнь, был в основном веком прозы; но теперь, как и в елизаветинскую эпоху, молодые энтузиасты обращаются к поэзии так же естественно, как счастливый человек к пению. Слава века — в поэзии Скотта, Вордсворта, Кольриджа, Байрона, Шелли, Китса, Мура и Саути. Из прозаических произведений только произведения Скотта получили широкое распространение, хотя эссе Чарльза Лэмба и романы Джейн Остин постепенно завоевали для своих авторов прочное место в истории нашей литературы. Кольридж и Саути (которые вместе с Вордсвортом образуют трио так называемых поэтов Озера) писали гораздо больше прозы, чем поэзии; а проза Саути намного лучше его стихов. Дух того времени, столь отличного от нашего, был свойственен тому, что Саути мог сказать: чтобы заработать денег, он писал стихами «то, что в противном случае было бы лучше написать прозой».
Именно в этот период женщина впервые заняла важное место в нашей литературе. Вероятно, главная причина этого интересного явления кроется в том, что женщине впервые был предоставлен хоть какой-то шанс получить образование, войти в интеллектуальную жизнь человечества; и, как всегда бывает, когда женщине предоставляется хоть сколько-нибудь справедливая возможность, она блестяще на неё откликнулась. Второстепенную причину можно найти в самой природе эпохи, которая была чрезвычайно эмоциональной. Французская революция потрясла всю Европу до глубины души, и в течение следующего полувека каждое крупное движение в литературе, как в политике, так и в религии, было отмечено сильными эмоциями, что особенно заметно на фоне холодного, формального, сатирического духа начала XVIII века. Поскольку женщина по природе более эмоциональна, чем мужчина, вполне возможно, что дух этой эмоциональной эпохи привлёк её и дал ей возможность выразить себя в литературе.
Поскольку все сильные эмоции склонны к крайностям, эта эпоха породила новый тип романа, который сейчас кажется довольно истеричным, но в своё время восхищал множество читателей с возбужденными нервами, которые наслаждались «жуткими» историями о сверхъестественном ужасе. Миссис Энн Рэдклифф (1764–1823) была одной из самых успешных писательниц этой школы преувеличенной романтики. Её романы с героинями с лазурными глазами, замками с привидениями, лазейками, бандитами, похищениями, спасениями в последний момент и общей смесью чрезмерной радости и ужасов пользовались огромной популярностью не только у широких масс читателей, но и у людей с несомненным литературным гением, таких как Скотт и Байрон.
Резким контрастом этим экстравагантным историям служит неувядающая Джейн Остин с её очаровательными описаниями повседневной жизни и Марией Эджворт, чьи замечательные картины ирландской жизни натолкнули Вальтера Скотта на мысль написать шотландские романы. Две другие женщины, добившиеся более или менее продолжительной славы, – это Ханна Мор, поэтесса, драматург и романистка, и Джейн Портер, чьи «Шотландские вожди» и «Таддеус Варшавский» до сих пор пользуются спросом в наших библиотеках. Наряду с ними были Фанни Берни (мадам д’Арбле) и несколько других писательниц, чьи произведения в начале XIX века вознесли женщину на высокое место в литературе, которое она и по сей день удерживает.
В эту эпоху литературная критика прочно утвердилась благодаря появлению таких журналов, как «Edinburgh Review» (1802), «The Quarterly Review» (1808), «Blackwood's Magazine» (1817), «Westminster Review» (1824), «The Spectator» (1828), «The Athen;um» (1828) и «Fraser's Magazine» (1830). Эти журналы, редактировавшиеся такими людьми, как Фрэнсис Джеффри, Джон Уилсон (который известен нам как Кристофер Норт) и Джон Гибсон Локхарт, подаривший нам «Жизнь Скотта», оказали огромное влияние на всю последующую литературу. Поначалу их критика была в основном разрушительной, как когда Джеффри самым безжалостным образом обрушился на Скотта, Вордсворта и Байрона; а Локхарт не мог найти ничего хорошего ни у Китса, ни у Теннисона; но с добавлением мудрости критика приобрела свою истинную функцию — конструирования. И когда эти журналы начали искать и публиковать произведения неизвестных писателей, таких как Хэзлитт, Лэмб и Ли Хант, они открыли для себя главную миссию современного журнала, которая заключается в том, чтобы дать каждому талантливому писателю возможность сделать свое творчество известным миру.
1. ПОЭТЫ РОМАНТИЗМА
====================
УИЛЬЯМ ВОРДСВОРТ (1770-1850)
============================
Именно в 1797 году новое романтическое течение в нашей литературе обрело определённую форму. Вордсворт и Кольридж удалились в Кванток-Хиллз в Сомерсете и там поставили перед собой цель создать литературу, «способную постоянно заинтересовывать человечество», чего, по их словам, классическая поэзия никогда не сможет достичь. Помогала обоим поэтам сестра Вордсворта Дороти, обладавшая женской любовью к цветам и всему прекрасному; и божественным сочувствием к человеческой жизни даже в самых низменных её проявлениях. Хотя она была молчаливой партнёршей, она, пожалуй, внесла наибольшую долю вдохновения, которое привело к появлению знаменитых «Лирических баллад» 1798 года. В их партнёрстве Кольридж должен был обратиться к «сверхъестественному или, по крайней мере, романтическому», в то время как Вордсворт должен был «придать очарование новизны повседневным вещам… пробуждая внимание ума от летаргии обыденности и направляя его к красоте и чудесам мира, предстающего перед нами». Весь дух их творчества отражен в двух стихотворениях этого замечательного небольшого тома: «Сказание о старом мореходе», которое является шедевром Кольриджа, и «Строки, написанные в нескольких милях над аббатством Тинтерн», которое выражает поэтическое кредо Вордсворта и является одним из самых благородных и значительных наших стихотворений.
То, что «Лирические баллады» не привлекли внимания и были практически проигнорированы публикой, которая вскоре придет в восторг от «Чайльд-Гарольда» и «Дон Жуана» Байрона, не имеет особого значения. Многие готовы пробежать милю, чтобы увидеть звёзды, но никогда не замечают Ориона и Плеяд с порога своего дома. Даже если бы Вордсворт и Кольридж написали только эту маленькую книгу, они всё равно были бы одними из самых ярких писателей эпохи, провозгласившей окончательный триумф романтизма.
ЖИЗНЬ ВОРДСВОРТА.
=================
Чтобы понять жизнь того, кто, по словам Теннисона, «не произнес ничего низменного», стоит сначала прочитать «Прелюдию», в которой запечатлены впечатления, произведённые на ум Вордсворта с самых ранних воспоминаний до его полной зрелости в 1805 году, когда поэма была завершена. Внешне его долгая и однообразная жизнь естественным образом делится на четыре периода:
(1) детство и юность в Камберлендских холмах с 1770 по 1787 год;
(2) период неопределённости, бурь и натиска, включающий университетскую жизнь в Кембридже, путешествия за границу и революционный опыт с 1787 по 1797 год;
(3) короткий, но значимый период поиска себя и своего творчества с 1797 по 1799 год;
(4) долгий период уединения в северном озёрном крае, где он родился и где целых полвека жил в такой близости к природе, что её влияние отразилось во всей его поэзии. Описав эти четыре периода, он рассказал почти всё, что можно рассказать о жизни, отмеченной не событиями, а, главным образом, духовным опытом.
Вордсворт родился в 1770 году в Кокермуте, Камберленд, где жил Дервент,
Прекраснейшая из всех рек, любимая
Чтобы её журчание слилось с песней моей няни,
И из теней ольхи и скалистых водопадов,
и с бродов и отмелей, посылал голос
Который струился по моим снам.
Для того, кто знает Вордсворта только по его спокойной и благородной поэзии, почти шоком становится то, что он был человеком капризным и вспыльчивым, и что его мать отчаялась в нём, единственном из своих пятерых детей. Она умерла, когда ему было всего восемь лет, но успела оказать на него влияние, которое продлилось всю его жизнь, так что он помнил её как «сердце всех наших знаний и нашей любви».
Отец умер примерно через шесть лет, и сироту взяли на попечение родственники, которые отправили его в школу в Хоксхеде, в прекрасном озерном крае. Здесь, по-видимому, открытая школа природы привлекала его больше, чем дисциплина классиков, и он с большей охотой учился у цветов, холмов и звезд, чем у книг; но нужно прочитать собственные записи Вордсворта в «Прелюдии», чтобы оценить это. Три вещи в этом стихотворении должны произвести впечатление даже на невнимательного читателя:
во-первых, Вордсворт любит быть один и никогда не бывает одинок с природой;
во-вторых, как и любой другой ребенок, проводящий много времени один в лесах и полях, он чувствует присутствие некоего живого духа, реального, хотя и невидимого, и товарищеского, хотя и молчаливого;
в-третьих, его впечатления в точности похожи на наши собственные и восхитительно знакомы. Когда он рассказывает о долгом летнем дне, проведенном в плавании, греясь на солнце и путешествуя по холмам; или о зимней ночи, когда на коньках он гонялся за отражением звезды на черном льду; или о том, как он исследует озеро в лодке и внезапно пугается, когда мир становится большим и странным, — во всём этом он просто вызывает в памяти множество наших собственных смутных, счастливых воспоминаний детства. Ночью он идёт в лес, чтобы починить свои силки для вальдшнепов; он натыкается на силки другого мальчика, идёт по ним, находит пойманного вальдшнепа, забирает его и спешит прочь сквозь ночь. А затем,
Я слышал среди одиноких холмов
Тихое дыхание, доносящееся до меня, и звуки
Неразличимого движения.
Это как мысленная фотография. Любой мальчишка, возвращавшийся домой ночью через лес, сразу узнает её. Он снова рассказывает о том, как ходил смотреть на птичьи гнёзда на скалах:
О, когда я повисну
Над гнездом ворона, среди пучков травы
И над полудюймовыми трещинами в скользкой скале
Но шатаясь и почти (так казалось)
Подвешенный порывом ветра, что пронесся над землей,
Опираясь плечами на голую скалу, — о, тогда,
Когда на опасном хребте я висел один,
С каким странным голосом громкий сухой ветер
Дул мне в ухо! Небо казалось не небом
Земли, — и с каким движением двигались облака!
Ни один человек не может читать такие записи и не вспомнить вновь свое детство и свою безграничную радость жизни в ранних впечатлениях поэта.
Второй период жизни Вордсворта начинается с его университетского курса в Кембридже в 1787 году. В третьей книге «Прелюдии» мы находим бесстрастное описание студенческой жизни с её тривиальными занятиями, удовольствиями и общей бесцельностью. Вордсворт оказался весьма заурядным учёным, следовавшим скорее своему гению, чем учебной программе, и с большим нетерпением ожидавшим каникул в горах, чем экзаменов. Возможно, самым интересным в его жизни в Кембридже было общение с молодыми политическими энтузиастами, чей дух выражен в его замечательной поэме о Французской революции – поэме, которая лучше целого исторического тома отражает надежды и амбиции, охватившие всю Европу в первые дни этого великого переворота. Вордсворт совершил две поездки во Францию, в 1790 и 1791 годах, глядя на вещи главным образом сквозь розовые очки молодых оксфордских республиканцев. Во второй раз он примкнул к жирондистам, или умеренным республиканцам, и только решение родственников, лишивших его содержания и поспешно вернувших в Англию, предотвратило его прямиком на гильотину вместе с лидерами своей партии. Две вещи быстро охладили революционный энтузиазм Вордсворта и положили конец единственному драматическому увлечению его безмятежной жизни. Одной из них были крайности самой Революции, и особенно казнь Людовика XVI; другой – возвышение Наполеона и рабское преклонение Франции перед этим самым вульгарным и опасным из тиранов. Его холодность вскоре переросла в отвращение и неприятие, как показали его последующие стихотворения; и это навлекло на него осуждение Шелли, Байрона и других экстремистов, хотя и снискало дружбу Скотта, который с самого начала не испытывал симпатии ни к Революции, ни к молодым английским энтузиастам.
О решающем периоде жизни Вордсворта, когда он жил с сестрой Дороти и Кольриджем в Альфоксдене, мы уже говорили. Важность этого решения посвятить себя поэзии очевидна, если вспомнить, что в тридцать лет у него не было ни денег, ни определённой цели или занятия. Он размышлял о законе, но признавался, что не испытывает симпатии к его противоречивым предписаниям и обычаям; Он подумывал о церковном служении, но, несмотря на сильную склонность к церкви, чувствовал себя недостаточно подходящим для священного сана; когда-то он хотел стать солдатом и служить своей стране, но колебался перед перспективой умереть от болезни на чужбине и погубить свою жизнь без славы и пользы для кого-либо. Случайность, которая нам кажется скорее особым провидением, определила его путь. Он заботился о молодом друге, Рэйсли Калверте, который умер от чахотки и оставил Вордсворту наследником нескольких сотен фунтов, и о просьбе посвятить свою жизнь поэзии. Именно этот неожиданный дар позволил Вордсворту удалиться от мира и следовать своему гению. Всю свою жизнь он был беден и жил в атмосфере скромной жизни и возвышенных мыслей. Его поэзия не принесла ему почти никакого денежного вознаграждения, и лишь череда счастливых случайностей позволила ему продолжить свою работу. Одной из таких случайностей стало то, что он стал консерватором и вскоре занял должность распространителя марок, а позднее был назначен правительством поэтом-лауреатом, что послужило поводом для написания Браунингом знаменитого, но необдуманного стихотворения «Потерянный вождь»:
Всего за горсть серебра он нам оставил,
Всего за ленту, чтобы прикрепить к его сюртуку.
Последние полвека жизни Вордсворта, когда он удалился в свой любимый озёрный край и жил последовательно в Грасмире и Райдал-Маунт, ярко напоминают о долгой борьбе Браунинга за литературное признание. Они были отмечены той же непоколебимой целью, тем же верным идеалом, той же непрерывной работой и тем же запоздалым признанием публики. Его поэзия была безжалостно высмеяна практически всеми журнальными критиками, которые использовали худшие из его произведений как мерило суждения; и книга за книгой стихов выходили, не встречая никакого успеха, кроме одобрения нескольких верных друзей. Без сомнений и нетерпения он продолжал свою работу, уповая на будущее, которое её оценит и одобрит. Его поведение здесь очень напоминает бедного старого солдата, которого он встретил в горах, который отказался просить милостыню или упоминать о своей долгой службе или пренебрежении к своей стране, говоря с благородной простотой:
Моя надежда на Бога Небесного
И на око того, кто проходит мимо меня.
Такой труд и терпение неминуемо будут вознаграждены, и задолго до смерти Вордсворт ощутил тёплый солнечный свет всеобщего одобрения. Волна народного восторга по поводу Скотта и Байрона прошла, когда была признана ограниченность их таланта; и Вордсворт был провозглашён критиками первым ныне живущим поэтом и одним из величайших, когда-либо рождённых Англией. После смерти Саути (1843) он был удостоен звания поэта-лауреата, вопреки собственному желанию. Поздняя чрезмерная похвала оставила его столь же равнодушным, как и первое чрезмерное пренебрежение. Неуклонное снижение качества его произведений объясняется не самодовольством, как можно было бы ожидать, а скорее его крайним консерватизмом, тем, что он слишком много времени прожил в одиночестве и не стал проверять свои произведения на соответствие стандартам и суждениям других литераторов. Он мирно скончался в 1850 году в возрасте восьмидесяти лет и был похоронен на кладбище в Грасмире.
Таков краткий внешний портрет величайшего в мире толкователя послания природы; и только тот, кто знаком и с природой, и с поэтом, может понять, насколько несовершенна любая биография; ведь лучшее в Вордсворте всегда должно оставаться невысказанным. Утешает знать, что его жизнь, благородная, искренняя, «героически счастливая», никогда не противоречила его посланию. Поэзия была его жизнью; его душа была во всех его произведениях; и только читая то, что он написал, мы можем понять этого человека.
ПОЭЗИЯ ВОРДСВОРТА.
==================
Читая Вордсворта впервые, часто испытываешь разочарование; и это побуждает нас прежде всего остановиться на двух трудностях, которые могут легко помешать по-настоящему оценить поэта. Первая трудность кроется в читателе, которого часто озадачивает абсолютная простота Вордсворта. Мы настолько привыкли к эффектным постановкам в поэзии, что неприкрытая красота часто ускользает от нашего внимания, как, например, в «Люси» Вордсворта:
Фиалка у замшелого камня,
Наполовину скрытая от глаз;
Прекрасна, как звезда, когда лишь одна
Сияет на небе.
Вордсворт поставил перед собой задачу освободить поэзию от всех её «зазнайств», говорить языком простой истины и изображать человека и природу такими, какие они есть; и в этом прекрасном произведении мы склонны упускать из виду красоту, страсть, глубину, которые скрываются за самыми простыми его строками. Вторая трудность кроется в поэте, а не в читателе. Надо признать, что Вордсворт не всегда мелодичен, редко изящен и лишь изредка вдохновен. Когда он вдохновлён, мало кто из поэтов может с ним сравниться; в других случаях основная масса его стихов настолько безжизненна и прозаична, что мы удивляемся, как поэт мог это написать. Более того, он совершенно лишён чувства юмора и поэтому часто не видит той малой грани, которая отделяет возвышенное от смешного. Иначе мы не можем объяснить «Идиота-мальчика» или простить серьёзную нелепость «Питера Белла» и его скорбящего осла.
Ввиду этих трудностей лучше сначала избегать более длинных произведений и начать с хорошей книги избранных произведений. Когда мы читаем эти изысканные короткие стихотворения с их благородными строками, которые навсегда остаются в нашей памяти, мы понимаем, что Вордсворт — величайший поэт природы, которого когда-либо создавала наша литература. Если мы пойдем дальше и изучим стихотворения, которые нас впечатлили, мы обнаружим четыре замечательные характеристики: (1) Вордсворт чувствителен, как барометр, к каждому едва заметному изменению в окружающем его мире. В «Прелюдии» он сравнивает себя с эоловой арфой, которая гармонично отвечает каждому прикосновению ветра; и образ поразительно точен, а также интересен, ибо едва ли найдется зрелище или звук, от фиалки до горы и от птичьей ноты до грома водопада, который не нашел бы прекрасного отражения в поэзии Вордсворта.
(2) Из всех поэтов, писавших о природе, нет никого, кто мог бы сравниться с ним в правдивости изображения. Бернс, как и Грей, склонен вычитывать собственные эмоции в природных объектах, так что даже в его мыши и горной маргаритке больше от поэта, чем от природы; но Вордсворт представляет птицу и цветок, ветер, дерево и реку такими, какие они есть, и довольствуется тем, что позволяет им самим выражать свою мысль.
(3) Ни один другой поэт не находил столь обильной красоты в обыденном мире. Он обладал не только зрением, но и проницательностью, то есть не только ясно видел и точно описывал, но и проникал в самую суть вещей и всегда находил некий изысканный смысл, не написанный на поверхности.
(4) Именно жизнь природы познаётся повсюду; не просто рост и клеточные изменения, а чувствующая, личностная жизнь; и признание этой индивидуальности в природе характерно для всех великих поэтических произведений мира. В детстве Вордсворт считал природные объекты – ручьи, холмы, цветы и даже ветер – своими спутниками; и, учитывая его зрелую веру в то, что вся природа – отражение живого Бога, его поэзия неизбежно должна была трепетать от ощущения Духа, «пронизывающего всё сущее». Каупер, Бернс, Китс, Теннисон – все эти поэты в разной степени передают внешние аспекты природы; но Вордсворт передаёт саму её жизнь и ощущение некоего личного, живого духа, который встречает и сопровождает человека, идущего в одиночку по лесам и полям. Даже в философии Лейбница или в мифах о природе наших индейцев мы вряд ли найдём такое же впечатление от живой природы, какое пробуждает в нас этот поэт. И это подсказывает нам еще одну замечательную особенность поэзии Вордсворта, а именно то, что он, кажется, пробуждает, а не создает впечатление; он глубоко будоражит нашу память, так что, читая его, мы снова окунаемся в смутную, прекрасную страну чудес нашего собственного детства.
Такова философия поэзии природы Вордсворта. Если мы теперь поищем его философию человеческой жизни, то обнаружим ещё четыре доктрины, основанные на его основополагающей концепции о том, что человек не отделен от природы, но является самой «жизнью её жизни».
(1) В детстве человек чувствителен, как ветряная арфа, ко всем природным влияниям; он – воплощение радости и красоты мира. Вордсворт объясняет эту радость и эту чуткость к природе учением о том, что ребёнок происходит непосредственно от Творца природы:
Наше рождение — всего лишь сон и забвение:
Душа, что восходит вместе с нами, Звезда нашей жизни,
Имела свой закат в другом месте,
И приходит издалека:
Не в полном забвении
И не в полной наготе,
Но, волоча облака славы, приходим мы
От Бога, Который – наш дом.
В этой изысканной оде, которую он называет «Намёки на бессмертие из воспоминаний раннего детства» (1807), Вордсворт подводит итог своей философии детства; и, возможно, этим он обязан поэту Вогану, который более века назад провозгласил то же самое учение в «Убежище». Это родство с природой и Богом, прославляющее детство, должно пронизывать всю жизнь человека и облагораживать её. Таково учение «Тинтернского аббатства», где лучшая часть нашей жизни показана как результат естественных влияний. По мнению Вордсворта, общество и тесная, неестественная жизнь городов ослабляют и развращают человечность; и возвращение к естественной и простой жизни — единственное лекарство от человеческих страданий.
(2) Естественные инстинкты и удовольствия детства – истинные критерии счастья человека в этой жизни. Все искусственные удовольствия быстро надоедают. Естественные удовольствия, которыми человек так легко пренебрегает в работе, – главное средство, благодаря которому мы можем ожидать постоянной и возрастающей радости. В «Тинтернском аббатстве», «Радуге», «Оде долгу» и «Намёках на бессмертие» мы видим это простое учение; но едва ли можно прочитать хотя бы одну страницу Вордсворта, не обнаружив его ненавязчиво, словно аромат полевого цветка.
(3) Истина человечества, то есть общая жизнь, полная труда, любви и разделяющая общее наследие улыбок и слёз, – единственный предмет постоянного литературного интереса. Бернс и ранние поэты Возрождения начали плодотворную работу по изображению романтического интереса к обычной жизни; а Вордсворт продолжил её в «Майкле», «Одиноком жнеце», «Горской девушке», «Шагая на Запад», «Путешествии» и десятке менее значительных стихотворений. Радость и печаль, не принадлежащие принцам или героям, а «распространённые в широчайшем кругу людей», – вот его темы; и скрытая цель многих его стихотворений – показать, что лейтмотив всей жизни – счастье – не случайность, результат случая или обстоятельств, а героизм, которого можно добиться, как и любого другого успеха, трудом и терпением.
(4) К этой естественной философии человека Вордсворт добавляет мистический элемент, проистекающий из его собственной веры в то, что в каждом природном объекте есть отражение живого Бога. Природа повсюду пронизана и озарена Духом; человек также является отражением божественного Духа; и мы никогда не поймём эмоций, пробуждаемых цветком или закатом, пока не узнаем, что природа взывает через глаз человека к его внутреннему духу. Одним словом, природу необходимо «постичь духовно». В «Тинтернском аббатстве» духовная привлекательность природы выражена почти в каждой строке; но мистическое понимание человека более отчётливо проявляется в «Намеках бессмертия», которые Эмерсон называет «высшей точкой поэзии XIX века». В этой последней великолепной оде Вордсворт добавляет к своему духовному толкованию природы и человека заманчивую доктрину предсуществования, которая так сильно привлекала поочередно индусов и греков и которая делает человеческую жизнь непрерывным, бессмертным явлением, не имеющим ни конца, ни начала.
Длинные поэмы Вордсворта, поскольку они содержат много прозаичного и неинтересного, вполне можно оставить до тех пор, пока мы не прочтем оды, сонеты и короткие описательные поэмы, которые сделали его знаменитым. Как демонстрацию определенного героического склада ума Вордсворта, интересно узнать, что большая часть его творчества, включая «Прелюдию» и «Путешествие», предназначалась для одной большой поэмы под названием «Затворник», которая должна была рассуждать о природе, человеке и обществе. Прелюдия, повествующая о развитии ума поэта, должна была стать введением к произведению. «Дом в Грасмире», который является первой книгой «Затворника», был опубликован только в 1888 году, спустя много времени после смерти поэта. «Путешествие» (1814) — вторая книга «Затворника»; Третья часть так и не была завершена, хотя Вордсворт намеревался включить в неё большинство своих коротких стихотворений и таким образом создать грандиозный личный эпос о жизни и творчестве поэта. Возможно, к лучшему, что работа осталась незавершённой. Лучшие его произведения представлены в «Лирических балладах» (1798), а также в сонетах, одах и лирических стихах следующих десяти лет; хотя «Сонеты Даддона» (1820), «Жаворонок» (1825) и «Возвращение к тысячелистнику» (1831) показывают, что он сохранял большую часть своего юношеского энтузиазма до шестидесяти лет.
Однако в более поздние годы он, возможно, писал слишком много; его поэзия, как и проза, становится скучной и невыразительной; и мы упускаем проблески озарения, нежные воспоминания детства и повторение благородных строк — каждая из которых является стихотворением, — которые составляют удивление и восторг от чтения Вордсворта.
Он видел вид неба и земли,
холмов и долин;
И импульсы более глубокого рождения
Пришли к нему в одиночестве.
В обычных вещах, что окружают нас,
Некоторые случайные истины он может передать –
Плод тихого взгляда
который размышляет и дремлет в его собственном сердце.
Сэмюэл Тейлор Колридж (1772-1834)
=================================
Горе без боли, пустота, темнота и тоска,
Задушенное, сонное, бесстрастное горе,
Не находящее естественного выхода, никакого облегчения,
В слове, вздохе или слезе.
В замечательной «Оде к унынию», из которой взят приведенный выше фрагмент, перед нами одно сильное впечатление всей жизни Кольриджа – печальной, надломленной, трагической, резко контрастирующей с мирным существованием его друга Вордсворта. Сам поэт большую часть своей жизни был обременен лишь горем и раскаянием; но для всех остальных, для слушателей, очарованных блеском его литературных лекций, для друзей, собиравшихся вокруг него, чтобы вдохновиться его идеалами и беседами, и для всех его читателей, находивших бесконечное удовольствие в томике его стихов, он нес и поныне несёт воодушевляющее послание, полное красоты, надежды и вдохновения. Таков Кольридж – человек скорби, делающий мир радостным.
ЖИЗНЬ.
======
В 1772 году в Оттери Сент-Мэри, Девоншир, жил странный маленький человек, преподобный Джон Кольридж, викарий приходской церкви и директор местной гимназии. В первой должности он произносил глубокие проповеди, цитируя изумленным крестьянам длинные отрывки из иврита, который, как он им говорил, был языком Святого Духа. Во второй должности он написал для своих сыновей новую латинскую грамматику, чтобы смягчить некоторые трудности пересечения этих ужасных джунглей с помощью хитроумных обходных путей и сокращений. Например, когда его сыновья обнаружили, что аблатив довольно сложен для понимания, он сказал им думать о нем как о падеже квале-кваре-квиддитив, что, конечно же, делает его значение совершенно ясным.
В обоих этих качествах старший Кольридж был искренним человеком, мягким и добрым, чья память была «подобна религии» для его сыновей и дочерей. В том же году родился Сэмюэл Тейлор Кольридж, младший из тринадцати детей. Он был необычайно развитым ребенком, научился читать в три года, а к пяти годам прочитал Библию и «Тысячу и одну ночь» и помнил поразительно много из обеих книг. С трех до шести лет он посещал школу для дам; а с шести до девяти (когда умер его отец, оставив семью без средств к существованию) он учился в школе отца, изучая классику, читая огромное количество английских книг, избегая романов и увлекаясь громоздкими теологическими и метафизическими трактатами. В десять лет его отправили в благотворительную школу при больнице Христа в Лондоне, где он познакомился с Чарльзом Лэмбом, который описал свои впечатления от этого места и Кольриджа в одном из своих знаменитых эссе. Похоже, Кольридж провёл в этой школе семь или восемь лет, не навещая родной дом, – бедный, заброшенный мальчик, чьи утешения и развлечения были только в нём самом. Как в детстве он бродил по полям с палкой в ;;руке, срезая ботву сорняков и чертополоха и воображая себя могучим борцом за христианство против неверных, так теперь он лежал на крыше школы, забыв об играх товарищей и о шуме лондонских улиц, наблюдая за проплывающими белыми облаками и мысленно следуя за ними в самые разные романтические приключения.
В девятнадцать лет этот безнадежный мечтатель, прочитавший больше книг, чем старый профессор, поступил в Кембридж в качестве студента-благотворителя. Он пробыл там почти три года, затем сбежал из-за незначительного долга и поступил в драгунский полк, где прослужил несколько месяцев, прежде чем его обнаружили и вернули в университет. Он покинул университет в 1794 году, не получив диплома; и вот мы видим его вместе с молодым Саути – родственным ему по духу, воспламененным Французской революцией, – основавшим свою знаменитую пантисократию ради возрождения человеческого общества. «Падение Робеспьера», поэма, сочиненная двумя энтузиастами, проникнута новым революционным духом.
Пантисократия на берегах Саскуэханны должна была стать идеальным сообществом, в котором граждане сочетали бы сельское хозяйство и литературу; при этом работа ограничивалась двумя часами в день. Более того, каждый член сообщества должен был жениться на хорошей женщине и взять её с собой. Два поэта сначала подчинились последнему предписанию, женившись на двух сёстрах, а затем обнаружили, что у них нет денег даже на дорогу до новой Утопии.
На протяжении всей дальнейшей карьеры Кольриджем овладевает трагическая слабость воли, из-за которой он, при всей своей гениальности и образованности, не может упорно заниматься какой-либо одной работой или целью. Он учился в Германии; работал личным секретарем, пока тяжелая работа не истощила его свободолюбивый дух; затем он отправился в Рим и прожил там два года, полностью погрузившись в учёбу. Позже он основал газету «The Friend», посвящённую истине и свободе; читал лекции о поэзии и изящных искусствах восторженной лондонской публике, пока частые срывы контрактов не разогнали его слушателей; ему предложили прекрасную должность с полутора процентами (около 2000 фунтов стерлингов) в газетах «Morning Post» и «The Courier», но он отказался, заявив: «Я не откажусь от деревни и ленивого чтения старых фолиантов даже за две тысячи двести фунтов стерлингов, — короче говоря, что свыше 350 фунтов стерлингов в год я считаю деньги настоящим злом». Тем временем его семья была практически полностью заброшена; Он жил отдельно, следуя своим собственным устоям, а жену и детей оставил на попечение своего друга Саути. Нуждаясь в деньгах, он собирался стать унитарианским священником, но небольшая пенсия от двух друзей позволила ему прожить несколько лет без постоянной работы.
Ужасная тень в жизни Кольриджа была очевидной причиной большей части его уныния. В молодости он страдал невралгией и, чтобы облегчить боль, начал принимать опиаты. При таком темпераменте это было почти неизбежно. Он стал рабом наркотической зависимости; его от природы слабая воля утратила всю направляющую и поддерживающую силу, пока после пятнадцати лет боли, борьбы и отчаяния он не сдался и не доверился врачу, некоему мистеру Гиллману из Хайгейта. Карлейль, посетивший его в то время, называет его «королем людей», но отмечает, что «он давал представление о жизни, полной страданий, жизни обременённой, полупобеждённой, всё ещё мучительно плывущей по морям многочисленных физических и иных потрясений».
Тень действительно темна; но сквозь облака иногда пробиваются лучи солнца. Одним из них является его общение с Вордсвортом и его сестрой Дороти в холмах Куанток, откуда и появились знаменитые «Лирические баллады» 1798 года. Другой пример – его преданность поэзии как таковой. За исключением трагедии «Раскаяние», которая благодаря влиянию Байрона была принята в театре «Друри-Лейн» и за которую ему заплатили 400 фунтов стерлингов, он почти ничего не получал за свои стихи. Более того, он, похоже, и не желал этого, поскольку говорит: «Поэзия сама по себе стала для меня величайшей наградой; она смягчила мои печали; она умножила и утончила мои радости; она сделала одиночество любимым и привила мне привычку стремиться открывать доброе и прекрасное во всем, что встречает меня и окружает». После такого заявления можно лучше понять его изысканные стихи. Третий луч солнца пролился на него благодаря восхищению современников: хотя он писал сравнительно мало, благодаря своим талантам и эрудиции он был одним из лидеров среди литераторов, и его беседы слушали с таким же интересом, как и беседы доктора Джонсона. Вордсворт говорит о нём, что, хотя другие люди его эпохи совершили немало замечательных дел, Кольридж был единственным замечательным человеком, которого он когда-либо знал. О его лекциях по литературе современник говорит: «Его слова, кажется, льются, как будто он с изяществом и энергией повторяет восхитительное стихотворение». А о его беседе написано: «В течение долгого летнего дня этот человек говорил с вами тихим, ровным, но ясным и мелодичным голосом о вещах человеческих и божественных; упорядочивая всю историю, гармонизируя все эксперименты, исследуя глубины вашего сознания и открывая воображению видения славы и ужаса».
Последний яркий луч солнца исходит из души самого Кольриджа, из его кроткой, доброй натуры, которая заставляла людей любить и уважать его, несмотря на его слабости, и которая заставляла Лэмба с юмором называть его «архангелом, немного повреждённым». Универсальный закон страдания, по-видимому, заключается в том, что оно облагораживает и смягчает человечность; и Кольридж не был исключением. В его поэзии мы находим ноту человеческого сочувствия, более нежную и глубокую, чем у Вордсворта или любого другого великого английского поэта. Даже в его поздних стихах, когда он утратил первое вдохновение и часть той великолепной силы воображения, которая делает его произведения равными лучшим произведениям Блейка, мы видим душу нежную, торжествующую, тихую, «в тишине великого покоя». Он умер в 1834 году и был похоронен в Хайгейтской церкви. Последняя строфа песни лодочника в «Раскаянии» лучше любой эпитафии выражает суд мира:
Слушай! Замирает ритм
В тихом море, залитом лунным светом;
Лодочники кладут весла на весла и говорят:
Господи, помилуй!
СОЧИНЕНИЯ КОЛРИДЖА.
===================
ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОЛРИДЖА. Произведения Кольриджа естественным образом делятся на три группы: поэтические, критические и философские, соответствующие раннему, среднему и позднему периодам его творчества. О его поэзии Стопфорд Брук верно сказал: «Всё, что он сделал превосходно, можно было бы уместить на двадцати страницах, но это должно быть переплетено в чистое золото». В его ранних стихах заметно влияние Грея и Блейка, особенно последнего. Когда Кольридж начинает свой «Дневной сон» строкой: «Мои глаза создают картины, когда они закрыты», мы сразу вспоминаем волнующие «Песни невинности» Блейка. Но между двумя поэтами есть разница: в Блейке мы видим лишь мечтателя; в Кольридже же мы видим редкое сочетание мечтателя и глубокого ученого. Качество этой ранней поэзии, с её сильным влиянием Блейка, можно оценить в таких стихотворениях, как «Дневной сон», «Мысли дьявола», «Аргумент самоубийцы» и «Странствия Каина». Его поздние стихотворения, в которых мы видим его воображение, обузданное размышлениями и изучением, но всё ещё свободное, лучше всего можно оценить в «Кубла-хане», «Кристабель» и «Сказании о старом мореходе». Такие стихотворения трудно критиковать; их можно лишь читать и восхищаться их мелодичностью и смутными образами, которые они вызывают в воображении. «Кубла-хан» – это фрагмент, рисующий великолепную картину восточного сна, подобную той, что можно увидеть на октябрьском закате. Целое стихотворение пришло к Кольриджу однажды утром, когда он заснул над Перчасом, и, проснувшись, он начал торопливо писать:
В Ксанаду Кубла Хан
Установил величественный купол удовольствий:
Где Альф, священная река, протекала
Через пещеры, неизмеримые для человека
Вниз, к бессолнечному морю.
Его прервали после написания пятидесяти четырёх строк, и он так и не закончил стихотворение.
«Кристабель» – это также фрагмент, который, по-видимому, был задуман как история чистой юной девушки, попавшей под чары колдуна, принявшего облик женщины по имени Джеральдина. Он полон странной мелодии и содержит множество отрывков изысканной поэзии; но он пронизан странным, неведомым ужасом и вызывает ассоциации со сверхъестественными ужасами популярных истерических романов, о которых мы упоминали. В связи с этим это чтение не является полезным, хотя, осмеливаясь предположить подобное, мы бросаем вызов Суинберну и другим критикам.
«Сказание о старом мореходе» – главный вклад Кольриджа в «Лирические баллады» 1798 года и один из мировых шедевров. Хотя оно вводит читателя в потусторонний мир с призрачным кораблём, командой мертвецов, нависшим проклятием альбатроса, полярным духом и волшебным бризом, ему, тем не менее, удаётся создать ощущение абсолютной реальности этих явных абсурдов. Вся механика поэмы, её размер, рифма и мелодия совершенны; а некоторые из её описаний одинокого моря не имеют себе равных. Возможно, правильнее было бы сказать «предположения», а не «описания», поскольку Кольридж никогда не описывает вещи, а лишь высказывает предположение, всегда краткое и всегда совершенно точное, а наше собственное воображение мгновенно дополняет детали. Бесполезно цитировать фрагменты; нужно читать поэму целиком, если вы не знакомы ни с чем другим из поэзии романтической школы.
Среди коротких стихотворений Кольриджа наблюдается большое разнообразие, и каждому читателю следует в значительной степени предоставить возможность следовать собственному вкусу.
Начинающему будет полезно прочитать несколько ранних стихотворений, о которых мы упоминали, а затем попробовать «Оду Франции», «Юность и старость», «Уныние», «Стихи о любви», «Страхи в одиночестве», «Религиозные размышления», «Труд без надежды» и великолепный «Гимн перед восходом солнца в долине Шамуни». Изящное латинское стихотворение «Гимн колыбели Девы Марии» и его перевод «Валленштейна» Шиллера демонстрируют выдающийся талант Кольриджа как переводчика. Последний — один из лучших поэтических переводов в нашей литературе.
Из прозаических произведений Кольриджа «Biographia, Literaria, or Sketches of My Literary Life and Opinions» (1817), его сборник «Lectures on Shakespeare» (1849) и «Aids to Reflection» (1825) представляют наибольший интерес с литературной точки зрения. Первое из них представляет собой объяснение и критику теории поэзии Вордсворта и содержит больше здравого смысла и проницательных идей по общим вопросам поэзии, чем любая другая книга на нашем языке. «Lectures», освежающие, как западный ветер в середине лета, примечательны своей попыткой отмести произвольные правила, которые на протяжении двух столетий препятствовали литературной критике Шекспира, чтобы изучать сами произведения. Более тонкого анализа и оценки гения мастера никогда не было. В своих философских трудах Кольридж познакомил Англию с идеалистической философией Германии. Он ставил себя в один ряд с Беркли и открыто выступал против Бентама, Мальтуса, Милля и всех материалистических тенденций, которые были и остаются проклятием английской философии. «Пособия к размышлению» — глубочайшее произведение Кольриджа, но оно больше интересно тем, кто изучает религию и философию, чем тем, кто интересуется литературой.
РОБЕРТ САУТИ (1774-1843)
========================
Тесно связан с Вордсвортом и Кольриджем Роберт Саути; и эти трое, из-за их проживания в северном озёрном крае, были презрительно прозваны шотландскими журнальными рецензентами «Лейкерс». Саути занимает своё место в этой группе скорее благодаря личным связям, чем благодаря своему литературному дарованию. Он родился в Бристоле в 1774 году, учился в Вестминстерской школе и в Оксфорде, где постоянно конфликтовал с властями из-за своих независимых взглядов. В конце концов, он покинул университет и присоединился к Кольриджу в его проекте пантисократии. Более пятидесяти лет он неустанно трудился в литературе, отказываясь рассматривать какую-либо другую профессию. Он всерьёз считал себя одним из величайших писателей своего времени, и чтение его баллад, которые сразу же связали его с романтической школой, наводит на мысль, что, напиши он меньше, он, возможно, оправдал бы своё мнение о себе. К сожалению, он не мог дождаться вдохновения, поскольку был вынужден содержать не только свою семью, но и, в значительной степени, семью своего друга Кольриджа.
Саути постепенно окружил себя одной из самых обширных библиотек в Англии и поставил себе задачу писать что-нибудь каждый рабочий день. Результатом его трудов стали сто девять томов, не говоря уже о ста пятидесяти статьях для журналов, большинство из которых ныне совершенно забыты. Его самые амбициозные поэмы – «Талаба» – повесть об арабских чарах; «Проклятие Кехамы» – смесь индуистской мифологии; «Мадок» – легенда о валлийском принце, открывшем западный мир; и «Родерик» – повесть о последнем из готов. Все эти и многие другие, хотя и содержат некоторые превосходные отрывки, в целом преувеличены и нереальны как по манере, так и по содержанию. Саути писал прозу гораздо лучше, чем стихи, и его восхитительную «Жизнь Нельсона» до сих пор часто читают. Кроме того, это его «Жизнь британских адмиралов», «Жизнь Каупера и Уэсли», а также истории Бразилии и Пиренейской войны.
В 1813 году Саути стал поэтом-лауреатом и первым, кто поднял эту должность с низкого положения, в которое она попала после смерти Драйдена.
Первые строки Талабы, начиная с:
Как прекрасна ночь!
В безмолвном воздухе царит росистая свежесть,
Их до сих пор иногда цитируют; и несколько его самых известных коротких стихотворений, таких как «Учёный», «Старые клоуны», «Колодец Святого Кейна», «Скала Инчкейп» и «Лодор», отплатят любознательному читателю. Красота характера Саути, его терпение и отзывчивость делают его достойным соратником двух великих поэтов, с которыми его обычно сравнивают.
ВАЛЬТЕР СКОТТ (1771-1832)
=========================
Мы уже обращали внимание на два значительных течения XVIII века, о которых следует на мгновение вспомнить, если хотим оценить Скотта не просто как восхитительного рассказчика, но как мощную силу современной литературы. Первое – это триумф романтической поэзии в лице Вордсворта и Кольриджа; второе – успех наших первых английских романистов и популяризация литературы, которая вырвалась из-под контроля немногих покровителей и критиков и передалась в руки народа как одна из сил, формирующих нашу современную жизнь. Скотт – воплощение обоих этих течений. Поэзию Вордсворта и Кольриджа читали лишь избранные, но «Мармион» и «Леди Озера» Скотта вызвали восторг у всей нации, и впервые романтическая поэзия стала по-настоящему популярной. Так и роман довольствовался изображением мужчин и женщин современности, пока не появилась замечательная серия романов о Уэверли, когда внезапно, под волшебством этого «Волшебника Севера», вся история, казалось, изменилась. Прошлое, доселе представлявшееся мрачным царством погибших героев, вновь ожило и наполнилось множеством мужчин и женщин, обладавших удивительным очарованием реальности. Не так уж важно, что поэзия и проза Скотта несовершенны; что его стихи читают главным образом ради сюжета, а не ради поэтического совершенства; и что значительная часть очевидной грубости и варварства Средневековья игнорируется или забывается в произведениях Скотта. Благодаря своей энергии, свежести, стремительности действия и бодрой, открытой атмосфере романы Скотта привлекали тысячи читателей, доселе не знавших прелестей литературы.
Таким образом, он является величайшим известным фактором, способствовавшим созданию и популяризации того романтического элемента в прозе и поэзии, который на протяжении ста лет был главной характерной чертой нашей литературы.
ЖИЗНЬ.
=====
Скотт родился в Эдинбурге 15 августа 1771 года. Как по материнской, так и по отцовской линии он происходил из старинных семей Бордер-Хилл, известных скорее своими распрями и стычками, чем интеллектуальными достижениями. Его отец был адвокатом, справедливым человеком, который часто терял клиентов, советуя им прежде всего быть честными в судебных процессах. Его мать была женщиной с сильным характером и образованием, с богатым воображением, рассказчицей, которая вдохновляла юного Уолтера, открывая прошлое как мир живых героев.
В детстве Скотт был хромым и слабым, поэтому его отправили из города к бабушке в Сэнди-Ноу, в Роксбургшире, недалеко от реки Твид. Эта бабушка была настоящей сокровищницей легенд о старых приграничных распрях. Благодаря её замечательным рассказам Скотт развил в себе ту глубокую любовь к шотландской истории и традициям, которая пронизывает всё его творчество.
К восьми годам, когда он вернулся в Эдинбург, вкусы Скотта определились на всю жизнь. В школе он учился неплохо, но без энтузиазма, больше интересуясь историями о Бордере, чем учебниками. Он проучился в школе всего шесть или семь лет, а затем поступил в отцовскую контору изучать право, одновременно посещая лекции в университете. Он продолжал заниматься этим около шести лет, не проявляя никакого интереса к своей профессии, даже когда сдал экзамены и был принят в адвокатуру в 1792 году. После девятнадцати лет бессистемной работы, в которой он проявлял гораздо больше рвения в собирании шотландских легенд, чем в привлечении клиентов, он получил две небольшие юридические конторы, которые давали ему достаточно дохода, чтобы безбедно существовать. Его домом, тем временем, был Эшестиел-на-Твиде, где были написаны все его лучшие стихи.
Литературная деятельность Скотта началась с перевода с немецкого романтической баллады Бюргера «Ленора» (1796) и «Гёца фон Берлихингена» Гёте (1799); но романтики было достаточно и в его любимом Хайленде, и в 1802–1803 годах вышли три тома его «Менестрелей шотландской границы», которые он собирал в течение многих лет.
В 1805 году, когда Скотту было 34 года, появилось его первое оригинальное произведение, «Песнь о последнем менестреле». Успех был мгновенным, и когда «Мармион» (1808) и «Владычица озера» (1810) вызвали бурный энтузиазм в Шотландии и Англии и принесли автору неожиданную славу, нисколько не испортив его честной и обаятельной натуры, Скотт с радостью решил оставить юриспруденцию, в которой он добился ничтожных успехов, и полностью посвятить себя литературе. К сожалению, чтобы увеличить свои доходы, он тайно вступил в партнёрство с фирмами Констебля и братьев Баллантайн, которые стали издателями и типографами, – поистине печальная ошибка, ставшая причиной трагедии, оборвавшей жизнь величайшего шотландского писателя.
1811 год примечателен двумя событиями в жизни Скотта. В этом году он, по-видимому, осознал, что, несмотря на успех своих стихов, он ещё не «нашёл себя»; что он не поэтический гений, как Бернс; что в первых трёх стихотворениях он практически исчерпал свой материал, хотя и продолжал писать стихи; и что, если он хочет сохранить популярность, ему нужно найти другое произведение. Тот факт, что всего год спустя Байрон внезапно стал всеобщим любимцем, показывает, насколько верно Скотт оценил себя и читающую публику, которая была ещё более непостоянной, чем обычно, в этот эмоциональный век. В том же 1811 году Скотт купил поместье Эбботсфорд на реке Твид, с которым навсегда связано его имя. Здесь он начал тратить большие суммы и оказывать щедрое гостеприимство шотландского лэрда, о котором мечтал годами. В 1820 году он был пожалован баронетом; И его новый титул сэра Уолтера вскружил ему голову гораздо больше, чем все его литературные успехи. Его деловое партнёрство держалось в тайне, и в течение всех лет, когда романы Уэверли были самыми популярными книгами в мире, их авторство оставалось неизвестным; Скотт считал ниже своего титула зарабатывать деньги бизнесом или литературой и стремился создать впечатление, что огромные суммы, потраченные в Эбботсфорде на благоустройство поместья и роскошные приёмы, являются частью его высокого положения и происходят из родовых источников.
Именно успех «Чайльд Гарольда» Байрона и сравнительная неудача более поздних поэм Скотта «Рокеби», «Триерменская невеста» и «Властелин островов» привели нашего автора на новую ниву, где ему суждено было остаться вне конкуренции. Однажды, роясь в шкафу в поисках рыболовных снастей, Скотт нашёл рукопись рассказа, начатого и отложенного девять лет назад. Он жадно прочитал этот старый рассказ, словно это было чужое произведение; закончил его за три недели и опубликовал, не подписавшись. Успех этого первого романа, «Уэверли» (1814), был мгновенным и неожиданным. Его высокие продажи и всеобщий хор похвал неизвестному автору были беспрецедентными; и когда в течение следующих четырёх лет появились «Гай Мэннеринг», «Антиквар», «Чёрный карлик», «Старая смертность», «Роб Рой» и «Сердце Мидлотиана», восторгу и изумлению Англии не было предела. Не только на родине, но и на континенте эти свежие и увлекательные истории быстро распродавались в больших количествах по мере их выхода в печать.
В течение семнадцати лет, последовавших за появлением «Уэверли», Скотт писал в среднем почти два романа в год, создавая необычайно большое количество персонажей и иллюстрируя многие периоды шотландской, английской и французской истории, от времён Крестовых походов до падения Стюартов. Помимо этих исторических романов, он написал «Рассказы деда», «Демонологию и колдовство», биографии Драйдена и Свифта, «Жизнь Наполеона» в девяти томах, а также большое количество статей для обозрений и журналов. Это был необычайный объём литературной работы, но она не была столь быстрой и спонтанной, как может показаться. Он очень усердно разыскивал старые записи, и следует помнить, что почти во всех своих поэмах и романах Скотт опирался на фонд легенд, преданий, исторических и поэтических источников, который он собирал сорок лет и который его память позволяла ему воспроизводить по желанию почти с точностью энциклопедии.
Первые шесть лет Скотт посвятил себя шотландской истории, показав нам в девяти замечательных романах всю Шотландию, её героизм, её превосходную веру и энтузиазм, и особенно её клановую преданность наследственным вождям; представив нам также все партии и персонажей, от ковенантеров до роялистов, от королей до нищих. Прочитав эти девять томов, мы узнаём Шотландию и шотландцев так, как не можем узнать их никаким другим способом. В 1819 году он резко отвернулся от Шотландии и в «Айвенго», самом популярном из своих произведений, показал, какой кладезь забытых богатств таится прямо под поверхностью английской истории. Сейчас, читая его стремительные мелодраматические события, живое изображение саксонского и нормандского характера и все его живописные детали, трудно осознать, что он был написан быстро, в то время, когда автор страдал от болезни и едва мог сдержать стон, издаваемый быстрыми диктантами. Сегодня это произведение служит лучшим примером теории самого автора о том, что одной воли человека достаточно, чтобы неуклонно, несмотря ни на какие препятствия, удерживать его на пути к выполнению своей задачи «делать то, что он задумал». «Кенилворт», «Найджел», «Певерил» и «Вудсток», написанные в последующие несколько лет, демонстрируют его понимание романтической стороны английских летописей; «Граф Роберт» и «Талисман» демонстрируют его энтузиазм по поводу героической стороны натуры крестоносцев; а «Квентин Дорвард» и «Анна Гейерштейн» предлагают ещё один источник романтики, который он открыл во французской истории.
Двадцать лет Скотт упорно трудился в литературе, преследуя двойную цель: отдать всё, что у него было, и заработать большие суммы для роскоши, которую он считал необходимой для шотландского лэрда. В 1826 году, когда он беззаботно работал над Вудстоком, наступил крах. Даже огромные доходы от всех этих популярных романов не могли больше поддерживать на плаву жалкое дело Баллантайна, и фирма обанкротилась после многих лет неэффективного управления. Хотя Скотт был молчаливым партнёром, он взял на себя всю ответственность и в пятьдесят пять лет, больной, страдающий, оставив позади все свои лучшие работы, оказался перед лицом долга в более чем полмиллиона долларов. Фирма могла легко пойти на компромисс с кредиторами, но Скотт и слышать не хотел о законах о банкротстве, которые могли бы его спасти. Он считал весь долг своим личным и решительно взялся за работу, чтобы выплатить каждый пенни. Времена в Англии действительно изменились, когда вместо литературного гения, голодающего до тех пор, пока какой-нибудь богатый покровитель не даст ему пенсию, этот человек, полагаясь только на свое перо, смог уверенно начать зарабатывать огромную сумму денег.
И это один из незамеченных результатов популяризации литературы. Несомненно, Скотт справился бы с этой задачей, будь ему даровано всего несколько лет здоровья. Он всё ещё жил в Эбботсфорде, который предложил своим кредиторам, но они великодушно отказались принять; и за два года, занимаясь разными делами, выплатил около двухсот тысяч долларов своего долга, почти половина из которых была взята за его «Жизнь Наполеона». Вышло новое издание романов Уэверли, имевшее большой финансовый успех, и у Скотта были все основания надеяться, что вскоре он предстанет перед миром, не будучи должен ни пенни, как вдруг он сломался под давлением. В 1830 году случился паралич, от которого он так и не оправился полностью; хотя вскоре он снова принялся за работу, диктуя с великолепным терпением и решимостью. В это время он пишет в дневнике: «Удар, полагаю, ошеломляющий, потому что я его почти не чувствую. Он единичный, но он не вызывает у меня никаких удивлений, как будто у меня было готово лекарство, но, видит Бог, я в море, в темноте, и судно дырявое».
Стоит помнить, что правительства не всегда неблагодарны, и отметить, что, когда стало известно, что путешествие в Италию может улучшить здоровье Скотта, британское правительство немедленно предоставило военный корабль в распоряжение человека, который не водил армии на бойню, а лишь доставлял удовольствие множеству мирных мужчин и женщин своими рассказами. Он посетил Мальту, Неаполь и Рим; но в глубине души он тосковал по Шотландии и повернул домой после нескольких месяцев изгнания. Река Твид, шотландские холмы, деревья Абботсфорда, радостный лай его собак вызвали первый возглас восторга, сорвавшийся с уст Скотта с тех пор, как он отплыл. Он умер в сентябре того же года, 1832, и был похоронен со своими предками в старом аббатстве Драйбург.
СОЧИНЕНИЯ СКОТТА.
=================
Произведения Скотта относятся к тому роду произведений, которые критики охотно обходят стороной, предоставляя каждому читателю право высказать собственное, радостное и непросвещённое мнение. С литературной точки зрения произведения Скотта достаточно несовершенны, если искать недостатки; но стоит помнить, что они были задуманы для того, чтобы доставлять удовольствие, и редко когда не достигают своей цели.
Когда кто-то прочитает волнующий «Мармион» или более живучую «Даму Озера», почувствует героизм крестоносцев в «Талисмане», живописность рыцарства в «Айвенго», благородство души шотландской крестьянской девушки в «Сердце Мидлотиана» и силу шотландской веры в «Старой смертности», тогда его собственное мнение о гении Скотта будет иметь большую ценность, чем все критические статьи, которые когда-либо были написаны.
С самого начала мы должны честно признать, что поэзия Скотта не является художественной в высшем смысле этого слова и что ей не хватает глубоко образных и многозначительных качеств, которые делают поэму самым благородным и долговечным произведением человечества. Мы читаем ее сейчас не ради ее поэтического совершенства, а ради ее поглощающего сюжетного интереса. Тем не менее, она служит достойной цели. «Мармион» и «Владычица озера», которые часто являются первыми длинными поэмами, прочитанными новичком в литературе, почти неизменно приводят к более глубокому интересу к предмету; и многие читатели обязаны этим поэмам введением в прелести поэзии. Поэтому они являются отличным началом для молодых читателей, поскольку они почти наверняка удерживают внимание и косвенно приводят к интересу к другим, лучшим поэмам. Помимо этого, поэзия Скотта отмечена энергией и юношеской самоотдачей; Его интерес заключается в ярких картинах, героических персонажах и, в особенности, в стремительном развитии событий и череде приключений, которые до сих пор захватывают и восхищают нас, как и первых, любознательных читателей. Здесь же встречаются лаконичные описания или отрывки песен и баллад, например, «Песнь о лодке» и «Лохинвар», одни из самых известных в нашей литературе.
В своих романах Скотт явно писал слишком быстро и слишком много. Хотя он был гением первой величины, определение гения как «бесконечной способности к труду» вряд ли ему подходит. К деталям жизни и истории, к тонко выписанным персонажам и к прослеживанию логических последствий человеческих поступков он обычно не склонен. Он набросал персонажа, погружая его в волнующие события, и действие истории ведёт нас затаив дыхание до самого конца. Поэтому его рассказы – это, в лучшем случае, приключенческие истории; именно этот элемент приключений и захватывающего действия, а не изучение характеров, делает Скотта неизменным фаворитом молодёжи. Тот же элемент волнения заставляет зрелых читателей отворачиваться от Скотта к более талантливым романистам, которые обладают большим мастерством в изображении человеческих характеров и способны пробудить или обнаружить романтический интерес к событиям повседневной жизни, а не к захватывающим приключениям.
Несмотря на эти ограничения, важно — особенно в наши дни, когда мы слышим, что Скотт уже вырос, — подчеркнуть четыре примечательных вещи, которых он достиг.
(1) Он создал исторический роман; и все романисты прошлого века, которые черпали вдохновение в истории для своих персонажей и событий, являются последователями Скотта и признают его мастерство.
(2) Его романы отличаются огромным масштабом, охватывают широкий спектр событий и затрагивают скорее общественные, чем личные интересы. Поэтому, за исключением «Ламмермурской невесты», любовная линия в его романах, как правило, бледна и слаба; но борьба и страсти больших партий изображены великолепно. Достаточно лишь взглянуть на названия его романов, чтобы увидеть, как героическая сторона истории на протяжении более шестисот лет находит выражение на его страницах; и все партии этих шести столетий — крестоносцы, ковенантеры, кавалеры, круглоголовые, паписты, евреи, цыгане, мятежники — возрождаются к жизни, борются или дают обоснование своей вере. Ни один другой романист в Англии, и только Бальзак во Франции, не приближается к Скотту по размаху своих повествований.
(3) Скотт был первым романистом на любом языке, сделавшим сцену существенным элементом действия. Он знал Шотландию и любил ее; и едва ли найдется событие в любом из его шотландских романов, в котором мы не дышим самой атмосферой места и не чувствуем присутствия ее вересковых пустошей и гор. Более того, место, как правило, так хорошо выбрано и описано, что действие кажется почти результатом естественной среды. Возможно, самая поразительная иллюстрация этой гармонии между сценой и событием находится в «Старой смертности», где Мортон приближается к пещере старого Ковенанта и где духовный ужас, внушенный борьбой фанатика с воображаемыми демонами, параллелен физическому ужасу залива и ревущего потока, перекинутого через скользкий ствол дерева.
Второй пример той же гармонии сцены и события – встреча оружия и идеалов Востока и Запада, когда два воина сражаются в знойной пустыне, а затем вместе едят хлеб в прохладной тени оазиса, как описано в первой главе «Талисмана». Третий пример – захватывающая любовная сцена, где раненый Айвенго лежит, в ярости от своей беспомощности, в то время как кроткая Ребекка попеременно скрывает и открывает свою любовь, описывая ужасный штурм замка, происходящий под её окном. Его мысли всецело поглощены битвой, её – любимым человеком; и оба они естественны, и оба именно того, чего мы ожидаем в сложившихся обстоятельствах. Это лишь яркие примеры того, что во всех своих произведениях Скотт стремится сохранить идеальную гармонию между сценой и действием.
(4) Главная претензия Скотта на величие заключается в том, что он был первым романистом, воссоздавшим прошлое; что он изменил всё наше представление об истории, сделав её не просто пересказом сухих фактов, а сценой, на которой живые мужчины и женщины играли свои роли. Критика Карлейля здесь как нельзя более уместна: «Эти исторические романы научили истине… неизвестной историкам: прошедшие века мира были заполнены живыми людьми, а не протоколами, государственными документами, спорами и абстрактными представлениями о людях». Не только страницы истории, но и все холмы и долины его любимой Шотландии полны живых персонажей – лордов и леди, солдат, пиратов, цыган, проповедников, школьных учителей, членов кланов, судебных приставов, вассалов – вся Шотландия перед нашими глазами, в самой реальности жизни. Удивительно, что при таком обилии персонажей Скотт ни разу не повторяется. Естественно, он чувствует себя как дома в Шотландии, среди простых людей. Романтический интерес самого Скотта к феодализму заставлял его изображать своих лордов слишком уж величественными; его аристократки обычно бескровны, чопорны, раздражающи, говорят как книги и позируют, словно фигуры на старинном гобелене. Но когда он описывает таких персонажей, как Джини Динс в «Сердце Мидлотиана» и старый член клана Эван Ду в «Уэверли», мы понимаем самую суть шотландской женственности и мужественности.
Возможно, стоит сказать, или, скорее, повторить, ещё кое-что о бессмертном творчестве Скотта. Он всегда здравомыслящий, целостный, мужественный и вдохновляющий. Мы лучше понимаем основополагающее благородство человеческой жизни, и мы сами становимся лучше благодаря тому, что он написал.
ДЖОРДЖ ГОРДОН, ЛОРД БАЙРОН (1788-1824)
======================================
У Байрона и его поэзии есть две различные стороны: одна хорошая, другая плохая; и те, кто пишет о нём, обычно описывают одну или другую в превосходной степени. Так, один критик говорит о его «великолепном и непреходящем совершенстве искренности и силы», другой – о его «безвкусном шарлатанстве, грохоте духовых инструментов и напыщенном бахвальстве». Поскольку оба критика в основе своей правы, мы не будем здесь пытаться примирить их разногласия, возникающие из-за того, что мы рассматриваем одну сторону натуры и поэзии этого человека, исключая другую. До изгнания из Англии в 1816 году Байрон производил общее впечатление человека, ведущего беспорядочный образ жизни, выдающего себя за романтического героя, выставляющего себя гораздо хуже, чем он есть на самом деле, и получающего удовольствие от шокирования не только условностей, но и идеалов английского общества. Его поэзия этого первого периода, как правило, хотя и не всегда, поверхностна и неискренна в мыслях, а также декламаторна или напыщенна в выражениях. После изгнания и встречи с Шелли в Италии мы наблюдаем постепенное улучшение, отчасти благодаря влиянию Шелли, а отчасти благодаря его собственным зрелым размышлениям и опыту. Создаётся впечатление, что это разочарованный человек, осознавший свою истинную сущность, и, несмотря на цинизм и пессимизм, по крайней мере честен в своём несчастливом взгляде на общество. Его поэзия этого периода в целом менее поверхностна и риторична, и хотя он всё ещё открыто демонстрирует свои чувства, он часто удивляет нас своей мужественностью и искренностью. Так, в третьей песне «Чайльд Гарольда», написанной сразу после изгнания, он говорит:
В лето моей юности я пел об одном,
Странствующем изгое из собственной тьмы
и когда мы дочитываем до конца великолепную четвертую песню — с ее поэтическим чувством природы и волнующим ритмом, который захватывает и удерживает читателя, как военная музыка, — мы откладываем книгу с глубочайшим сожалением, что этот одаренный человек посвятил так много своего таланта описанию пустяковых или нездоровых интриг и выдаче себя за героя собственных стихов.
Настоящая трагедия жизни Байрона заключается в том, что он умер именно тогда, когда начал искать себя.
ЖИЗНЬ.
=====
Байрон родился в Лондоне в 1788 году, за год до Французской революции. Мы лучше поймём его и будем судить о нём снисходительнее, если вспомним о порочной семье, из которой он произошёл. Его отец был распутным мотом и сквернословом; мать – шотландской наследницей, страстной и неуравновешенной. Отец бросил жену, промотав её состояние; и мальчика воспитывала мать, которая «то баловала, то ругала» его. На одиннадцатом году жизни, после смерти двоюродного деда, он стал наследником Ньюстедского аббатства и баронского титула одного из старейших домов Англии. Он был необыкновенно красив; а хромота, вызванная деформацией стопы, придавала его облику трогательный оттенок. Всё это, вместе с его общественным положением, псевдогероической поэзией и разгульной жизнью, которую он умудрялся окутывать завесой романтической тайны, делало его магнитом, притягивающим множество легкомысленных юношей и глупых женщин, которые делали путь к падению лёгким и быстрым для того, чьи наклонности вели его в этом направлении. Естественно, он был великодушен и легко поддавался привязанности. Поэтому он во многом жертва собственной слабости и неудачного окружения.
В школе Харроу и в Кембриджском университете Байрон вёл неуравновешенную жизнь, больше отдаваясь определённым видам спорта, к которым его не ограничивала хромота, чем книгам и учёбе. Его школьная жизнь, как и младенчество, печально отмечена тщеславием, насилием и бунтом против любой формы власти; однако и она не была лишена и часов благородства и щедрости. Скотт описывает его как «человека подлинной доброты сердца и самых добрых и лучших чувств, которые были безжалостно загублены его глупым презрением к общественному мнению». Во время учебы в Кембридже Байрон опубликовал свой первый сборник стихов «Часы праздности» в 1807 году. Резкая критика сборника в «Эдинбургском обозрении» задела тщеславие Байрона и вызвала в нем бурную ярость, результатом которой стала ныне знаменитая сатира под названием «Английские барды и шотландские критики», в которой не только его враги, но и Скотт, Вордсворт и почти все литераторы его времени были высмеяны в героических двустишиях в духе «Дунсиады» Поупа.
Справедливо будет сказать, что впоследствии он подружился со Скоттом и другими, кого он оскорблял без всякого повода; и интересно отметить, учитывая его собственную романтическую поэзию, что он осудил всех мастеров романтизма и принял искусственные стандарты Поупа и Драйдена. Двумя его любимыми книгами были Ветхий Завет и томик стихов Поупа. О последнем он говорит: «Его имя — величайшее в поэзии… все остальные — варвары».
В 1809 году Байрон, которому был всего двадцать один год, отправился в путешествие по Европе и Востоку. Поэтическим результатом этой поездки стали первые две песни «Паломничества Чайльд-Гарольда» с их знаменитыми описаниями романтических пейзажей. Это произведение мгновенно сделало его популярным, и его слава полностью затмила славу Скотта. Как он сам говорит: «Однажды утром я проснулся и обнаружил себя знаменитым», и вскоре он величает себя «великим Наполеоном царства рифмы». Хуже всего в Байроне в то время была его неискренность, постоянное стремление выдавать себя за героя своих стихов. Его лучшие произведения переводились, и слава распространялась по континенту почти так же быстро, как и по Англии. Даже Гёте был обманут и заявил, что человек столь замечательного характера никогда прежде не появлялся в литературе и никогда больше не появится. Теперь, когда мишура спала, и мы можем беспристрастно судить об этом человеке и его творчестве, мы видим, как легко даже критики той эпохи поддавались романтическим порывам.
Поклонение Байрону в Англии длилось всего несколько лет. В 1815 году он женился на мисс Милбэнк, английской наследнице, которая внезапно покинула его год спустя. С присущей женщине сдержанностью она хранила молчание; но публика не замедлила придумать множество причин для расставания. Это, в сочетании с тем фактом, что мужчины начали проникать сквозь завесу романтической тайны, которой Байрон себя окружил, и обнаружили под ней довольно дерзкого идола, настроило общественное мнение против него. Он покинул Англию под гнетом недоверия и разочарования в 1816 году и больше не возвращался. Восемь лет он провел за границей, в основном в Италии, где общался с Шелли до трагической гибели последнего в 1822 году. Его дом всегда был местом встреч революционеров и недовольных, называвших себя патриотами, которым он слишком доверял и с которыми щедро делился своими деньгами.
Как ни странно, он, слишком легко доверяя людям, не питал никакой веры в человеческое общество или правительство и писал в 1817 году: «Я упростил свою политику до полного отвращения ко всем существующим правительствам». Во время изгнания он закончил «Чайльд Гарольда», «Шильонского узника», драмы «Каин и Манфред» и множество других произведений, в некоторых из которых, как, например, в «Дон Жуане», он с удовольствием мстил своим соотечественникам, высмеивая всё то, что они считали самым святым.
В 1824 году Байрон отправился в Грецию, чтобы пожертвовать собой и значительной частью своего состояния, чтобы помочь этой стране в борьбе за свободу против турок. Насколько далеко его завело желание выдать себя за героя, а насколько – некий неистовый дух викинга, который, безусловно, был в нём, – мы никогда не узнаем. Греки приняли его и сделали своим вождём, и на несколько месяцев он оказался в центре жалкой ссоры, полной лжи, эгоизма, неискренности, трусости и интриг, вместо героической борьбы за свободу, которую он предвкушал. Он умер от лихорадки в Миссолонги в 1824 году. Одно из его последних стихотворений, написанное там в тридцать шестой день рождения, за несколько месяцев до смерти, выражает его собственный взгляд на свою несчастливую жизнь:
Дни мои в желтом листе,
Цветы и плоды любви исчезли:
Червь, язва и горе
Одни мои.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ БАЙРОНА.
====================
Читая Байрона, следует помнить, что он был разочарованным и озлобленным человеком, не только в личной жизни, но и в своих ожиданиях всеобщего преображения человеческого общества. Изливая свои чувства, главным образом в поэзии, он является наиболее выразительным писателем своего времени, выражающим недовольство множества европейцев, разочарованных неспособностью Французской революции создать совершенно новую форму правления и общества.
Тому, кто хочет постичь весь размах гения и поэзии Байрона, стоит начать с его первого произведения, «Часов праздности», написанного им в юности, в университете. В этом томе очень мало поэзии, лишь поразительная лёгкость рифмы, смягчённая беззаботным духом поэтов-кавалеров; но как откровение самого Байрона он замечателен.
В тщеславном и поверхностным предисловии он заявляет, что поэзия для него – всего лишь праздный эксперимент, и что это его первая и последняя попытка развлечься в этом направлении. Любопытно, что, отправляясь в Грецию в своё последнее, роковое путешествие, он снова высмеивает литературу и говорит, что поэт – «простой болтун». Именно это презрение к искусству, которое только и делает его знаменитым, вызывает наше глубочайшее разочарование. Даже в его великолепных отрывках, в восторженных описаниях природы или утончённой любви индуски, его творчество часто омрачено жалким каламбуром или дешёвой буффонадой, что портит наше первое прекрасное впечатление от его поэзии.
Поздние тома Байрона, «Манфред и Каин», один из которых представляет собой любопытную и, возможно, неосознанную пародию на «Фауста», а другой – на «Потерянный рай», – являются двумя его наиболее известными драматическими произведениями. Помимо вопроса об их поэтической ценности, они интересны тем, что выражают чрезмерный индивидуализм Байрона и его бунт против общества. Самые известные и читаемые произведения Байрона – «Мазепа», «Шильонский узник» и «Паломничество Чайльд-Гарольда». Первые две песни «Чайльд-Гарольда» (1812), пожалуй, читаются чаще, чем любые другие произведения того же автора, отчасти из-за их мелодичного стиха, отчасти из-за описаний мест, связанных с путешествиями по Европе; но последние две песни (1816–1818), написанные после его изгнания из Англии, более искренни и во всех отношениях лучше выражают зрелый гений Байрона. Во всех его произведениях разбросаны великолепные описания природных пейзажей и изысканные стихи о любви и отчаянии; однако они смешаны с такой долей напыщенности и риторики, а также со многими нездоровыми вещами, что новичку лучше ограничиться небольшим томом тщательно подобранных отрывков.
Байрона часто сравнивают со Скоттом, поскольку он дал нам Европу и Восток, так же как Скотт дал нам Шотландию и ее народ; но хотя определенное сходство в размахе и стремительности стихов и есть, оно поверхностно, а глубинная разница между двумя поэтами так же велика, как между Теккереем и Бульвер-Литтоном. Скотт хорошо знал свою страну — ее холмы и долины, которые интересны как обитель живых и достойных любви мужчин и женщин. Байрон претендовал на знание тайной, нездоровой стороны Европы, которая обычно скрывается во тьме; но вместо того, чтобы дать нам разнообразие живых людей, он так и не избавился от своего собственного неуравновешенного и эгоистичного «я». Все его персонажи, в «Каине», «Манфреде», «Корсаре», «Гяуре», «Чайльд Гарольде», «Дон Жуане», — это утомительные повторения самого себя — тщеславного, разочарованного, циничного человека, не находящего ничего хорошего ни в жизни, ни в любви, ни в чем-либо еще. Разумеется, при таком характере он совершенно не способен изобразить настоящую женщину. Байрон остаётся верен только природе, особенно в её великолепных проявлениях; и его изображения ночи, бури и океана в «Чайльд-Гарольде» непревзойдённы в нашем языке.
ПЕРСИ БИСШИ ШЕЛЛИ (1792-1822)
=============================
Сделай меня своей лирой, подобной лесной:
Что, если мои листья падают, как его собственные?
Шум твоих могучих гармоний
Возьмёт у обоих глубокий, осенний тон,
Хоть и сладкий в печали. Будь, дух неистовый,
Мой дух! Будь мной, стремительный!
В этом фрагменте из «Оды западному ветру» мы видим намёк на собственный дух Шелли, отражённый во всей его поэзии. Сам дух природы, который взывает к нам в ветре и облаках, закате и восходе луны, словно овладевал им порой и делал его излюбленным инструментом мелодии. В такие моменты он – истинный поэт, и его творчество непревзойдённо. В других случаях, к сожалению, Шелли присоединяется к Байрону в тщетном бунте против общества. Его поэзия, как и его жизнь, разделяется на два различных настроения. В одном он – яростный реформатор, стремящийся ниспровергнуть наши нынешние институты и поторопить тысячелетие, превратив его из медленного шага в галоп. Из этого настроения вытекает большинство его более длинных стихотворений, таких как «Королева Маб», «Восстание ислама», «Эллада» и «Атласская ведьма», которые представляют собой довольно резкие диатрибы против правительства, священников, брака, религии и даже Бога, каким его представляли себе люди. В ином настроении, которое находит выражение в Аласторе, Адонаисе и его замечательных стихах, Шелли подобен страннику, следующему за смутным, прекрасным видением, вечно печальному и вечно неудовлетворённому. В этом последнем настроении он глубоко взывает ко всем людям, познавшим, что значит следовать за недостижимым идеалом.
ЖИЗНЬ ШЕЛЛИ.
============
Существует три типа людей, которые видят видения, и все три представлены в нашей литературе.
Первый — это просто мечтатель, вроде Блейка, который спотыкается о реальный мир, не замечая его, и счастлив в своих видениях.
Второй — провидец, пророк, вроде Лэнгленда или Уиклифа, который видит видение и тихонько работает, понятными людям способами, чтобы сделать существующий мир немного более похожим на идеальный, который он видит в своём видении.
Третий, который появляется во многих обличьях — как визионер, энтузиаст, радикал, анархист, революционер, называйте его как хотите, — видит видение и тут же начинает рушить все человеческие институты, созданные медленным трудом веков, просто потому, что они, кажется, мешают его мечте.
К последнему классу принадлежит Шелли, человек, постоянно находящийся в состоянии войны с нынешним миром, мученик и изгнанник просто из-за своей неспособности сочувствовать людям и обществу такими, какие они есть, и из-за своего собственного ошибочного суждения о ценности и цели видения.
Шелли родился в Филд-Плейс, близ Хоршема, графство Сассекс, в 1792 году. Как по отцовской, так и по материнской линии он происходил из старинных знатных родов, прославившихся в политической и литературной истории Англии. С детства он, подобно Блейку, жил в мире фантазий, настолько реальных, что некоторые воображаемые драконы и безголовые существа из соседнего леса держали его и его сестёр в состоянии тревожного ожидания. Он быстро учился, впитывал классические произведения словно интуитивно и, не удовлетворившись обычными методами обучения, похоже, стремился, подобно Фаусту, к общению с духами, как это показано в его «Гимне интеллектуальной красоте»:
Будучи ещё мальчишкой, я искал призраков и мчался
Через множество подслушивающих комнат, пещер и развалин
И звёздных лесов, робкими шагами преследуя
Надежды на возвышенную беседу с усопшими.
Первая частная школа Шелли, которой руководил суровый шотландский учитель, с её порками и общей жестокостью, казалась ему смесью ада и тюрьмы; и его активное восстание против существующих институтов было в самом разгаре, когда в двенадцать лет он поступил в знаменитую подготовительную школу Итона. Он был хрупким, нервным, удивительно чувствительным мальчиком, обладавшим удивительной физической красотой; и, подобно Кауперу, он терпел мучения от рук своих грубых одноклассников. В отличие от Каупера, он был позитивным, злопамятным и храбрым до безрассудства; душа и тело восстали против тирании; и он тут же организовал восстание против жестокой системы пожизненного заключения. «Безумный Шелли» – прозвали его мальчишки и гнали его, как собак, вокруг маленького енота, который дерётся и кричит, что не слушается, до самого конца. В этом мире каждый находит то, что ищет, и неудивительно, что Шелли после своего опыта в Итоне находил причины для восстания во всех существующих формах человеческого общества и что он оставил школу, «чтобы воевать среди человечества», как он говорит о себе в «Восстании ислама».
Его университетские годы – лишь повторение прежнего опыта. Будучи студентом Оксфорда, он прочитал несколько отрывков из философии Юма и тут же опубликовал брошюру под названием «Необходимость атеизма». Это было грубое, глупое сочинение, и Шелли рассылал его по почте всем, кого оно могло оскорбить. Естественно, это привело к конфликту с властями, но Шелли не желал слушать доводы разума и давать объяснения, за что и был исключён из университета в 1811 году.
Брак Шелли оказался ещё более неудачным. Живя в Лондоне на карманные деньги щедрой сестры, некая юная школьница Гарриет Уэстбрук увлеклась грубыми революционными доктринами Шелли. Она быстро бросила школу, посчитав себя частью всеобщего мятежа, и отказалась возвращаться или даже слушать родителей по этому вопросу. Получив образование от Шелли, она положилась на его защиту; и эта неуравновешенная пара вскоре поженилась, как они сами выразились, «из уважения к анархическому обычаю». Двое младенцев уже объявили о бунте против института брака, который они предложили заменить доктриной избирательного свойства. Два года они скитались по Англии, Ирландии и Уэльсу, живя на небольшое пособие от отца Шелли, лишившего сына наследства из-за его необдуманного брака. Вскоре пара рассталась, и два года спустя Шелли, крепко подружившись с неким Годвином, лидером молодых энтузиастов и проповедником анархии, вскоре доказал свою веру в теории Годвина, сбежав с его дочерью Мэри. Это печальная история, и подробности, пожалуй, лучше забыть. Следует помнить, что в Шелли мы имеем дело с трагическим сочетанием возвышенности и легкомыслия. Байрон писал о нём: «Самый кроткий, самый любезный и наименее мирской человек, которого я когда-либо встречал!»
Отчасти под влиянием всеобщей враждебности к нему, отчасти из-за слабого здоровья, Шелли отправился в Италию в 1818 году и больше не возвращался в Англию. После скитаний по Италии он наконец обосновался в Пизе, любимой многими английскими поэтами, – прекрасной, сонной Пизе, где в самый оживлённый час дня из окна видна главная улица, и единственным живым существом, которое можно увидеть, является лениво дремлющий осёл, голова которого находится в тени, а тело – на солнце.
Здесь были написаны его лучшие стихи, и здесь он нашёл утешение в дружбе с Байроном, Хантом и Трелони, которые навсегда связаны с итальянской жизнью Шелли. Он по-прежнему враждебно относился к английским общественным институтам; но жизнь – хороший учитель, и то, что Шелли смутно осознавал ошибочность своего бунтарства, видно по нарастающей грусти его поздних стихов:
О мир, о жизнь, о время!
На чьи последние ступени я поднимаюсь,
Дрожа перед тем, где я стоял прежде;
Когда же вернётся слава твоего расцвета?
Нет больше — о, никогда больше!
Из дня и ночи
Радость улетела;
Свежая весна, и лето, и зимний зной,
Пробудите моё слабое сердце печалью, но также и радостью.
Нет больше — о, никогда больше!
В 1822 году, когда Шелли было всего тридцать лет, он утонул во время плавания на небольшой лодке у берегов Италии. Спустя несколько дней его тело выбросило на берег, и его друзья, Байрон, Хант и Трелони, кремировали его близ Виареджо. Его прах, со всем почтением, можно было бы предать ветрам, которые он любил и которые были символом его беспокойного духа; вместо этого он обрёл упокоение рядом с могилой Китса, на Английском кладбище в Риме. Редко кто из посетителей этого места теперь не встречает английских и американских посетителей, молча стоящих перед многозначительной надписью: «Сердце Сердец».
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ШЕЛЛИ.
====================
Как лирический поэт, Шелли — один из величайших гениев нашей литературы; и читателю будет полезно начать со стихотворений, которые раскрывают его лучшие стороны. «Облако», «Жаворонок», «Ода западному ветру», «Ночь» — подобные стихотворения, несомненно, побудят читателя к поиску среди разнообразных произведений Шелли того, что «достойно памяти».
Читая длинные стихотворения Шелли, следует помнить, что в этом поэте живут два разных человека: один – странник, ищущий идеальную красоту и вечно неудовлетворённый; другой – неуравновешенный реформатор, стремящийся к ниспровержению существующих институтов и установлению всеобщего счастья. «Аластор, или Дух одиночества» (1816) – безусловно, лучшее выражение более глубокого настроения Шелли. Здесь мы видим его беспокойно скитающимся по бескрайним просторам природы в поисках возлюбленной, которая удовлетворит его любовь к красоте.
Здесь Шелли – поэт восхода луны и нежных, изысканных фантазий, которые невозможно выразить словами. Очарование поэмы заключается в череде сказочных образов; но она совершенно не передает ощущения реальности. Она была написана, когда Шелли, после долгой борьбы, начал понимать, что мир слишком силён для него. Поэтому «Аластор» – это исповедь поэта не просто в неудаче, но в неугасимой надежде на нечто лучшее, что грядёт.
«Освобождённый Прометей» (1818–1820), лирическая драма, – лучшее произведение революционного энтузиазма Шелли и самое характерное из всех его стихотворений. Философия Шелли (если можно так назвать безнадёжную мечту) была любопытным порождением Французской революции, а именно, что только существующая тирания государства, церкви и общества мешает человеку достичь совершенного счастья. Естественно, Шелли, как и многие другие энтузиасты, забыл, что церковь, государство и общественные законы не были навязаны человеку извне, а были созданы им самим для удовлетворения его потребностей. В поэме Шелли герой, Прометей, олицетворяет само человечество – справедливое и благородное человечество, скованное и терзаемое Юпитером, который здесь олицетворяет человеческие установления. В свое время Демогоргон (так Шелли называет Необходимость) свергает тирана Юпитера и освобождает Прометея (Человечество), который в настоящее время объединен с Азией, духом любви и добра в природе, в то время как Земля и Луна соединяются в брачном гимне, и все обещает, что они будут жить вместе и счастливо вечно.
Шелли здесь смотрит вперёд, а не назад, в Золотой век, и является пророком науки и эволюции. Если сравнить его Титана с похожими персонажами в «Фаусте» и «Каине», то обнаружится интересное различие: в то время как Титан Гёте образован и самостоятелен, а Титан Байрона стоичен и отчаялся, герой Шелли терпелив под пытками, видя помощь и надежду за своими страданиями. И он женится на Любви, чтобы земля была населена высшими существами, которые заменят братской любовью нынешние законы и условности общества. Такова его философия; но начинающий прочтет эту поэму не столько из-за её мысли, сколько из-за юношеского энтузиазма, из-за чудесных образов и особенно из-за её воздушной музыки.
Возможно, стоит добавить, что «Прометей» был и, вероятно, всегда будет поэмой для избранных, способных оценить её особую, духовную красоту. В своём чисто языческом мировоззрении он, напротив, напоминает христианскую философию Мильтона из «Возвращённого рая».
Революционные произведения Шелли – «Королева Маб» (1813), «Восстание ислама» (1818), «Эллада» (1821) и «Атласская ведьма» (1820) – следует оценивать примерно так же, как и «Освобождённого Прометея». В основном это обличения религии, брака, королевской и жреческой власти, совершенно непрактичные с точки зрения планов реформ, но изобилующие отрывками изысканной красоты, ради которых их и стоит прочитать. В драме «Ченчи» (1819), основанной на мрачной итальянской истории, Шелли впервые и единственный раз обращается к реальности. Героиня Беатриче, доведённая до отчаяния чудовищным злодеянием отца, убивает его и в результате подвергается смертной казни. Она – единственная из персонажей Шелли, кто кажется нам вполне человеком.
Совсем иной по характеру является «Эпипсихидион» (1821), рапсодия, воспевающая платоническую любовь, самое неосязаемое и потому одно из самых характерных произведений Шелли. Она была вдохновлена ;;прекрасной итальянской девушкой Эмилией Вивиани, которую против воли отправили в монастырь, и в которой Шелли воображал, что нашёл свой долгожданный идеал женственности. Вместе с ним следует читать «Адонаис» (1821), самое известное из всех длинных стихотворений Шелли. «Адонаис» — это прекрасный траур, или песнь скорби, по смерти поэта Китса. Даже в своём горе Шелли всё ещё сохраняет чувство нереальности и призывает множество тёмных аллегорических образов — Печальную Весну, Часы Плача, Мрак, Великолепие, Судьбы — все они объединены в оплакивании утраты любимого человека. Вся поэма представляет собой череду картин сновидений, изысканно прекрасных, какие мог вообразить только Шелли; она занимает почетное место наряду с «Лицидом» Мильтона и «Памятью» Теннисона как одна из трех величайших элегий на нашем языке.
В своей интерпретации природы Шелли напоминает Вордсворта, как по сходству, так и по контрасту. Для обоих поэтов все природные объекты являются символами истины; оба считают природу пронизанной великой духовной жизнью, которая оживляет всё сущее; но в то время как Вордсворт находит дух мысли, а значит, и общности между природой и душой человека, Шелли находит дух любви, существующий главным образом для собственного удовольствия; и поэтому «Облако», «Жаворонок» и «Западный ветер», три из самых прекрасных стихотворений на нашем языке, не несут в себе определённого послания человечеству. В своём «Гимне интеллектуальной красоте» Шелли больше всего похож на Вордсворта; но в своём «Чувствительном растении» с его тонким символизмом и образностью он не похож ни на кого в мире, кроме себя самого. Сравнение иногда бывает превосходным; И если мы сравним изысканный «Плач» Шелли, начинающийся со слов «О мир, о жизнь, о время», с «Намёками на бессмертие» Вордсворта, мы, возможно, лучше поймём обоих поэтов. Оба стихотворения пробуждают множество счастливых воспоминаний юности; оба выражают очень реалистичное настроение мгновения; но если красота одного лишь огорчает и удручает, то красота другого вселяет в нас нечто от веры и оптимизма самого поэта. Одним словом, Вордсворт нашёл себя в природе, а Шелли потерял себя в ней.
ДЖОН КИТС (1795-1821)
=====================
Китс был не только последним, но и самым совершенным из романтиков. В то время как Скотт просто рассказывал истории, Вордсворт реформировал поэзию или отстаивал моральный закон, Шелли отстаивал невозможные реформы, а Байрон выражал собственный эгоизм и политическое недовольство своего времени, Китс жил вдали от людей и от любых политических мер, поклоняясь красоте, словно ревностный верующий, вполне довольный тем, что пишет о том, что у него на сердце, или отражает великолепие природного мира, каким он его видел или представлял себе. Более того, у него была новая идея о том, что поэзия существует сама по себе и терпит убытки, будучи преданной философии, политике или, по сути, любому делу, великому или малому. Как он говорит в «Ламии»:
… Разве не все чары разве не исчезают
От одного лишь прикосновения холодной философии?
Однажды на небесах была ужасная радуга:
Мы знаем её нить, её текстуру; ей дана
В скучном каталоге обыденных вещей.
Философия подрежет крылья ангелу,
Покорит все тайны правилом и линией,
Опустошит заколдованный воздух и затмит мой —
Расплетёт радугу, как она когда-то сотворила
Нежная Ламия растворится в тени.
Отчасти благодаря этому высокому идеалу поэзии, отчасти потому, что он изучал и бессознательно подражал греческой классике и лучшим произведениям елизаветинцев, последний небольшой сборник стихов Китса не имеет себе равных среди произведений любого из его современников. Если вспомнить, что все его произведения были опубликованы за три коротких года, с 1817 по 1820, и что он умер всего в возрасте двадцати пяти лет, мы должны признать его самой многообещающей фигурой начала девятнадцатого века и одной из самых замечательных в истории литературы.
Жизнь.
======
Преданность Китса красоте и поэзии тем более примечательна, учитывая его скромное происхождение.
Джон Китс родился в семье содержателя платной конюшни (пункта по продаже лошадей)в в конюшне гостиницы "Лебедь и Обруч" в Лондоне в 1795 году. Достаточно прочитать грубые описания конюшен у наших первых романистов или даже у Диккенса, чтобы понять, как мало в такой атмосфере могло способствовать развитию поэтического дара. До того, как Китсу исполнилось пятнадцать лет, оба родителя умерли, и он вместе с братьями и сестрами оказался под опекой попечителей.
Первым делом, по-видимому, они забрали Китса из школы в Энфилде и определили его учеником к хирургу в Эдмонтоне. Пять лет он прослужил учеником, а ещё два года был помощником хирурга в больницах; но, хотя и был достаточно искусен, чтобы заслужить одобрение, он не любил свою работу и думал о другом. «На днях, во время лекции, — сказал он другу, — в комнату проник солнечный луч, а вместе с ним и целая стая существ, парящих в лучах; и я отправился с ними к Оберону и в страну фей». Экземпляр «Королевы фей» Спенсера, подаренный ему Чарльзом Кауденом Кларком, стал главной причиной его отстранённости. Он оставил свою профессию в 1817 году и в начале того же года опубликовал свой первый том «Стихотворений». Он был достаточно скромным по духу, как и его второй том, «Эндимион» (1818); Однако это не предотвратило жестоких нападок на автора и его творчество со стороны самозваных критиков из Blackwood's Magazine и Quarterly. Часто утверждается, что дух и амбиции поэта были сломлены этими нападками; но Китс был человеком сильного характера, и вместо того, чтобы ссориться с рецензентами или быть раздавленным их критикой, он спокойно работал над идеей создания поэзии, которая будет жить вечно. Как говорит Мэтью Арнольд, Китс «был тверд и железен», и в следующем томе он достиг своей цели, заставив замолчать недоброжелательную критику.
В течение трёх лет, в течение которых Китс писал свои стихи, он жил преимущественно в Лондоне и Хэмпстеде, но временами скитался по Англии и Шотландии, останавливаясь на короткие периоды на острове Уайт, в Девоншире и в Озёрном крае, стремясь поправить своё здоровье, и особенно здоровье своего брата. Его болезнь началась с сильной простуды, но вскоре переросла в чахотку; и к этой печали добавилась ещё одна — его любовь к Фанни Брон, с которой он был помолвлен, но на которой не мог жениться из-за своей бедности и прогрессирующей болезни. Если вспомнить всё это личное горе и суровую критику литераторов, то последний небольшой том, «Ламия, Изабелла, канун святой Агнессы и другие стихотворения» (1820), наиболее показателен, поскольку показывает не только замечательный поэтический дар Китса, но и его прекрасный и неукротимый дух.
Шелли, поражённый красотой и многообещающим «Гиперионом», послал автору великодушное приглашение приехать в Пизу и жить с ним; но Китс отказался, не испытывая особой симпатии к бунту Шелли против общества. Однако приглашение возымело тот эффект, что обратило мысли Китса к Италии, куда он вскоре и отправился, пытаясь спасти свою жизнь. Он поселился в Риме со своим другом, художником Северном, но умер вскоре после прибытия, в феврале 1821 года. Его могила на протестантском кладбище в Риме до сих пор является объектом паломничества тысяч туристов; ибо среди всех наших поэтов едва ли найдётся другой, чья героическая жизнь и трагическая смерть так трогали бы сердца поэтов и юных энтузиастов.
Творчество Китса.
==================
«Никто, кроме господина, не похвалит нас; и никто, кроме господина, не осудит нас» – эти слова вполне могли бы быть написаны на форзаце каждого тома стихов Китса; ибо никогда не было поэта, более преданного своему идеалу, совершенно независимого от успеха или неудачи. В отличие от своего современника Байрона, который открыто заявлял о презрении к искусству, прославившему его, Китс жил исключительно ради поэзии, и, как отмечал Лоуэлл, добродетель проникала в каждое его произведение. Во всех его произведениях ощущается эта глубокая преданность искусству; также ощущается глубокая неудовлетворенность тем, что дело так далеко отстоит от прекрасной мечты. Так, прочитав перевод Гомера, выполненный Чепменом, он пишет:
Много странствовал я в царстве золота,
И много прекрасных государств и царств видел;
На многих западных островах я побывал.
Которые барды верны Аполлону.
Часто мне рассказывали об одном широком пространстве,
Что густые брови Гомера правили его вотчиной;
Но я никогда не дышал его чистым, безмятежным воздухом.
Пока не услышал, как Чепмен громко и смело заговорил:
Тогда я почувствовал себя наблюдателем небес.
Когда новая планета вплывает в его кругозор;
Или как отважный Кортес, когда с орлиным взором
Он смотрел на Тихий океан – и все его люди
Смотрели друг на друга с дикой догадкой –
Молча на вершине Дариена.
В этом поразительном сонете мы видим намек на высокий идеал Китса и на его печаль из-за собственного невежества, когда он опубликовал свой первый небольшой сборник стихов в 1817 году.
Он не знал греческого языка, но греческая литература поглощала и очаровывала его, когда он видел её отрывочное и несовершенное отражение в английском переводе. Подобно Шекспиру, который также получил лишь скудное школьное образование, он обладал удивительной способностью различать истинный дух классики – способностью, которой были лишены многие великие учёные и большинство «классических» писателей предыдущего столетия, – и поэтому он поставил перед собой задачу отразить на современном английском языке дух древних греков.
Несовершенные результаты этой попытки видны в его следующем томе, «Эндимионе», повествующем о молодом пастухе, возлюбленном богини Луны. Поэма начинается с ярких строк:
Прекрасное – это радость навеки;
Его прелесть возрастает; оно никогда
не обратится в ничто; но всё равно будет
сохранять для нас тихий покой; и сон
полный сладких снов, здоровья и спокойного дыхания.
которые хорошо иллюстрируют дух позднего творчества Китса, с его безупречной отделкой и мелодичностью. В нём много строк и отрывков, достойных цитирования, а его «Гимн Пану» следует читать в связи со знаменитым сонетом Вордсворта, начинающимся со слов «Мир слишком много с нами». Стихотворение обещает быть многообещающим, но в целом довольно хаотично, слишком много орнамента и слишком мало дизайна, как современный дом. О том, что Китс остро ощущал этот недостаток, свидетельствует его скромное предисловие, в котором он говорит об Эндимионе не как о свершившемся деянии, а лишь как о неудачной попытке выразить глубинную красоту греческой мифологии.
Третий и последний том Китса, «Ламия, Изабелла, канун святой Агнессы и другие стихотворения» (1820), – именно с него читателю следует начать знакомство с этим мастером английской поэзии. В нём всего две темы: греческая мифология и средневековый роман. «Гиперион» – великолепный фрагмент, напоминающий первую арку собора, строительство которого так и не было завершено. Его тема – низвержение титанов юным богом солнца Аполлоном. Осознавая свою незрелость и недостаток знаний, Китс отложил этот труд, и только мольбы издателя побудили его напечатать фрагмент вместе с завершенными стихотворениями.
На протяжении всего последнего тома, и особенно в «Гиперионе», очевидно влияние Мильтона, тогда как при чтении «Эндимиона» чаще упоминается Спенсер.
Из всех длинных стихотворений сборника «Ламия» производит самое сильное впечатление. Это история прекрасной волшебницы, которая из змеи превращается в великолепную женщину и наполняет все человеческие чувства восторгом, пока, в результате глупой философии старого Аполлония, она навсегда не исчезает от глаз своего возлюбленного. «Канун святой Агнессы», самое совершенное из средневековых стихотворений Китса, – это не история в стиле метрических романов, а скорее яркая картина романтического настроения, которое порой посещает всех мужчин, чтобы прославить повседневный мир. Как и все произведения Китса и Шелли, оно содержит элемент нереальности; и когда мы читаем в конце:
И они исчезли; да, давным-давно.
Эти влюблённые сбежали в бурю,
Мы словно пробуждаемся ото сна, который и есть единственно возможный финал всех греческих и средневековых фантазий Китса. Однако следует помнить, что ни одна прекрасная вещь, пусть даже и неосязаемая, как сон, не может войти в жизнь человека и оставить его прежним. Здесь весьма показательны слова самого Китса. «Воображение, — сказал он, — можно сравнить со сном Адама; он проснулся и обнаружил, что он сбылся».
Именно по своим коротким стихотворениям Китс известен большинству современных читателей. Среди этих изысканных коротких стихотворений мы упомянем лишь четыре оды: «На греческой урне», «Соловью», «Осени» и «Психее». Они подобны приглашению на пир; читающий их вряд ли будет удовлетворен, пока не познакомится с более изысканной поэзией. Те, кто изучает только «Оду соловью», могут найти в ней четыре характерных черты: любовь к чувственной красоте, лёгкий пессимизм, чисто языческое понимание природы и яркий индивидуализм, характерные для этого последнего из поэтов-романтиков.
Подобно тому, как творчество Вордсворта слишком часто искажается морализаторством, Байрона – демагогом, а Шелли – реформатором, творчество Китса страдает от противоположной крайности – отчуждённости от всех человеческих интересов; настолько, что его часто обвиняют в безразличии к человечеству. Его творчество также критикуют за излишнюю женственность для обычного читателя.
В этой связи следует помнить о трёх вещах.
Во-первых, Китс стремился выразить красоту ради неё самой; что красота так же необходима для нормальной человечности, как правительство или закон; и что чем выше поднимается человек в цивилизованном мире, тем настоятельнее становится его потребность в красоте как награде за труды.
Во-вторых, письма Китса так же красноречивы о человеке, как и его поэзия; и в его письмах, с их человеческим сочувствием, живым интересом к социальным проблемам, юмором и острым пониманием жизни, нет и следа женственности, но, напротив, все признаки сильной и благородной мужественности.
В-третьих, следует помнить, что вся работа Китса была написана за три-четыре года, с небольшой подготовкой, и что, умерев в возрасте двадцати пяти лет, он оставил нам собрание стихов, которое навсегда останется одним из наших самых драгоценных сокровищ. Его часто сравнивают с «чудесным юношей» Чаттертоном, которым он восхищался и памяти которого посвятил своего «Эндимиона». Но хотя оба умерли молодыми, Чаттертон был всего лишь ребёнком, а Китс – во всех отношениях взрослым мужчиной. Бессмысленно предсказывать, что он мог бы сделать, если бы ему досталась такая же долгая жизнь и учёное образование, как Теннисону. В двадцать пять лет его творчество было столь же зрелым, как творчество Теннисона в пятьдесят, хотя эта зрелость напоминает слишком быстрый рост тропического растения, которое под тёплыми дождями и потоками солнечного света пробуждается к жизни, растёт, цветёт за один день и умирает.
Как мы уже говорили, творчество Китса было резко и несправедливо осуждено критиками его времени. Он принадлежал к так называемой поэтической школе кокни, главой которой был Ли Хант, а Проктор и Беддоуз были его коллегами. Даже от Вордсворта и Байрона, которые всегда были готовы рекомендовать куда менее одарённых писателей, Китс не получил ни малейшего одобрения. Подобно молодому Лохинвару, «он ехал безоружным и в полном одиночестве». Шелли, с его искренностью и великодушием, первым признал юный гений, и в своём благородном «Адонаисе» – написанном, увы, как и большинство наших дани уважения, когда объект нашей похвалы уже мёртв – он произнёс первое истинное слово признательности и поместил Китса, которому он, несомненно, принадлежит, в один ряд с нашими величайшими поэтами.
Слава, которой ему было отказано при его печальной жизни, была дарована ему щедро после смерти. Он по праву замыкает список поэтов романтического возрождения, ибо во многих отношениях был лучшим из них. Он, кажется, изучал слова более тщательно, чем его современники, и поэтому его поэтическое выражение, или гармония слова и мысли, в целом более совершенны, чем у них. Больше, чем кто-либо другой, он жил ради поэзии, как благороднейшего из искусств. Больше, чем кто-либо другой, он придавал значение красоте, потому что для него, как показывает его «Греческая урна», красота и истина были едины и неразделимы. И он обогатил всё романтическое движение, добавив к его интересу к повседневной жизни дух, а не букву, классики и елизаветинской поэзии. По этим причинам Китс, как и Спенсер, является поэтом для поэтов; его творчество оказало глубокое влияние на Теннисона и, безусловно, на большинство поэтов нашей эпохи.
2. ПРОЗАИКИ РОМАНТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА
===================================
Помимо великолепных произведений романистов – Вальтера Скотта, которого мы уже рассмотрели, и Джейн Остин, к которой мы ещё вернёмся, – начало XIX века примечательно развитием нового и ценного типа критической прозы. Если не считать отдельные работы Драйдена и Аддисона, можно с уверенностью сказать, что литературная критика в её современном понимании была едва ли известна в Англии до 1825 года. Существовавшая критика, как нам сейчас кажется, была в значительной степени результатом личных мнений или предубеждений. Действительно, мы вряд ли могли ожидать чего-либо иного, пока не была предпринята попытка систематического изучения нашей литературы в целом. В одну эпоху стихотворение считалось хорошим или плохим в зависимости от того, следовало оно или противоречило так называемым классическим правилам; в другую – догматизм доктора Джонсона; в третью – личные суждения Локхарта и редакторов «Edinburgh Review» и «The Quarterly», которые так яростно ругали Китса и поэтов Озёрного края под видом критики. В начале XIX века возникла новая школа критики, которая руководствовалась, с одной стороны, знанием литературы, а с другой – тем, что можно назвать страхом Божиим. Последний элемент проявился в глубоком человеческом сочувствии – сущности романтического течения – и его значение было подытожено Де Квинси, когда он сказал:
«Не сочувствовать — значит не понимать». Эти новые критики, с огромным почтением относясь к мастерам прошлого, всё ещё могли отбросить догматизм и предрассудки, характерные для Джонсона и редакторов журнала, и с сочувствием читать работы нового автора, движимые единственной целью — найти то, что он внёс, или пытался внести, в великолепную совокупность нашей литературы. Кольридж, Хант, Хэзлитт, Лэмб и Де Куинси были лидерами этого нового и чрезвычайно важного направления; и мы не должны забывать о важности новых периодических изданий, таких как основанный в 1820 году «Londen Magazine», в котором Лэмб, Де Куинси и Карлейль нашли своё первое настоящее вдохновение.
О «Biographica Literaria» Кольриджа и его «Лекциях о Шекспире» мы уже говорили. Ли Хант (1784–1859) непрерывно писал более тридцати лет, будучи редактором и эссеистом; и его главной целью, по-видимому, было сделать хорошую литературу известной и оцененной. Уильям Хэзлитт (1778–1830) в длинном цикле лекций и эссе рассматривал любое чтение как своего рода романтическое путешествие в новые и приятные страны. Его работам во многом, наряду с работой Лэмба, был обязан новый интерес к елизаветинской литературе, который так сильно повлиял на последний и лучший сборник поэзии Китса. Для тех, кто интересуется искусством критики и ценит литературу, как Хант, так и Хэзлитт будут полезны для изучения; но мы должны оставить их творчество без внимания и рассмотреть более широкий литературный интерес Лэмба и Де Квинси, которые не просто критиковали труды других, но и создали несколько собственных восхитительных произведений, которые мир бережно поместил среди «вещей, достойных памяти».
ЧАРЛЬЗ ЛЭМБ (1775-1834)
=======================
У Лэмба и Вордсворта мы видим два совершенно разных взгляда на романтическое движение: один показывает влияние природы и одиночества, другой – общества. Лэмб был другом всей жизни Кольриджа, поклонником и защитником поэтического кредо Вордсворта; но в то время как последний жил вдали от людей, довольствуясь природой и изредка читая обществу нравоучительные лекции, Лэмб родился и жил посреди лондонских улиц. Городская толпа, с её удовольствиями и занятиями, бесконечными маленькими комедиями и трагедиями, – вот что интересовало его. По его собственному признанию, когда он останавливался на многолюдной улице, на глаза у него наворачивались слёзы – слёзы чистого удовольствия от изобилия такой прекрасной жизни; и когда он писал, он просто интерпретировал эту многолюдную человеческую жизнь, полную радости и печали, как Вордсворт интерпретировал леса и воды, без всякого желания что-либо изменить или реформировать. Он дал нам лучшие из имеющихся у нас портретов Кольриджа, Хэзлитта, Лэндора, Худа, Каудена Кларка и многих других интересных мужчин и женщин его эпохи; и именно благодаря его проницательности и сочувствию жизнь тех далёких дней кажется нам почти такой же реальной, как если бы мы сами её помнили. Из всех наших английских эссеистов он самый любимый; отчасти благодаря своему тонкому, старомодному стилю и юмору, но ещё больше благодаря той жизнерадостной и героической борьбе с невзгодами, которая, словно приглушённый свет, сияет во всех его произведениях.
ЖИЗНЬ.
======
В самом сердце Лондона есть любопытное, старинное здание, известное как Темпл, — огромное, разбросанное, словно забытое строение, пыльное и безмолвное посреди бесконечного шума городских улиц. Изначально это был капитул тамплиеров, и это навевает нам дух Крестовых походов и Средневековья; но сейчас здание почти полностью отдано под офисы и квартиры лондонских юристов. Именно это странное старое здание больше, чем любое другое, связано с именем Чарльза Лэмба. «Я родился, — говорит он, — и провёл первые семь лет своей жизни в Темпле. Его сады, его залы, его фонтан, его река… вот мои самые ранние воспоминания». Он был сыном бедного клерка, или, скорее, слуги, одного из адвокатов, и младшим из семи детей, лишь трое из которых пережили младенчество.
Из этих троих, Джон, старший, по-видимому, был эгоистичным существом и не принимал никакого участия в героической борьбе брата и сестры. В семь лет Чарльза отправили в знаменитую благотворительную школу «Bluecoat» при больнице Христа. Там он провёл семь лет; здесь же он на всю жизнь подружился с другим бедным, заброшенным мальчиком, которого мир помнит как Кольриджа.
В четырнадцать лет Лэмб покинул благотворительную школу и вскоре устроился клерком в Дом Южного моря. Два года спустя он стал клерком в знаменитом Доме Индии, где проработал тридцать три года, за исключением шести недель зимой 1795-1796 года, проведенных в стенах приюта. В 1796 году сестра Лэмба, Мэри, такая же талантливая и выдающаяся, как и сам Лэмб, сошла с ума и убила свою мать. Долгое время после этой ужасной трагедии она находилась в приюте в Хокстоне; затем, в 1797 году, Лэмб взял ее в свой маленький дом и до конца жизни заботился о ней с нежностью и преданностью, которые стали одной из самых прекрасных страниц в истории нашей литературы. Порой болезнь возвращалась к Мэри, предупреждая о своем грозном приближении; и тогда можно было увидеть брата и сестру, молча идущих, рука об руку, к воротам приюта, с мокрыми от слез щеками. Об этом следует помнить, как и о скромном жилище Лэмба и тяготах его повседневной работы в большом торговом доме, если мы хотим оценить пафос «Старых знакомых лиц» или героизм, который сквозит в самых человечных и самых восхитительных эссе на нашем языке.
Когда Лэмбу исполнилось пятьдесят, Ост-Индская компания, отчасти благодаря его литературной славе, пришедшей после первых «Очерков Элии», а отчасти благодаря тридцати трём годам верной службы, назначила ему достойную пенсию; и, счастливый, как мальчик, отпущенный из школы, он навсегда покинул «Индия-Хаус», чтобы посвятить себя литературному труду. В апреле 1825 года он написал Вордсворту: «Я вернулся домой навсегда во вторник на прошлой неделе — это было словно переход из жизни в вечность». Как ни странно, Лэмб, похоже, теряет силы после освобождения от тяжёлой работы, и его последние очерки, опубликованные в 1833 году, лишены изящества и очарования ранних работ.
Он умер в Эдмонтоне в 1834 году, а его талантливая сестра Мэри быстро погрузилась в пучину, от которой её так долго удерживали его сила и кротость. Ни один литератор не пользовался такой любовью и уважением в узком кругу друзей; и все, кто его знал, свидетельствуют о простоте и доброте, которые любой читатель может найти между строк его эссе.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
=============
Творчество Лэмба естественным образом делится на три периода. Во-первых, это его ранние литературные опыты, включая стихотворения, подписанные «К. Л.», в сборнике «Стихотворения на разные темы» Кольриджа (1796); роман «Розамунд Грей» (1798); поэтическая драма «Джон Вудвил» (1802); и различные другие незрелые произведения в прозе и поэзии. Этот период заканчивается в 1803 году, когда он оставляет газетную работу, особенно публикацию шести шуток, каламбуров и фельетонов ежедневно в газете «Morning Post» по шесть пенсов за штуку. Второй период был в основном посвящён литературной критике; и «Рассказы из Шекспира» (1807), написанные Чарльзом и Мэри Лэмб, причём первый воспроизводит трагедии, а вторая — комедии, можно считать его первым успешным литературным начинанием. Книга была написана в основном для детей; Но брат и сестра так глубоко погрузились в литературу елизаветинского периода, что и молодые, и старые были в восторге от этой новой версии рассказов Шекспира, и «Сказки» до сих пор считаются лучшими в своём роде в нашей литературе. В 1808 году вышел его сборник «Образцы английских драматических поэтов, современных Шекспиру». В нём была продолжена блестящая критическая работа Кольриджа, и он оказал самое заметное влияние на развитие поэтических качеств Китса, что проявилось в его последнем томе.
Третий период включает критические размышления Лэмба о жизни, собранные в его «Очерках Элии» (1823) и «Последних очерках Элии», опубликованных десять лет спустя. Эти знаменитые эссе начались в 1820 году с выходом нового «London Magazine»[232] и продолжались многие годы. Такие темы, как «Диссертация о жареном поросёнке», «Старый фарфор», «Похвала трубочистам», «Несовершенные симпатии», «Глава об ушах», «Мнение миссис Бэттл о висте», «Маккери-Энд», «Благословение перед едой», «Дети снов» и многие другие, были выбраны, казалось бы, случайным образом, но все они привели к восхитительному изображению жизни Лондона, какой она представала тихому маленькому человеку, бродившему незамеченным по его многолюдным улицам.
В первом и последнем упомянутых нами эссе «Диссертация о жареном поросенке» и «Дети мечты» мы видим крайности юмора и пафоса Лэмба.
Стиль всех этих эссе мягкий, старомодный, неотразимо привлекательный. Лэмб особенно любил старых писателей и бессознательно заимствовал стиль из «Анатомии меланхолии» Бёртона, из «Religio Medici» Брауна и у ранних английских драматургов. Но этот стиль стал частью Лэмба благодаря долгому чтению, и он, по-видимому, не мог выразить свою новую мысль, не используя их старые причудливые выражения. Хотя все эти эссе представляют собой критику или оценку жизни его эпохи, все они глубоко личные. Другими словами, они представляют собой превосходный портрет Лэмба и человечества. Без следа тщеславия или самоутверждения Лэмб начинает с себя, с какого-то чисто личного настроения или опыта, и исходя из этого он ведет читателя к тому, чтобы увидеть жизнь и литературу такими, какими их видел он. Именно это чудесное сочетание личных и всеобщих интересов, вместе с редким старым стилем Лэмба и его причудливым юмором, делают его эссе замечательными. Они продолжают лучшие традиции Аддисона и Стила, наших первых великих эссеистов; но их симпатии шире и глубже, а их юмор более восхитителен, чем у всех, предшествовавших им.
ТОМАС ДЕ КВИНСИ (1785-1859)
===========================
У Де Квинси романтический элемент развит ещё сильнее, чем у Лэмба, не только в его критических работах, но и в его эксцентричной и богатой воображением жизни. Он был глубоко образован, даже более образован, чем Кольридж, и был одним из самых проницательных умов своего времени; однако его замечательный интеллект, кажется, всегда подчинялся его страсти к мечтаниям. Как и Лэмб, он был другом и соратником поэтов Озерного края, обосновавшись в старом коттедже Вордсворта в Грасмире почти на двадцать лет. На этом сходство заканчивается, и начинается резкий контраст. Как человек, Лэмб – самый человечный и милый из всех наших эссеистов; в то время как Де Квинси – самый странный и непостижимый. Скромные произведения Лэмба дышат двумя неотъемлемыми качествами: сочувствием и юмором; большинство эссе Де Квинси, обладая в той или иной степени обоими этими качествами, характеризуются главным образом своим блестящим стилем. Жизнь, увиденная глазами Де Квинси, туманна и хаотична, и во всём, что он писал, сквозит предчувствие чего-то сказочного. Даже в «Восстании татар» романтический элемент преобладает, а во многих произведениях Де Квинси элемент нереальности заметнее, чем в поэзии Шелли. К его темам, фактам, идеям и критическим замечаниям мы обычно относимся с подозрением; но его стиль, порой величественный, порой безрассудный, то великолепный, как восточная мечта, то музыкальный, как «Эндимион» Китса, и всегда, даже в самых резких контрастах, демонстрирующий гармонию между идеей и выражением, которой не мог соперничать ни один другой английский писатель, за исключением, пожалуй, Ньюмена. Что бы вы ни говорили о чудесном блеске стиля Де Квинси, вы всё равно выразили истину лишь наполовину. Только стиль делает эти эссе бессмертными.
ЖИЗНЬ.
======
Де Квинси родился в Манчестере в 1785 году. Ни в его отце, преуспевающем торговце, ни в матери, тихой и несимпатичной женщине, мы не видим никаких намёков на почти сверхъестественную гениальность сына. В детстве он был склонен к мечтам, более ярким и интенсивным, но менее прекрасным, чем у молодого Блейка, на которого он очень похож.
В гимназии Бата он проявил поразительные способности и овладел греческим и латынью с такой скоростью, что это пугало его медлительных учителей. В пятнадцать лет он не только читал по-гречески, но и бегло говорил на нём; и один из его изумлённых учителей заметил: «Этот мальчик мог бы ораторствовать перед афинской толпой лучше, чем мы с вами перед англичанами». Из гимназии Манчестера, куда его отправили в 1800 году, он вскоре сбежал, найдя обучение гораздо ниже своих возможностей, а суровую жизнь – совершенно невыносимой для его чувствительной натуры. Дядя, только что вернувшийся из Индии, заступился за мальчика, чтобы его не отправили обратно в школу, которую он ненавидел; и, получая еженедельное пособие в одну гинею, он начал бродяжничать, подобно Голдсмиту, живя на открытых холмах, в хижинах пастухов и угольщиков, в цыганских шатрах – где ему вздумается. Страх перед Манчестерской школой в конце концов заставил его бежать в Лондон, где, без денег и друзей, его жизнь была ещё более необычной, чем его цыганские скитания. Подробности этого бродяжничества лучше всего изложены в его «Исповеди англичанина, употребляющего опиум», где мы встречаем не только факты его жизни, но и путаницу снов и фантазий, среди которых он блуждал, словно заблудившийся в горах, а под ногами грозовые тучи скрывали знакомую землю. После года бродяжничества и голодания он был найден семьёй и отпущен в Оксфорд, где его карьера была отмечена самой блестящей и непредсказуемой учёностью. Когда в 1807 году он был готов к получению учёной степени, он успешно сдал письменные экзамены, но при мысли об устном экзамене испытал внезапный ужас и исчез из университета, чтобы никогда больше не вернуться.
Именно в Оксфорде Де Квинси начал употреблять опиум для облегчения невралгии, и привычка росла, пока он не стал почти безнадежным рабом этого наркотика. Только его исключительная сила воли позволила ему покончить с этой привычкой после почти тридцати лет страданий. Некая особенность его хрупкого организма позволяла Де Квинси принимать огромные количества опиума, достаточные, чтобы убить нескольких обычных людей; и именно опиум, воздействуя на восприимчивое воображение, создавал его прекрасные сны, прерываемые приступами слабости и глубокой депрессии.
Двадцать лет он прожил в Грасмире в компании поэтов с Озера; и здесь, потеряв небольшое состояние, он начал писать, чтобы прокормить семью. В 1821 году он опубликовал своё первое знаменитое произведение «Исповедь англичанина, курильщика опиума», и почти сорок лет спустя усердно писал, публикуя в различных журналах поразительное количество эссе на самые разные темы. Не думая о литературной славе, он публиковал эти статьи анонимно; но, к счастью, в 1853 году он начал собирать собственные произведения, и последний из четырнадцати томов был опубликован сразу после его смерти.
В 1830 году, благодаря своим связям с журналом Blackwood's Magazine, в котором он был главным сотрудником, Де Квинси переехал с семьей в Эдинбург, где его эксцентричный гений и его необычайно детское поведение породили столько забавных анекдотов, что хватило бы на целый том. Он снимал комнату в каком-нибудь месте, неизвестном его друзьям и семье; жил в ней несколько лет, пока не заполнял ее, вплоть до ванны, книгами и собственными хаотичными рукописями, не позволяя никому входить или тревожить его кабинет; а затем, когда место становилось слишком людным, он запирал дверь и уходил, снимая другую квартиру, где повторял то же необычайное представление. Он умер в Эдинбурге в 1859 году. Как и Лэмб, он был невысоким, мальчишеским, мягким и изысканно вежливым. Хотя он был чрезвычайно застенчив и старался как можно чаще уединиться, он, тем не менее, любил общество, а его обширные познания и живое воображение делали его беседы почти такими же ценными, как беседы его друга Кольриджа.
СОЧИНЕНИЯ.
=========
Произведения Де Квинси можно разделить на два основных класса. Первый включает его многочисленные критические статьи, а второй – автобиографические очерки. Следует помнить, что все его произведения были опубликованы в различных журналах и спешно собраны незадолго до его смерти. Отсюда и общее впечатление хаоса, которое возникает при их прочтении.
С литературной точки зрения наиболее содержательной из критических работ Де Квинси являются его «Литературные воспоминания». В них содержатся блестящие оценки Вордсворта, Кольриджа, Лэмба, Шелли, Китса, Хэзлитта и Лэндора, а также ряд интересных исследований литературных деятелей предшествующей эпохи.
Среди лучших его блестящих критических эссе – «О стуке в ворота» в «Макбете» (1823), которое великолепно иллюстрирует критический гений этого человека, и «Убийство как одно из изящных искусств» (1827), раскрывающее его гротескный юмор. Среди других интересных критических работ, если выбирать из этого множества, – «Письма к молодому человеку» (1823), «Жанна д’Арк» (1847), «Восстание татар» (1840) и «Английская почтовая карета» (1849). В последнем эссе «Фуга сновидений» – одно из самых изобретательных из всех его интересных произведений.
Из автобиографических очерков Де Квинси наиболее известны его «Исповедь англичанина, употребляющего опиум» (1821). Эта книга лишь отчасти представляет собой описание снов, связанных с опиумом, и её главный интерес заключается в отрывках из жизни и странствий самого Де Квинси. Далее следует «Suspiria de Profundis» (1845), представляющая собой, главным образом, описание мрачных и ужасных снов, вызванных опиатами. Наиболее интересные части «Suspiria», демонстрирующие удивительное понимание снов Де Квинси, – это те, где мы сталкиваемся лицом к лицу со странными женскими образами: «Левана», «Мадонна», «Богоматерь вздохов» и «Богоматерь тьмы». Серия из почти тридцати статей, собранных им в 1853 году под названием «Автобиографические очерки», завершает рассказ о жизни самого автора. Чтобы продемонстрировать широкий круг его интересов, среди его разнообразных работ можно упомянуть роман «Клостергейм», «Логику политической экономии», «Очерки стиля и риторики», «Философию Геродота», а также статьи о Гёте, Поупе, Шиллере и Шекспире, которые он опубликовал в Британской энциклопедии.
Стиль Де Куинси – это откровение красоты английского языка, оказавшее глубокое влияние на Рёскина и других прозаиков викторианской эпохи. Ему присущи два главных недостатка: расплывчатость, постоянно уводящая Де Куинси от цели, и банальность, из-за которой он часто останавливается посреди великолепного абзаца, чтобы отпустить лёгкую шутку или остроту, содержащую юмор, но не содержащую веселья. Несмотря на эти недостатки, проза Де Куинси до сих пор остаётся одним из немногих образцов превосходного стиля в нашем языке.
Хотя на него оказали глубокое влияние писатели XVII века, он определённо стремился создать новый стиль, сочетающий в себе лучшие элементы прозы и поэзии. В результате его прозаические произведения, подобно произведениям Мильтона, зачастую более образны и мелодичны, чем многие наши стихи. Его справедливо называли «психологом стиля», и поэтому его произведения никогда не будут пользоваться популярностью; но для тех немногих, кто способен оценить его по достоинству, он всегда будет вдохновлять на создание более совершенного стиля. Читая его, испытываешь ещё большее уважение к нашему английскому языку и литературе.
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ РОМАНТИЗМА.
===================================
Достаточно лишь взглянуть на изучаемых нами авторов – Вордсворта, Кольриджа, Саути, Байрона, Шелли, Китса, Скотта, Лэмба, Де Куинси, – чтобы осознать великие перемены, произошедшие в жизни и литературе Англии за полвека под влиянием двух факторов, которые мы теперь называем Французской революцией в истории и романтическим движением в литературе. В жизни люди восставали против слишком строгой власти государства и общества; в литературе они ещё более решительно восставали против уз классицизма, который жёстко подавлял стремление писателя следовать собственным идеалам и выражать их по-своему. Естественно, что такая революционная эпоха была по своей сути поэтической – в этом отношении её превосходит только елизаветинская эпоха – и она породила множество второстепенных писателей, более или менее точно следовавших примеру своих великих лидеров. Среди романистов – Джейн Остин, Фрэнсис Берни, Мария Эджворт, Джейн Портер и Сьюзен Ферье – все, кстати, женщины; среди поэтов – Кэмпбелл, Мур, Хогг («Эттрикский пастух»), миссис Хеманс, Хебер, Кибл, Худ и «Инголдсби» (Ричард Бархэм); а среди писателей – Сидни Смит, «Кристофер Норт» (Джон Уилсон), Чалмерс, Локхарт, Ли Хант, Хэзлитт, Халлам и Лэндор. Перед нами поразительное разнообразие писателей, и чтобы рассмотреть все их претензия на запоминаемость, потребовался бы целый том. Хотя их обычно относят к писателям второго плана, многие их произведения претендуют на популярность, а некоторые – на непреходящую ценность. «Ирландские мелодии» Мура, стихи Кэмпбелла, «Христианский год» Кебла и «Таддеус Варшавский» и «Шотландские вожди» Джейн Портер по-прежнему имеют множество читателей, тогда как Китса, Лэмба и Де Квинси ценит лишь немногие образованные люди;
Историко-критические труды Халлама, пожалуй, более известны, чем труды Гиббона, который, тем не менее, занимает более значительное место в нашей литературе. Среди всех этих писателей мы выделим лишь двух: Джейн Остин и Уолтера Сэвиджа Лэндора, чьи произведения знаменуют собой переходный период от романтизма к викторианской эпохе.
ДЖЕЙН ОСТИН (1775-1817)
=======================
Мы так недавно заново открыли для себя обаяние и гений этой одаренной молодой женщины, что она кажется скорее вчерашним романистом, чем современницей Вордсворта и Кольриджа; и мало кто из ее читателей осознает, что она сделала для английского романа ровно то же, что поэты Лейк-Сайда сделали для английской поэзии, — она облагородила и упростила его, сделав истинным отражением английской жизни. Как и поэты Лейк-Сайда, она не встретила должного признания в своем собственном поколении. Ее величайший роман, «Гордость и предубеждение», был закончен в 1797 году, за год до появления знаменитых «Лирических баллад Вордсворта и Кольриджа»; но в то время как последняя книга была опубликована и нашла несколько благодарных читателей, рукопись этого замечательного романа пролежала без дела шестнадцать лет, прежде чем нашла издателя. Как Вордсворт начинал с намерения сделать поэзию естественной и правдивой, так и мисс Остин, по-видимому, начала писать с намерением представить жизнь английского сельского общества именно такой, какой она была, в противовес романтической экстравагантности миссис Рэдклифф и её школы. Но было одно отличие: мисс Остин в значительной степени обладала спасительным даром юмора, которого Вордсворту, к сожалению, не хватало. Мария Эджворт, в то же время, подавала разумный и превосходный пример в своих рассказах об ирландской жизни, «Отсутствующий» и «Замок Рэкрент»; а мисс Остин продолжила это преимущество, написав по меньшей мере шесть произведений, ценность которых неуклонно росла, и мы с радостью ставим их в первый ряд наших романов о повседневной жизни. Поэтому мы восхищаемся ею не только за её изысканное обаяние, но и за её влияние, вернувшее нашим романам их истинное место как выражения человеческой жизни. По крайней мере, отчасти именно благодаря ее влиянию множество читателей были готовы оценить «Крэнфорд» миссис Гаскелл, а также мощное и долговечное произведение Джордж Элиот.
ЖИЗНЬ.
=====
Жизнь Джейн Остин дает биографу мало возможностей, если только у него нет чего-то от ее собственной силы, чтобы показать красоту и очарование обыденных вещей. Она была седьмым ребенком преподобного Джорджа Остина, ректора Стивентона, и родилась в деревенском приходском доме в 1775 году. Вместе со своими сестрами она получила домашнее образование и провела свою жизнь очень тихо, весело, выполняя мелкие домашние обязанности, которым любовь одолжила волшебную лампу, делающую все прекрасным. Она начала писать в раннем возрасте и, похоже, работала за маленьким столиком в семейной гостиной, в самом центре семейной жизни. Когда входил гость, она бросала бумагу или лоскут шитья на свою работу и скромно отказывалась, чтобы ее называли автором романов, которые мы теперь считаем одним из наших драгоценных сокровищ. У издателей она не имела большого успеха. «Гордость и предубеждение», как мы уже говорили, пролежали в подаянии шестнадцать лет; а «Нортенгерское аббатство» (1798) было продано за ничтожную сумму издателю, который отложил его в сторону и забыл о нем до выхода и умеренного успеха «Разума и чувств» в 1811 году. Затем, продержав рукопись у себя около пятнадцати лет, он продал ее обратно семье, которая нашла другого издателя.
Анонимная статья в «Quarterly Review», опубликованная после выхода «Эммы» в 1815 году, полная щедрых похвал обаянию новой писательницы, положила начало славе Джейн Остин; и лишь спустя несколько лет мы узнали, что дружелюбным и проницательным критиком был Вальтер Скотт. Он оставался её поклонником до самой её ранней смерти; но эти двое, величайшие писатели своего времени, так и не встретились. Оба были людьми домовитыми, а мисс Остин особенно не любила публичность и популярность. Она умерла, как и жила, тихо, в Винчестере в 1817 году и была похоронена в соборе. Она была умной, привлекательной маленькой женщиной, чьи солнечные качества невольно отражаются во всех её книгах.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
============
Мало кто из английских писателей когда-либо работал в столь узкой области, как Джейн Остин. Как и французские романисты, чей успех, по-видимому, кроется в выборе узкой области, в которой они разбираются лучше всего, её произведения обладают изысканным совершенством, которого не хватает большинству наших прозаиков.
За исключением редких визитов на курорт Бат, вся ее жизнь прошла в маленьких сельских приходах, чьи простые жители стали персонажами ее романов. Ее братья служили на флоте, и поэтому морские офицеры являются единственными захватывающими элементами в ее рассказах; но даже эти предполагаемые герои откладывают в сторону свои внушительные воинственные манеры и ведут себя как они сами и другие люди. Таково было ее литературное поприще, в котором главными обязанностями были домашнее хозяйство, главными удовольствиями – деревенские посиделки, а главным интересом – супружество. Жизнь с ее могучими интересами, страстями, амбициями и трагической борьбой проносилась, как великая река; в то время как уединенные интересы сельского прихода кружились тихо и тихо, как водоворот за укрывающейся скалой. Поэтому мы легко можем понять ограниченность Джейн Остин; но в своей собственной области она не имеет себе равных. Ее персонажи абсолютно жизненны, и все ее произведения обладают совершенством изящной миниатюрной картины. Самый читаемый из ее романов – «Гордость и предубеждение»; Но три других, «Разум и чувства», «Эмма» и «Мэнсфилд-парк», постепенно пробились на передовые позиции в художественной литературе. С литературной точки зрения «Нортенгерское аббатство», пожалуй, лучшее из них; ибо в нём мы находим тот же юмор и тонкую сатиру, с помощью которых эта кроткая маленькая женщина боролась с гротескными популярными романами типа «Удольфо». Читая любое из этих произведений, невольно соглашаешься с сердечным одобрением сэра Вальтера Скотта: «У этой юной леди талант описывать события, чувства и характеры обыденной жизни, который, на мой взгляд, является самым удивительным из всех, с которыми я когда-либо встречался. Громкое гавайское произношение я могу воспроизвести сам, как и любой другой ныне пишущий; но изысканное мастерство, делающее обыденные вещи и характеры интересными благодаря правдивости описания и чувства, мне недоступно. Как жаль, что такое одарённое создание умерло так рано!»
Уолтер Сэвидж Ландор (1775-1864)
================================
В то время как Хэзлитт, Лэмб, Де Квинси и другие романтические критики обращались за вдохновением к ранней английской литературе, Ландор демонстрирует реакцию на господствующий романтизм, подражая античным классическим писателям. Его жизнь была необычайной и, как и его творчество, изобиловала резкими контрастами. С одной стороны, его эгоизм, его неконтролируемый гнев, его вечные судебные тяжбы и последняя печальная трагедия с его детьми, что напоминает короля Лира и его дочерей; с другой стороны, его неизменная преданность классикам и взращивание глубокой мудрости древних, что напоминает Пиндара и Цицерона. В его произведениях мы находим дикую экстравагантность Гебира, за которой следует превосходный классический стиль и обаяние Перикла и Аспазии. Таким был Ландор, человек высоких идеалов, вечно находящийся в состоянии войны с собой и миром.
ЖИЗНЬ.
=====
Бурная жизнь Лэндора охватывает весь период с детства Вордсворта до середины Викторианской эпохи. Он был сыном врача и родился в Уорике в 1775 году. От матери он унаследовал состояние; но оно вскоре было растрачено большими расходами и судебными тяжбами; и в старости, когда ему отказали в помощи собственные дети, только щедрость Браунинга спасла Лэндора от настоящей нужды. В Рагби и Оксфорде его крайний республиканизм постоянно доставлял ему неприятности; а снаряжение им отряда добровольцев для помощи испанцам против Наполеона в 1808 году объединяет его с Байроном и его донкихотскими последователями. Сходство с Байроном еще более поразительно показано в поэме «Gebir», опубликованной в 1798 году, году, прославленном лирическими балладами Вордсворта и Кольриджа.
Заметная перемена в жизни Лэндера произошла в 1821 году, когда в возрасте сорока шести лет, потеряв своё великолепное поместье аббатство Ллантони в Гламорганшире и пережив бурные события в Комо, он на время обосновался во Фьезоле близ Флоренции. Этому периоду затишья после бури мы обязаны классическими прозаическими произведениями, которыми он прославился. Затишье, подобное затишью в центре вихря, длилось недолго, и Лэндор, оставив семью в глубоком гневе, вернулся в Бат, где прожил в одиночестве более двадцати лет.
Затем, чтобы избежать иска о клевете, холерик бежал обратно в Италию. Он умер во Флоренции в 1864 году. О духе всей его жизни можно судить по дерзкому прощанию, которое он ей бросил:
Я ни с кем не боролся, ибо никто не стоил моей борьбы;
Я любил природу, а после природы – искусство;
Я согревал обе руки у огня жизни;
Он тонет, и я готов уйти.
СОЧИНЕНИЯ. Реакция Ландора на романтизм тем более примечательна в свете его ранних работ, таких как «Гебир» – безудержно романтическая поэма, которая своей экстравагантностью соперничает с любым произведением Байрона или Шелли. Несмотря на отдельные прекрасные и многозначительные строки, произведение не имело и никогда не имело успеха; то же самое можно сказать и обо всех его поэтических произведениях. Его первый сборник стихов был опубликован в 1795 году, последний – полвека спустя, в 1846 году. В последнем томе, «Эллиниках», куда вошли некоторые переводы его ранних латинских стихотворений под названием «Идиллия героическая», достаточно прочитать «Гамадриаду» и сравнить её с текстами первого тома, чтобы оценить поразительную литературную мощь человека, опубликовавшего два тома с разницей в полвека, не утратив при этом заметного упадка поэтического чувства. Во всех этих стихотворениях поражают яркие и оригинальные речевые обороты, которые Ландор использует для подчеркивания смысла.
Именно благодаря своим прозаическим произведениям Ландор завоевал себе место в нашей литературе; отчасти благодаря их внутренней ценности, проницательной мысли и строгому классическому стилю; отчасти благодаря их глубокому влиянию на писателей нашего времени. Наиболее известными из его прозаических произведений являются шесть томов «Воображаемых бесед» (1824–1846). Для этих бесед Ландор собирает, иногда группами, иногда парами, известных персонажей, или, скорее, тени, со всех концов света и из самых отдаленных эпох письменной истории. Так, Диоген беседует с Платоном, Эзоп с молодой рабыней в Египте, Генрих VIII с Анной Болейн в тюрьме, Данте с Беатриче, Леофрик с леди Годивой — все эти и многие другие, от Эпиктета до Кромвеля, собраны вместе и говорят о жизни, любви и смерти, каждый со своей собственной точки зрения.
Порой, как при встрече Генриха и Анны Болейн, ситуация напряжённая и драматичная; но, как правило, персонажи просто встречаются и беседуют в том же тихом тоне, который после долгого чтения становится несколько однообразным. С другой стороны, читатель «Воображаемых бесед» сразу погружается в спокойную и благородную атмосферу, которая бодрит и вдохновляет, заставляя забыть о мелочах, словно вид с вершины холма. Благодаря сочетанию возвышенной мысли и строгого классического стиля эта книга заняла и заслуживает весьма высокое место среди наших литературных памятников.
Та же критика применима и к «Периклу и Аспазии» – циклу вымышленных писем, повествующих о приключениях Аспазии, молодой девушки из Малой Азии, которая посетила Афины в период расцвета их славы, в эпоху Перикла. По нашему мнению, это лучшее из произведений Ландора, достойное прочтения. В нём можно не только познакомиться с классическим стилем Ландора, но и – что весьма ценно – получить более полное представление о Греции в эпоху её величия, чем во многих исторических томах.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА.
==================================
Этот период охватывает период от войны с колониями, последовавшей за принятием Декларации независимости в 1776 году, до восшествия на престол королевы Виктории в 1837 году, причем оба периода весьма неопределенны, как можно увидеть, взглянув на следующую хронологию. В первую часть этого периода, особенно в Англии, царило непрерывное смятение, вызванное политическими и экономическими потрясениями внутри страны, а также длительными войнами, охватившими два континента и разделявшее их обширное море. Мощные изменения, вызванные этими двумя причинами, дали этому периоду название «Эпоха Революции». Центром всех потрясений внутри страны и за рубежом стала Французская революция, оказавшая глубокое влияние на жизнь и литературу всей Европы. На континенте свержение Наполеона при Ватерлоо (1815) по-видимому, остановило прогресс свободы, начавшийся с Французской революции[, но в Англии ситуация была обратной. Борьба за свободу народа, которая одно время грозила перерасти в революцию, неуклонно нарастала, пока не привела к окончательному торжеству демократии в Билле о реформе 1832 года и ряду чрезвычайно важных реформ, таких как расширение избирательного права для мужчин, отмена последних несправедливых ограничений в отношении католиков, создание национальной системы школ, за которым последовал быстрый рост народного образования и отмена рабства во всех английских колониях (1833 год).
К этому следует добавить изменения, вызванные открытием пара и изобретением машин, которые быстро превратили Англию из аграрной в производственную страну, ввели фабричную систему и сделали этот период известным как эпоха промышленной революции.
Литература этого века в значительной степени поэтична по форме и почти полностью романтична по духу. Ибо, как мы уже отмечали, триумф демократии в правительстве обычно сопровождается триумфом романтизма в литературе. Поначалу литература, как это видно особенно в ранних работах Вордсворта, Байрона и Шелли, отражала смятение века и безумные надежды на идеальную демократию, порожденные Французской революцией. Позже экстравагантный энтузиазм утих, и английские писатели создали так много превосходной литературы, что этот век часто называют Вторым творческим периодом, первым из которых является век Елизаветы. Шесть главных характеристик этого века: преобладание романтической поэзии; создание исторического романа Скоттом; первое появление женщин-романисток, таких как миссис Энн Рэдклифф, Джейн Портер, Мария Эджворт и Джейн Остин; развитие литературной критики в работах Лэмба, Де Куинси, Кольриджа и Хэзлитта; практическая и экономическая направленность философии, как это показано в трудах Мальтуса, Джеймса Милля и Адама Смита; и создание крупных литературных журналов, таких как Edinburgh Review, The Quarterly, Blackwood's и Athenaeum.
В нашем исследовании мы отметили (1) поэтов романтизма: значение лирических баллад 1798 года; жизнь и творчество Вордсворта, Кольриджа, Скотта, Байрона, Шелли и Китса; (2) прозаиков: романы Скотта; развитие литературной критики; жизнь и творчество эссеистов Лэмба, Де Куинси, Лэндора и писательницы Джейн Остин.
ГЛАВА XI
ВИКТОРИАНСКАЯ ЭПОХА (1850-1900)
===============================
СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД ПРОГРЕССА И БЕСПОКОЙСТВА
============================================
Когда в 1837 году Виктория стала королевой, английская литература, казалось, вступила в период упадка, резко контрастирующий с поэтической плодотворностью романтической эпохи, которую мы только что рассмотрели. Кольридж, Шелли, Китс, Байрон и Скотт ушли из жизни, и казалось, что в Англии не осталось писателей, способных занять их место. Вордсворт писал в 1835 году:
Как облака, что скользят по горным вершинам,
Или волны, не сдерживаемые рукой,
Как быстро брат следовал за братом,
От солнечного света к бессолнечной земле!
В этих строках отражается скорбный дух литератора начала девятнадцатого века, помнившего славу, ушедшую с земли. Но скудость этих первых лет скорее кажущаяся, чем реальная. Китс и Шелли умерли, это правда, но уже появились три ученика этих поэтов, которым было суждено быть гораздо более читаемыми, чем были их учителя. Теннисон публиковал стихи с 1827 года, его первые стихотворения появились почти одновременно с последними работами Байрона, Шелли и Китса; но только в 1842 году, с публикацией его собрания стихотворений в двух томах, Англия признала в нем одного из своих великих литературных лидеров. Так же и Элизабет Барретт писала с 1820 года, но только двадцать лет спустя ее стихи стали заслуженно популярными; Браунинг опубликовал свою «Полину» в 1833 году, но лишь в 1846 году, когда вышла последняя книга из серии под названием «Колокола и гранаты», читающая публика начала ценить его силу и оригинальность. Более того, даже когда романтизм, казалось, уходил в прошлое, группа великих прозаиков — Диккенс, Теккерей, Карлейль и Рёскин — уже начала провозглашать литературную славу новой эпохи, которая теперь, кажется, стоит лишь немного ниже елизаветинской и романтической эпох.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.
===================
Среди многообразия социальных и политических сил этой великой эпохи ясно выделяются четыре момента.
Во-первых, долгая борьба англосаксов за личную свободу окончательно завершилась, и демократия стала нормой. Король, появившийся в эпоху народной слабости и невежества, и пэры, триумфально пришедшие вместе с норманнами, лишились своей власти и стали номинальными лидерами ушедшей цивилизации.
Последние остатки единоличного правления и божественного права правителей исчезают; Палата общин становится правящей властью в Англии; и ряд новых законопроектов о реформах быстро расширяют избирательное право, пока весь английский народ не выберет для себя людей, которые будут его представлять.
Во-вторых, поскольку это век демократии, это век народного образования, религиозной терпимости, крепнущего братства и глубоких социальных потрясений. Рабы были освобождены в 1833 году; но в середине века Англия осознала, что рабы – это не обязательно негры, украденные в Африке, чтобы продать их, как скот, на рынке, но что множество мужчин, женщин и маленьких детей на шахтах и ;;фабриках стали жертвами более ужасного промышленного и социального рабства. Освобождение этих рабов, невольных жертв наших противоестественных методов конкуренции, было растущей целью Викторианской эпохи вплоть до наших дней.
В-третьих, поскольку это век демократии и образования, это век относительного мира. Англия начинает меньше думать о помпезности и фальшивом блеске войны и больше – о её моральных пороках, поскольку нация осознаёт, что именно простые люди несут бремя, горе и нищету войны, в то время как привилегированные классы пожинают большую часть финансовых и политических выгод. Более того, с ростом торговли и дружественных отношений с другими странами становится очевидным, что социальное равенство, за которое Англия боролась внутри страны, принадлежит всему человечеству; что братство универсально, а не изолировано; что вопрос справедливости никогда не решается войной; и что война, как правило, является абсолютным ужасом и варварством. Теннисон, достигший совершеннолетия, когда великий Билль о реформе привлёк к себе внимание, выражает идеалы либералов своего времени, которые предлагали распространять евангелие мира,
Пока не затих барабан войны и не были свёрнуты боевые знамена
В Парламенте Человечества, Федерации мира.
В-четвёртых, Викторианская эпоха особенно примечательна своим быстрым прогрессом во всех видах искусств и наук, а также в области механических изобретений. Достаточно взглянуть на любой список промышленных достижений XIX века, чтобы увидеть, насколько они обширны, и нет необходимости повторять здесь список изобретений – от прядильных станков до пароходов, от спичек до электрического освещения.
Все эти материальные вещи, равно как и рост образования, оказывают своё влияние на жизнь народа, и неизбежно, что они должны отразиться на его прозе и поэзии; хотя пока мы слишком поглощены нашими науками и механикой, чтобы точно определить их влияние на литературу. Когда эти новые вещи благодаря долгому использованию станут привычными, как проселочные дороги, или будут заменены чем-то более новым и лучшим, тогда они также обретут свои ассоциации и воспоминания, и стихотворение о железных дорогах может быть столь же выразительным, как сонет Вордсворта о Вестминстерском мосту; а деловые, практичные рабочие, которые сегодня заполняют наши улицы и фабрики, могут показаться будущему, более великому, столь же причудливыми и поэтичными, какими нам кажутся медлительные труженики Средневековья.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
============================
Если кто-то достаточно заинтересован, чтобы проследить генеалогию Виктории, он, к своему удивлению, обнаруживает, что в ее жилах текла кровь как Вильгельма Завоевателя, так и Кердика, первого саксонского короля Англии; и это, по-видимому, символизирует литературу ее эпохи, охватывающую всю сферу саксонской и нормандской жизни – силу и идеалы одного, а также культуру и утонченность другого. Романтическое возрождение сделало свое дело, и Англия вступила в новый свободный период, когда все формы литературы, от чистого романа до грубого реализма, боролись за свое выражение. Сегодня, очевидно, невозможно судить об этой эпохе в целом; но мы достаточно далеко отходим от ее первой половины, чтобы заметить некоторые определенные характеристики. Во-первых, хотя эта эпоха дала миру множество поэтов, и двое из них заслуживают звания величайших, тем не менее, это, безусловно, эпоха прозы. А поскольку число читателей тысячекратно возросло с распространением народного образования, наступил век газет, журналов и современного романа, причём первые два – это повествование о повседневной жизни мира, а последний – наша самая приятная форма литературного развлечения, а также наш самый успешный способ представления современных проблем и идеалов. В нашу эпоху роман занимает место, которое во времена Елизаветы занимала драма; и никогда ранее, ни в какую эпоху и ни на каком языке, роман не появлялся в таком количестве и в таком совершенстве.
[Нравственная цель]
===================
Вторая отличительная черта эпохи заключается в том, что литература, как прозаическая, так и поэтическая, как будто отходит от чисто художественного стандарта, от искусства ради искусства, и движима определённой моральной целью. Теннисон, Браунинг, Карлейль, Рёскин – кем и чем были эти люди, если не учителями Англии, не смутно, а определённо, с непоколебимой верой в своё послание и с осознанной моральной целью – возвышать и наставлять? Даже роман отходит от романтического влияния Скотта и сначала изучает жизнь как она есть, а затем указывает, какой она может и должна быть. Читаем ли мы остроумные и сентиментальные произведения Диккенса, социальные миниатюры Теккерея или психологические исследования Джордж Элиот, мы почти в каждом случае находим определённую цель – развеять заблуждения и раскрыть глубинную истину человеческой жизни. Таким образом, роман стремился сделать для общества этой эпохи то же самое, что Лайель и Дарвин стремились сделать для науки, а именно – найти истину и показать, как её можно использовать для возвышения человечества. Возможно, именно по этой причине викторианская эпоха является эпохой реализма, а не романтики, — не реализма Золя и Ибсена, а более глубокого реализма, стремящегося сказать всю правду, показывая моральные и физические болезни такими, какие они есть, но при этом считая здоровье и надежду нормальными состояниями человечества.
Принято говорить об этом веке как о веке сомнений и пессимизма, следуя за новым представлением о человеке и вселенной, сформулированным наукой под названием «инволюция». Его также называют прозаическим веком, лишённым великих идеалов. Оба эти критических замечания, по-видимому, являются результатом суждения о крупном объекте, когда мы находимся к нему слишком близко, чтобы постичь его истинные размеры, подобно тому, как Кёльнский собор, одно из самых совершенных сооружений в мире, кажется бесформенной грудой камней, когда мы стоим слишком близко под его могучими стенами и опорами. Незрелое творчество Теннисона, как и творчество второстепенных поэтов, порой исполнено сомнений или отчаяния; но его «In Memoriam» подобно радуге после бури; и Браунинг, кажется, лучше выражает дух своего времени в сильной, мужественной вере «раввина Бен Эзры» и в смелом оптимизме всей его поэзии.
«Викторианская антология» Стедмана – в целом вдохновляющая книга стихов. Трудно найти более разнообразную и позитивную литературу, относящуюся к любой эпохе. И великие эссеисты, такие как Маколей, Карлейль, Рёскин, и великие романисты, такие как Диккенс, Теккерей, Джордж Элиот, как правило, оставляют нас с большей щедростью и более глубокой верой в нашу человечность.
Точно так же суждение о том, что этот век слишком практичен для великих идеалов, может быть лишь описанием шелухи, скрывающей очень спелый колос. Стоит помнить, что Спенсер и Сидни считали свою собственную эпоху (которую мы теперь считаем величайшей в истории нашей литературы) полностью погрязшей в материализме и неспособной к литературному величию. Время заставило нас улыбнуться их слепоте, так и следующее столетие, возможно, исправит наше суждение о нём как о материальном веке, и, глядя на колоссальный рост милосердия и братства среди нас, а также на литературу, выражающую нашу веру в людей, может счесть викторианскую эпоху в целом благороднейшей и вдохновляющей в истории мира.
1. ПОЭТЫ ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ
=============================
АЛЬФРЕД ТЕННИСОН (1809-1892)
============================
Мерлин и Луч
============
О юный Моряк,
Ты из гавани
Под морским утёсом,
Ты, что наблюдаешь
За седым Волшебником
Глазами, полными удивления,
Я – Мерлин,
И я умираю,
Я – Мерлин,
Который следует за Лучом.
О юный Моряк,
В гавань
Позови своих спутников,
Спускай своё судно,
И направь паруса,
И, прежде чем оно исчезнет,
За кромкой,
За ним следуй,
Следуй за Лучом .
Тот, кто читает эту завораживающую поэму «Мерлин и Проблеск», находит в ней отголосок духа всей жизни поэта – его преданности идеалу, выраженному в поэзии, его ранних романтических впечатлений, его борьбы, сомнений, триумфов и его волнующего послания своему народу. На протяжении всей викторианской эпохи Теннисон стоял на вершине английской поэзии. Недаром он был назначен лауреатом после смерти Вордсворта в 1850 году; ибо, почти единственный среди тех, кто занимал этот пост, он чувствовал важность своего места, исполнял его и чтил. Почти полвека Теннисон был не только человеком и поэтом; он был голосом, голосом целого народа, выражавшим в изысканных мелодиях его сомнения и веру, его горести и триумфы. В удивительном многообразии своих стихов он воплощает все качества величайших поэтов Англии. Мечтательность Спенсера, величие Мильтона, естественная простота Вордсворта, фантазия Блейка и Кольриджа, мелодичность Китса и Шелли, повествовательная энергия Скотта и Байрона — все эти поразительные качества очевидны на следующих друг за другом страницах поэзии Теннисона. Недостаёт лишь драматической мощи елизаветинцев. Отражая беспокойный дух этой прогрессивной эпохи, Теннисон столь же замечателен, как Поуп, выразивший искусственность начала XVIII века. Поэтому как поэт, выражающий не столько личный, сколько национальный дух, он, пожалуй, самый представительный представитель литераторов викторианской эпохи.
ЖИЗНЬ.
======
Жизнь Теннисона примечательна тем, что от начала до конца он, кажется, был охвачен одним-единственным импульсом – импульсом поэзии. У него не было ни крупных, ни выдающихся переживаний, ни бурных событий, ни великих успехов, ни неудач, ни деловых забот, ни государственных должностей.
В течение шестидесяти шести лет, с момента появления «Стихотворений двух братьев» в 1827 году и до своей смерти в 1892 году, он непрерывно и исключительно изучал и практиковал своё искусство. Только Браунинг, его коллега по цеху, похож на него в этом; но различия между ними огромны. Теннисон был от природы застенчивым, скрытным, равнодушным к людям, ненавидел шум и публичность, любил уединение с природой, подобно Вордсворту. Браунинг был общительным, любил аплодисменты, общество, путешествия, шум и суету большого мира.
Теннисон родился в приходском доме в Сомерсби, графство Линкольншир, в 1809 году. Благотворное влияние окружающей среды на его детство лучше всего видно из его ранних стихов, чем из любой биографии. Он был одним из двенадцати детей преподобного Джорджа Клейтона Теннисона, учёного священника, и его жены Элизабет Фитч, кроткой, обаятельной женщины, «не отличавшейся учёностью, кроме как в благородстве домашнего хозяйства», которой поэт отдаёт дань сыновней преданности в конце «Принцессы». Интересно отметить, что большинство этих детей были склонны к поэзии, и что двое из братьев, Чарльз и Фредерик, подавали гораздо большие надежды, чем Альфред.
В семь лет мальчик отправился в дом бабушки в Лауте, чтобы учиться в знаменитой местной гимназии. Даже память человека, которая обычно преуменьшает трудности и превозносит ранний опыт, не могла смягчить ненависть Теннисона к школьной жизни. Он жаловался не столько на грубость мальчиков, которая так пугала Купера, сколько на жестокость учителей, которые поместили над школьными дверями жалкую латинскую надпись, переводящую варварский совет Соломона о розге и ребенке. В наши психологические времена, когда ребенок важнее учебной программы, и когда мы обучаем девочек и мальчиков, а не латынь и арифметику, мы с удивлением читаем описание Карлейлем своего учителя, очевидно, представителя своего рода, который «знал о человеческой душе настолько хорошо, что у нее есть способность, называемая памятью, и на нее можно воздействовать через мышечную оболочку с помощью березовых розг». После четырех лет неудовлетворительной школьной жизни Теннисон вернулся домой, и его ученый отец подготовил его для поступления в университет.
Вместе со своими братьями он написал много стихов, и его первые опыты появились в небольшом сборнике под названием «Стихотворения двух братьев» в 1827 году. В следующем году он поступил в Тринити-колледж в Кембридже, где стал центром блестящего круга друзей, главным из которых был молодой поэт Артур Генри Халлам.
В университете Теннисон вскоре стал известен своими поэтическими способностями, и через два года после поступления он получил награду – медаль канцлера за стихотворение «Тимбукту» (тема, разумеется, была выбрана канцлером). Вскоре после этого Теннисон опубликовал свою первую подписанную работу под названием «Стихотворения в основном лирические» (1830), которая, хотя сейчас кажется нам несколько грубой и разочаровывающей, тем не менее содержала зародыш всей его позднейшей поэзии. Одна из самых примечательных особенностей этого тома – влияние, которое Байрон, очевидно, оказал на поэта в ранние годы; и, возможно, во многом благодаря тому же романтическому влиянию Теннисон и его друг Халлам вскоре отплыли в Испанию, намереваясь присоединиться к армии повстанцев против короля Фердинанда. Рассматривая это как чисто революционное начинание, оно потерпело своего рода фиаско, напоминая о благородном герцоге Йоркском и его десятитысячном войске: «он однажды поднял их на холм; и он же спустил их обратно». Однако с литературной точки зрения этот опыт был весьма ценным. Глубокое впечатление, которое дикая красота Пиренеев произвела на молодого поэта, ясно отражено в стихотворении «Энона».
В 1831 году Теннисон покинул университет, не получив диплома. Причины этого шага неясны; семья была бедной, и бедность, возможно, сыграла значительную роль в его решении. Его отец умер несколько месяцев спустя; но, благодаря великодушному соглашению с новым ректором, семья сохранила за собой дом в Сомерсби, и здесь почти шесть лет Теннисон прожил в уединении, которое явно напоминает Мильтона в Хортоне. Он много читал и учился, поддерживал близкое знакомство с природой, глубоко размышлял над проблемами, поднятыми Биллем о реформе, который тогда волновал Англию, а в свободное время писал стихи.
Первые плоды этого уединения появились в конце 1832 года в замечательном небольшом томике с простым названием «Стихотворения». Будучи произведением двадцатитрехлетнего юноши, эта книга поражает разнообразием и мелодичностью своих стихов. Среди её сокровищ мы до сих пор с восторгом читаем «Пожирателей лотоса», «Дворец искусства», «Сон о прекрасной женщине», «Дочь мельника», «Энону» и «Леди из Шалотт»; но критики «Quarterly», жестоко осудившие его ранние работы, снова были безжалостно суровы. Влияние этой резкой критики на чувствительную натуру было крайне пагубным; и когда в 1833 году умер его друг Халлам, Теннисон погрузился в период уныния и печали. Эту скорбь можно прочитать в изысканном небольшом стихотворении, начинающемся словами «Разбей, разбей, разбей, О твои холодные серые камни, о море!», которое было его первой опубликованной элегией, посвящённой другу; а угнетающее влияние резкой и несправедливой критики чувствуется в «Мерлине и луче», что читатель поймет только после прочтения биографии Теннисона.
В течение почти десяти лет после смерти Халлама Теннисон ничего не публиковал, и его перемещения трудно проследить: семья переезжала с места на место в поисках покоя и дома в разных частях Англии. Однако, несмотря на молчание, он продолжал писать стихи, и именно в эти печальные дни скитаний он начал свои бессмертные «Памяти короля» и «Идиллии короля». В 1842 году друзья убедили его представить миру свои произведения, и с некоторыми колебаниями он опубликовал свои «Стихи». Успех этого произведения был почти мгновенным, и мы можем оценить благосклонность, с которой оно было принято, прочитав благородные белые стихи «Улисса» и «Смерти Артура», прекрасную песнь скорби по Галламу, о которой мы уже упоминали, и изысканные идиллии, такие как «Дора» и «Дочь садовника», которые вызвали энтузиазм даже у Вордсворта и вызвали у него письмо, в котором он писал, что всю жизнь пытался написать такую ;;английскую пастораль, как «Дора», и потерпел неудачу. С этого времени Теннисон, с растущей уверенностью в себе и своём послании, неизменно сохранял за собой звание самого известного и любимого поэта Англии.
1850 год был счастливым для Теннисона. Он был назначен поэтом-лауреатом, преемником Вордсворта, и женился на Эмили Селлвуд,
Той, чья кроткая воля изменила мою судьбу
И превратила мою жизнь в благоухающее пламя алтаря,
которую он любил тринадцать лет, но на которой бедность помешала ему жениться. Этот год стал ещё более знаменательным благодаря публикации «In Memoriam», пожалуй, самого долговечного из его стихотворений, над которым он работал с перерывами шестнадцать лет. Три года спустя, на деньги, которые теперь приносила ему работа, он арендовал дом в Фаррингфорде на острове Уайт и поселился в первом постоянном доме, который знал с тех пор, как покинул пасторский дом в Сомерсби.
Оставшиеся сорок лет своей жизни он прожил, подобно Вордсворту, «в тишине великого покоя», непрерывно писал и наслаждался дружбой со множеством людей, как знатных, так и никому не известных, от доброй и отзывчивой Виктории до слуг на его собственной ферме. Всех их он с одинаковой искренностью называл своими друзьями, и для каждого он был одним и тем же человеком: простым, сильным, добрым и благородным. Карлейль описывает его как «прекрасного человека с крупными чертами лица, тусклым взглядом, бронзовым загаром, лохматой головой… очень спокойного, братского, добросердечного». Он любил одиночество и ненавидел публичность, но многочисленные туристы с обеих сторон океана, которые искали его в его убежище и настаивали на встрече, делали его жизнь порой невыносимой. Отчасти под влиянием желания избежать такой популярности он купил землю и построил для себя новый дом, Олдворт, в графстве Суррей, хотя большую часть года он проводил в Фаррингфорде.
Его труд в эти годы, его удивительная свежесть и юность чувств лучше всего осознаются при беглом взгляде на содержание всех его произведений. Не слишком удачные поэмы, такие как «Принцесса», написанная в первые минуты успеха, и драмы, написанные вопреки советам лучших друзей, легко подвергаются критике; но основная часть его стихов демонстрирует поразительную оригинальность и энергию до самого конца. Он умер очень тихо в Олдворте, в окружении семьи, при лунном свете, и рядом с ним лежал том Шекспира, открытый на панихиде в «Цимбелине»:
Не бойся больше ни солнечного зноя,
Ни ярости суровой зимы;
Ты выполнил свой мирской долг,
Ты вернулся домой и получил свою плату.
Сильный и благородный дух его жизни отражен в одном из самых известных стихотворений, «Переправа через отмель», написанном на восемьдесят первом году жизни, которое он хотел поместить в конце собрания своих сочинений:
Закат и вечерняя звезда,
И один ясный зов для меня!
И пусть не будет стонов отмели,
Когда я выйду в море,
Но такой прилив, что, двигаясь, кажется спящим,
Слишком полный для звука и пены,
Когда то, что тянулось из бездонной глубины,
Вернётся домой.
Сумерки и вечерний звон,
А потом тьма!
И пусть не будет печали прощания,
Когда я отплыву;
Ибо, хотя из-за пределов нашего Времени и Места,
Поток может унести меня далеко,
Я надеюсь увидеть своего Кормчего лицом к лицу.
Когда я перейду отмели.
СОЧИНЕНИЯ.
==========
В начале нашего изучения творчества Теннисона, пожалуй, стоит отметить два момента. Во-первых, поэзию Теннисона нужно не столько изучать, сколько читать и ценить; он поэт, которого нужно держать открытым на столе и которым можно наслаждаться так же, как наслаждаешься его ежедневными размышлениями. Во-вторых, нам непременно следует начинать знакомство с Теннисоном ещё в юности. В отличие от Браунинга, которого обычно ценят более зрелые умы, Теннисон создан для наслаждения, для вдохновения, а не для поучения. Только юность способна по-настоящему оценить его; а юность, к сожалению, за исключением немногих, прекрасных случаев, – это то, что не остаётся с нами долго после окончания школы. Секрет поэзии, особенно поэзии Теннисона, заключается в вечной молодости и, подобно Адаму в раю, каждое утро находить новый мир – свежий, чудесный, вдохновляющий, словно сошедший из рук Божьих.
Ранние поэмы Теннисона и его поздние драмы можно смело пропустить, за исключением тех, кто стремится постичь весь спектр поэзии этого века. Мнения по поводу обоих разделов расходятся, но общее мнение, похоже, сводится к тому, что в ранних поэмах слишком сильно влияние Байрона, и их грубость проигрывает в сравнении с изысканно законченными произведениями Теннисона середины его жизни.
Он написал семь драматических произведений, стремясь представить значительную часть истории Англии в серии драм. «Беккет» был одним из лучших его произведений и пользовался большим успехом на сцене; но, как и все остальные, он свидетельствует о том, что Теннисону не хватало драматической силы и юмора, необходимых для успешного драматурга.
Среди оставшихся стихотворений такое разнообразие, что каждому читателю, в основном, предоставляется возможность следовать собственному восхитительному выбору. Из стихотворений 1842 года мы уже упомянули те, которые наиболее достойны прочтения. «Принцесса, попурри» (1847), длинная поэма, состоящая более чем из трёх тысяч строк белого стиха, – это ответ Теннисона на вопрос о правах женщины и её сфере деятельности, который тогда, как и в наши дни, сильно волновал общественное мнение. В этом стихотворении младенец наконец решает проблему, над которой философы размышляли с тех пор, как люди начали последовательно размышлять о человеческом обществе. Несколько изысканных песен, таких как «Слёзы, праздные слёзы», «Песня горна» и «Сладкая и тихая», составляют самую восхитительную часть этой поэмы, которая в целом едва ли соответствует уровню поздних произведений поэта. «Мод» (1855) – это то, что в литературе называют монодрамой, рассказывающей историю влюблённого, который переходит от болезненного состояния к экстазу, затем к гневу и убийству, за которыми следуют безумие и исцеление. Это было любимое стихотворение Теннисона, и он читал его вслух друзьям чаще, чем любое другое. Возможно, если бы мы могли услышать его в исполнении Теннисона, мы бы оценили его лучше; но в целом оно кажется перегруженным и мелодраматичным. Даже тексты, например, «Войди в сад, Мод», которые делают это произведение любимым среди юных влюблённых, характеризуются «красивостью», а не красотой или силой.
Возможно, самое любимое из всех произведений Теннисона – «In Memoriam», которое благодаря своей теме и изысканному мастерству исполнения является «одним из немногих бессмертных имён, которые не родились, чтобы умереть». Непосредственным поводом к написанию этого замечательного стихотворения стала глубокая личная скорбь Теннисона по поводу смерти его друга Халлама. По мере того, как он писал одну за другой строки, вдохновлённый этой печальной темой, горе поэта становилось всё менее личным, и им овладевала более глубокая скорбь человечества, оплакивающего своих погибших и сомневающегося в своём бессмертии.
Постепенно стихотворение стало выражением сначала всеобщего сомнения, а затем и всеобщей веры, веры, которая в конечном счёте основывается не на разуме или философии, а на инстинкте души к бессмертию. Бессмертие человеческой любви – тема стихотворения, состоящего из более чем сотни различных текстов. Действие переносит нас на протяжении трёх лет, постепенно поднимаясь от пронзительной печали и сомнений к спокойному миру и надежде, и завершаясь благородным гимном мужеству и вере – скромному мужеству и смиренной вере, вдохновлённой любовью, – который будет любимым гимном до тех пор, пока опечаленные люди будут искать утешения в литературе. Хотя величайшие книги Дарвина ещё не были написаны, наука уже перевернула многие старые представления о жизни; и Теннисон, живший вдали от цивилизации и глубоко размышлявший над всеми проблемами своего времени, подарил миру это стихотворение как свой собственный ответ на сомнения и вопросы людей. Этот общечеловеческий интерес в сочетании с изысканной формой и мелодичностью делает поэму, по крайней мере в глазах публики, высшей погребальной или элегической поэмой нашей литературы; хотя «Лицид» Мильтона, с критической точки зрения, несомненно, является более художественным произведением.
«Идиллии короля» входят в число величайших поздних произведений Теннисона. Их основной темой являются кельтские легенды о короле Артуре и его рыцарях Круглого стола, а главным источником материала служит «Смерть Артура» Мэлори. Здесь, среди этого множества прекрасных легенд, несомненно, находится тема великого национального эпоса; однако спустя четыреста лет, в течение которых многие поэты использовали этот материал, великий эпос все еще не написан. Мильтон и Спенсер, как мы уже отмечали, тщательно изучили этот материал; и, возможно, только Мильтон из всех английских писателей обладал способностью использовать его в великом эпосе. Теннисон начал использовать эти легенды в своей «Смерти Артура» (1842); Однако эпическая идея, вероятно, пришла ему в голову позже, в 1856 году, когда он начал «Герайнта и Энид», и он добавил истории о «Вивьен», «Элейн», «Гвиневре» и других героях и героинях с перерывами, пока «Балин», последняя из идиллий, не появился в 1885 году. Позднее эти произведения были собраны вместе и организованы с целью достижения единства.
Результат ни в коем случае не является эпической поэмой, а скорее серией отдельных стихотворений, слабо связанных между собой общей нитью интереса к Артуру, центральному персонажу, и его безуспешной попытке основать идеальное королевство.
Совершенно иной по духу сборник стихотворений под названием «Английские идиллии», начатый в сборнике «Стихотворения 1842 года», который, по замыслу Теннисона, должен был отражать идеалы самых разных типов английской жизни. Из этих разнообразных стихотворений «Дора», «Дочь садовника», «Улисс», «Локсли-холл» и «Сэр Галахад» – лучшие; но все они достойны изучения. Одно из самых известных произведений этой серии – «Энох Арден» (1864), в котором Теннисон отходит от средневековых рыцарей, лордов, героев и прекрасных дам, чтобы найти материал для истинной поэзии среди простых людей, составляющих большую часть английской жизни. Его редкая мелодичность, сочувствие к повседневной жизни и раскрытие красоты и героизма, таящихся в скромных мужчинах и женщинах повсюду, мгновенно сделали это произведение любимым. Если судить только по продажам, это было самое популярное из его произведений при жизни поэта.
Поздние сборники Теннисона, такие как «Баллады» (1880) и «Деметра» (1889), не стоит упускать из виду, поскольку они содержат некоторые из его лучших произведений. Первый сборник содержит волнующие военные песни, например, «Оборона Лакхнау», и картины дикой страстной скорби, например, «Рицпа»; последний примечателен «Раскаянием Ромни» – замечательным произведением; «Мерлином и Лучом», выражающим жизненный идеал поэта; и несколькими изысканными песенками, например, «Дрозд» и «Дуб», которые показывают, как удивительно пожилой поэт сохранял свою юношескую свежесть и вдохновение. Здесь, безусловно, достаточно разнообразия, чтобы подарить нам долгие годы литературного наслаждения; и вряд ли стоит упоминать разнообразные стихотворения, такие как «Ручей» и «Атака лёгкой бригады», которые знает каждый школьник. и «Заработная плата» и «Высший пантеизм», которые должен прочитать каждый человек, размышляющий над старой-престарой проблемой жизни и смерти.
ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ ТЕННИСОНА.
============================
Если мы попытаемся суммировать достоинства Теннисона, как они показаны во всех этих произведениях, задача непростая; но три вещи выделяются более или менее ясно. Во-первых, Теннисон по сути своей художник. Никто другой в его эпоху не изучал искусство поэзии так постоянно или с такой целеустремленностью; и только Суинберн соперничает с ним в мелодичности и совершенной отделке своих стихов. Во-вторых, как и все великие писатели его эпохи, он подчеркнуто учитель, часто лидер. В предшествующую эпоху, в результате потрясений, вызванных Французской революцией, беззаконие было более или менее распространено, и индивидуальность была правилом в литературе. Тема Теннисона, столь характерная для его эпохи, — это господство порядка — закона в физическом мире, порождающего эволюцию, и закона в духовном мире, вырабатывающего совершенного человека. В «Памяти короля», «Идиллиях короля», «Принцессе» — вот три совершенно разных стихотворения; Однако темой каждого из них, поскольку поэзия является разновидностью духовной философии и взвешивает свои слова, прежде чем их произнести, является закономерное развитие закона в естественном и духовном мире.
Это, безусловно, новое учение в поэзии, но послание этим не заканчивается. Закон подразумевает источник, метод, цель. Теннисон, честно и мужественно столкнувшись со своими сомнениями, находит закон даже в горестях и потерях человечества. Он приписывает этому закону бесконечный и личный источник и видит высшую цель всякого закона в откровении божественной любви. Вся земная любовь, таким образом, становится образом небесной. Возможно, читателя в первую очередь привлекал к Теннисону, как и к Шекспиру, характер его женщин – чистых, нежных, утонченных созданий, которых мы должны почитать так же, как наши англосаксонские предки почитали женщин, которых любили. Подобно Браунингу, поэт любил одну прекрасную женщину беззаветно, и ее любовь прояснила смысл всей жизни. Послание идет еще дальше. Поскольку закон и любовь существуют в мире, вера – единственно разумное отношение к жизни и смерти, даже если мы их не понимаем. Таковы, вкратце, все послание и философия Теннисона.
Если мы сейчас попытаемся определить постоянное место Теннисона в литературе, основываясь на его жизни и творчестве, мы должны применить к нему тот же критерий, который мы применяли к Мильтону и Вордсворту, и, конечно, ко всем нашим великим поэтам, и спросить вместе с немецкими критиками:
«Что нового он сказал миру или даже своей собственной стране?» Честно говоря, ответ заключается в том, что мы пока не знаем наверняка; мы всё ещё слишком близки к Теннисону, чтобы судить о нём беспристрастно. Однако одно ясно. В удивительно сложную эпоху, среди сотни великих людей, он считался лидером. Целых полвека он был голосом Англии, его любили и почитали как человека и поэта не просто несколько проницательных критиков, но весь народ, который нелегко отдаёт свою преданность одному человеку. И это, на данный момент, достаточный панегирик Теннисону.
РОБЕРТ БРАУНИНГ (1812-1889)
===========================
Как же прекрасна жизнь человека, как само её существование!
Как же она подходит для того, чтобы вечно наполнять радостью всё сердце, душу и чувства!
В этой новой песне Давида из «Саула» Браунинга мы видим намек на удивительную энергию и надежду, характерные для всех произведений Браунинга, единственного поэта того времени, который после тридцати лет непрерывной работы был наконец признан и поставлен рядом с Теннисоном и которого будущие века могут счесть более великим поэтом, — возможно, даже величайшим в нашей литературе со времен Шекспира.
Главная трудность чтения Браунинга заключается в неясности его стиля, которую критики полувековой давности высмеивали. Их отношение к ранним произведениям поэта можно понять из юмористической критики Теннисона, описывающей Сорделло. Стоит вспомнить, что первая строка этого малоизвестного стихотворения звучит так: «Who will may hear Sordello’s story tell» (Кто бы мог услышать историю Сорделло), а последняя — так: «Who would has heard Sordello’s story tell» (Кто бы хотел услышать историю Сорделло). Теннисон заметил, что это единственные строки во всей поэме, которые он понял, и что обе они, очевидно, были ложью. Если попытаться объяснить эту неясность, озадачивавшую Теннисона и многих менее доброжелательных критиков, то обнаружится, что у неё много причин. Во-первых, мысль поэта часто неясна или настолько тонка, что язык не может её выразить в совершенстве, —
Мысли, которые едва ли можно вместить
В сжатый акт,
Фантазии, прорвавшиеся сквозь язык и вырвавшиеся наружу.
Во-вторых, Браунинг перескакивает с одной мысли на другую, руководствуясь собственными ассоциациями, и забывает, что ассоциации читателя могут быть совершенно иного рода.
В-третьих, Браунинг небрежно обращается с английским и часто прерывает речь, представляя нас чередой восклицаний. Поскольку мы не вполне понимаем ход его мысли, нам приходится останавливаться между восклицаниями, чтобы проследить связи. В-четвертых, намёки Браунинга часто надуманы, отсылая к каким-то разрозненным обрывкам информации, почерпнутым им из обширного чтения, и обычному читателю трудно их отследить и понять. Наконец, Браунинг слишком много писал и слишком мало редактировал. Время, которое он должен был посвятить объяснению одной мысли, было потрачено на выражение других мыслей, которые порхали в его голове, словно стая ласточек. Его сферой была душа человека, никогда не совпадающая ни у одного человека, и он стремился выразить скрытые мотивы и принципы, управляющие индивидуальными действиями. В этой сфере он подобен шахтеру, работающему под землей и выбрасывающему на поверхность массы смешанной земли и руды; и читатель должен просеять весь этот материал, чтобы отделить золото от шлака.
(*-460 стр.->!~(547)*)
~
Свидетельство о публикации №225102501133