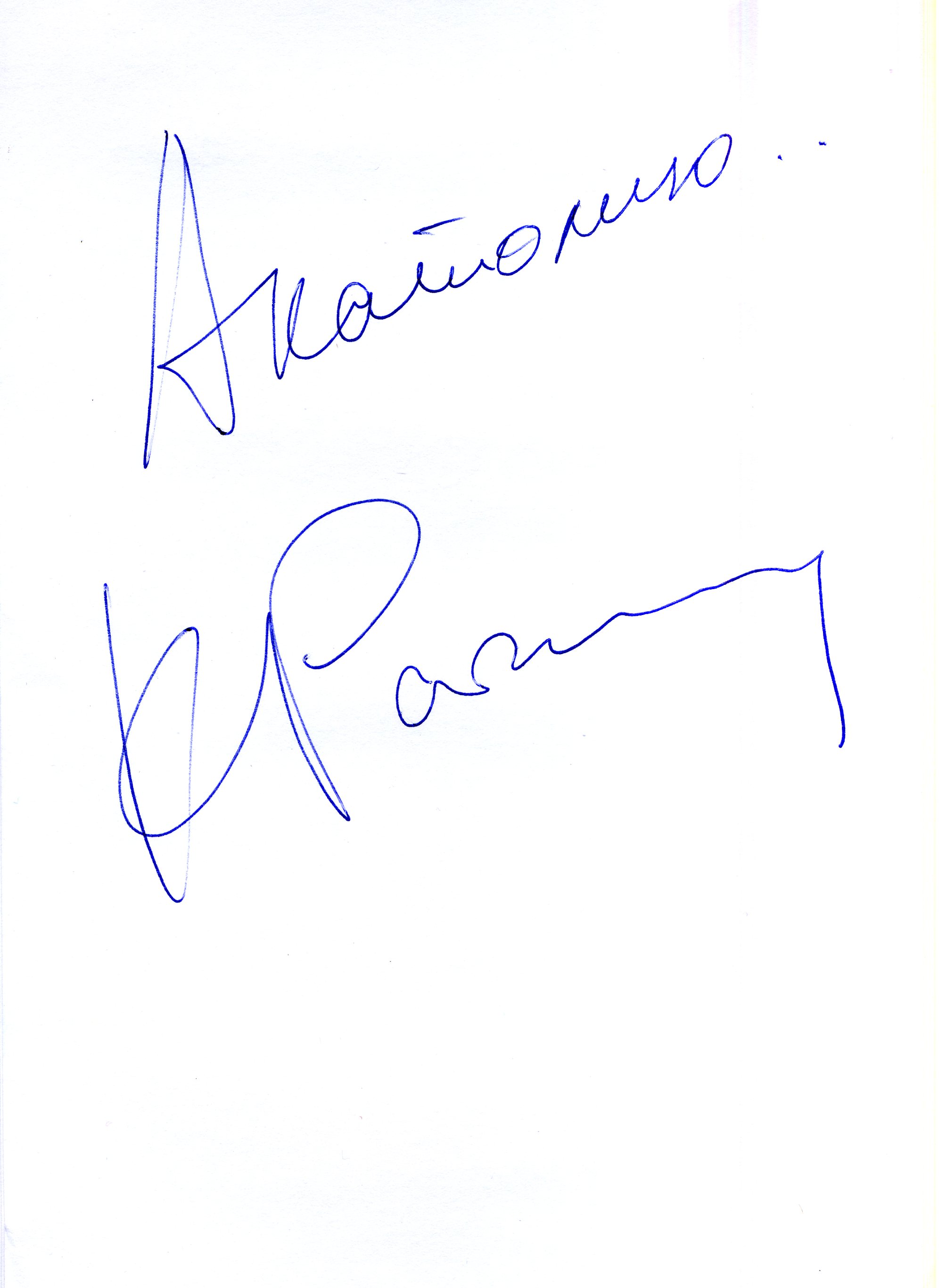Театр России
Книга о театре и театралах, театре Дины Кировой в Париже, полемике с Захаром Прилепиным о причинах смерти поэта Есенина, конкуренции с музыкальным камерным театром "SоТворение чуда" Погребенко, пьесах "Батум" Михаила Булгакова и "Борьба магов" Георгия Гурджиева, а также о многом другом
На роковой площади
От оплеух и плевков
Ты гордеца своего
Не покрывшая телом.
В маске дурацкой лежал,
С дудкой кровавой во рту,
— Ты, гордецу своему
Не отершая пота...
Своекорыстная кровь! —
Проклята, проклята будь
Ты — Лжедимитрию смогшая быть Лжемариной!
28 апреля 1921
Цветаева
Да! Водевиль есть вещь, а прочее всё гиль!
А.С. Грибоедов "Горе от ума"
Если Путин, предположим гипотетически, захочет передать полномочия, в силу внешних и внутренних обстоятельств, как это сделал Борис Ельцин в 1999, то у кого больше шансов? У театрального режиссёра "SоТворение чуда" Погребенко, атамана станицы "Сталинская, который ставит варьете и оперетты, то есть лёгкий жанр, или у автора этих строк, который топит за народный театр и метод Станиславского?
Юрий Бутусов выпустит в Вильнюсе премьеру по Стоппарду. Вильнюсский Старый театр (бывший Русский драматический театр Литвы) опубликовал расписание на сентябрь. Первой премьерой сезона 2023-2024 станет спектакль Юрия Бутусова «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».
САТИРИКОН
Известный театральный деятель и киноактер Константин Райкин провёл мастер-класс на Новой сцене Александринского Театра 9 декабря,на котором побывал и автор этих строк.
Талантливый человек Константин Райкин,руководитель московского театра "Сатирикон",за несколько часов буквально заразил аудиторию искрометной энергией.
Константин рассказал о своих творческих принципах,которые базируются на классической школе театрального искусства Станиславского и Островского. Николая Островского Райкин справедливо считает одним из наиболее выдающихся деятелей мирового театрального искусства наравне с Шекспиром,Мольером и Гольдони.
С увлечением Константин говорил об увлечённых какой-либо идеей человеке и его сценическом воплощении.
После окончания мастер-класса Райкин дал интервью телеканалам Россия1,тв100.
Райкин считает недостаточным уровень финансирования культуры России.
Пресс-релиз
9 декабря на Новой сцене Александринского театра прошел мастер-класс народного артиста РФ Константина Райкина. Мастер-класс является частью культурной программы секции «Театр» III Международного культурного форума, проходящего в Санкт-Петербурге.
Российский актер театра и кино, руководитель московского театра «Сатирикон» и Высшей школы сценических искусств встретился с гостями Форума, театральными деятелями и студентами театральных ВУЗов. В ходе открытого, неформального диалога Константин Райкин поделился мнением о самых актуальных вопросах театрального искусства, видением перспектив современного театрального образования и ответил на вопросы, вызывающие особый интерес участников театрального процесса. Много говорилось о запретах в искусстве, творческом пути и связи поколений, состоянии современного театра. Особо ярко прозвучала тема, ставшая сквозной для многих выступлений деятелей искусства в рамках дискуссионной программы Форума: Константин Райкин поделился своей тревогой, связанной с ходом культурных процессов.
«Когда решаются судьбы нашей страны, слово «культура» не звучит, а это, мне кажется, большая ошибка. Это отражается и в бюджете: 0,7% выделяется на культуру, а, значит, государство недооценивает вопросы духа нации», – отозвался Константин Райкин на озвученные в ходе Форума показатели. «Здание культуры нации выстраивается десятилетиями и даже столетиями. Этим надо заниматься постоянно, независимо от падения или роста рубля».
Иллюстрация: автограф Константина Райкина от 9 декабря 2014 года автору этих строк.
СТАЛИН И БУЛГАКОВ
Известно, что «вождь всех народов» Иосиф Виссарионович Сталин любил смотреть спектакль по пьесе Михаила Афанасьевича Булгакова «Дни Турбиных». Это произведение – переработанная история «Белой гвардии», эпохального романа о смутном времени в России периода революции и начала гражданской войны. Некоторые литературоведы полагают, что пьеса заинтересовала товарища Сталина не только благодаря своим художественным достоинствам, но и из-за идеологии. Драма дореволюционной интеллигенции, которая находит в себе силы жить дальше в условиях новой, советской, власти, очевидно, ложилась ему на душу.
Иной была позиция автора: Михаил Афанасьевич категорически не принял большевистский режим и не скрывал этого. Он просил разрешения выехать за границу, так как в Советском Союзе его не печатали, пьес не ставили и работу не давали. Булгаков был человеком нервным, болезненным; себя он называл писателем «мистическим и сатирическим», который никогда не уживётся в СССР. Несмотря на крамольные высказывания в адрес советской власти, Булгакова не арестовали и не репрессировали. Более того, однажды ему позвонил сам Иосиф Виссарионович и посоветовал подать заявление на работу в МХАТ, а также намекнул на скорую личную встречу. Писатель ухватился за эти слова, как утопающий – за соломинку. Он подал заявление, и его приняли. Михаил Афанасьевич стал ассистентом режиссёра. Но послабление длилось недолго: через некоторое время пьесы Булгакова снова покинули театральные подмостки.
Несмотря на творческую депрессию, писатель сохранил независимость. Он не переделал пьесу «Бег», которую Сталин охарактеризовал как «антисоветское явление». Правда, уже находясь совсем в отчаянном положении, Булгаков написал пьесу «Батум» – про молодого Джугашвили. Она пришлась по душе многим режиссёрам; несколько театров сразу запросили её для постановки, даже начались репетиции, но буквально в последний момент её сняли с репертуара. Это было новым ударом для писателя, который и так с трудом переживал нервную депрессию.
Пожалуй, главная проблема Булгакова заключалась в том, что он хотел повторить со Сталиным модель отношений Николая I и Пушкина. Известно, что в 1826 году император сам себя назначил личным цензором поэта. И хотя отношения царя и поэта были весьма противоречивыми, всё же Николай Павлович благоволил к опальному пииту. Иосиф Виссарионович был другим человеком и на письменную просьбу Булгакова стать его «первым читателем» ответил многозначительным молчанием.
Общенациональная ассоциация молодых музыкантов, поэтов и прозаиков https://litromir.online
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАЛЬСИНГАМ
Всё это довольно ярко проявилось и в эпоху Петра I: звон шутовских бубенчиков для него почти вовсе заглушает колокольный звон. Известна широкая культивация Петром поздних форм праздника дураков (такой легализации и государственного признания этот праздник за всё тысячелетие своего существования никогда и нигде не получал); развенчания и шутейные увенчания этого праздника прямо вторгались в государственную жизнь, вплоть до слияния шутейных званий с реальной государственной властью (в отношении Ромодановского, например); новое внедрялось в жизнь первоначально в «потешном» наряде...
М.М. Бахтин
Существовавшая в Российской империи, придуманная Петром Первым чугунная медаль, была введена с целью борьбы против пьянства. Медаль вешали в полицейском участке в наказание за черезмерное употребление алкоголя. Крепилась она на шею так, чтобы нельзя было снять. Считается самой тяжёлой по массе "наградой" в истории.
Владение россиянами самогонными аппаратами это угроза национальной безопасности.
Испанские конкистадоры победили индейцев, только когда научили их гнать самогон. Командование пожертвовало для этого даже запасом ружей! Их стволы "подарили" индейцам в виде самогонных аппаратов. Итог спаивания целого народа желающие могут наблюдать в США - бывшие хозяева континента живут на землях своих предков в резервациях, куда на них, как в зоопарк, ходят смотреть туристы.
Наша партия считает необходимым в рамках начала новой антиалкогольной кампании (с учётом всех недочётов первой антиалкогольной кампании, горбачёвской, в СССР) призвать россиян к добровольной сдаче самогонных аппаратов.
Кстати, а что Перов?
На сегодняшний момент Перов, второе лицо Партии социальной защиты, лидер которой изобретатель и рационализатор Михайлов намерен баллотироваться в президенты РФ в 2024, не стал добровольно отказываться от владения самогонным аппаратом.
Также не поддержал проект трезвой России с переносом памятника чижику-пыжику с набережной Фонтанки. Как и театральный деятель Погребенко, который ставит в своём музыкальном театре "SоТворение чуда" лёгкий жанр, оперетты и водевили. В репертуаре его театра нет на сегодняшний день могущей значительно укрепить коллективный иммунитет Петербурга пьесы Пушкина "Пир во время чумы". Впрочем, этой пьесы, не взирая на мой призыв как художественного руководителя уличного театра "Ельцин был скином" к театральной общественности европейской столицы, нет и в театральных афишах нового театрального сезона БДТ и Александринки.
Со своей стороны могу подтвердить, что готов сыграть роль Председателя Вальсингама на сцене любого, особо это подчёркиваю, любого театра Петербурга.
Считаю, что заслужил эту роль, так как в разгар эпидемии коронавируса, работая в ЧОПе охранником, перекрывал турникет ковид-больницы Свердловки на Крестовском острове. И написал об этом документальное сочинение, первую книгу моей знаменитой тетралогии, под названием ТУРНИКЕТ. НА ПЕРЕДОВОЙ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ.
Она издана в интеллектуальном сервисе издания книг Ридеро, доступна и в качестве электронной книги, и как аудиокнига. Есть и печать по требованию бумажного варианта, книга стоит того, чтобы прочитать её и распечатать для личной библиотеки.
По мнению литературных критиков и читателей, это главное и наиболее значительное произведение современной европейской и российской литературы, свободное продолжение "Фауста" Гёте на языке Чака Паланкика и развитие идей книги о беге Харуки Мукраками, написанное известным в Петербурге писателем-марафонцем. Читать интереснее расследований Алексея Ракитина. Это информационный удар по безгуманному и антироссийскому, русофобскому Новому Мировому Порядку глобалистов и бильдельбергеров, международных банкиров. Автор этих строк выступил в упомянутом произведении как новатор литературы.
РАСПУТИН
Из тг канала Здесь вам не Москва.
На иммерсивный гастроспектакль «Я убил Распутина» приглашает Серпуховский художественно-исторический музей 15 июля и 19 августа. 18+
В спектакле «Я убил Распутина» объединяются сразу несколько видов искусства – театр, балет, хореография, литература, история, архитектура и гастрономия. Его особенность в том, что он затрагивает все органы чувств, а действия происходят не в заранее созданных декорациях, а в реальной жизни.
В первом акте вас ждёт погружение в историю. Вы услышите рассказ об одном из громких убийств XX века – через подлинные экспонаты коллекции рода Юсуповых в Серпуховском музее. Здесь «золотой мальчик», князь Феликс Юсупов, поведает свою версию убийства Григория Распутина.
Второй акт – погружение гастрономическое. Всех гостей пригласят переместиться в ресторан La Dacha, где шеф-повар приготовит для них ужин по рецептам дочери Распутина. Все 4 смены блюда будут также вплетены в сюжет спектакля.
В третьем акте вы отправитесь в мистическое путешествие по историческим местам Серпухова и пропустите через себя историю двух самых приближённых людей последнего русского царя. А после – Григорий Распутин заберёт вас в паломничество по старинным монастырям и церквям города.
ТЕАТР И ПАРТИЯ
Из чата мессенджера WhatsApp ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
[21.05, 10:36] Анатолий: А поддерживает ли кандидатуру кандидата в президенты РФ Михайлова атаман станицы Сталинская подъесаул Погребенко? Он возглавляет музыкальный театр "SоТворение чуда", ставит лёгкий жанр, оперетты, варьете... Также открыто выступил против инициативы оперштаба трезвой России за перенос памятника чижику-пыжику с набережной Фонтанки в Ленобласть, место нового пребывания бронзовой птицы ещё надо найти. Замечу при этом, что заместитель кандидата в президенты РФ Михайлова Перов пока открыто не выступил за перенос памятника чижику-пыжику, медлит. Погребенко утверждает, что "бросил увесистую каменюку в огород господина Отбросова", так как, по его мнению, ковид из Петербурга ушёл, а чижик-пыжик на месте... Но эта манипуляция общественным сознанием со стороны атамана хутора Сталинский, так как эксперты предупреждают, что вероятны новые волны коронавирусной чумы, которые могут обрушиться на морскую столицу России. Поэтому для обеспечения безопасности горожан наш оперштаб продолжает настаивать на переносе памятника чижика-пыжика, надо играть на опережение, смотреть стратегически. Если Беглов занимается памятниками, впрочем, не слишком удачно, так как достаточно вспомнить памятник "пьяному Блоку" на улице Декабристов, то прежде всего необходимо подписать распоряжение о переносе памятника чижику-пыжику. Результаты моего расследования показали, что чижик-пыжик даже не входит в Музейный фонд России. План директора ЦРУ Аллена Даллеса предполагает спаивание россиян, программирование их на потребление водки, чижик-пыжик с известной песенкой как раз полностью укладываются в план Даллеса. По гамбургскому счёту литератор средней руки Битов вряд ли понимал, какой ущерб он причиняет здоровью читателей европейской столицы, когда выступил с инициативой установки памятника. Очевидно, что попытки представить чижик-пыжик новым символом Петербурга наравне с Медным всадником не соответствуют статусу Петербурга как европейской столицы литературы искусств.
[21.05, 10:43] Анатолий: Замечу, что Погребенко в очередной раз некорректно коверкает мою фамилию Обросков, при этом публикую свои книги под авторским псевдонимом Ник Карпати.
[21.05, 11:00] Анатолий: Перов предлагает голосование за благоустройство в Центральном районе, хотя для здоровья горожан, укрепление иммунитета Петербурга, народосбережения России прежде всего необходимо объединение активистов с тем, чтобы Беглов принял соответствующее распоряжение о переносе памятника чижику-пыжику с набережной Фонтанки.
Оперштаб трезвой России открыто выступил за перенос памятника бронзового чижика-пыжика с набережной Фонтанки, всячески противостоит превозношению этого памятника в ряд таких символов Петербурга как Медный всадник и кот-учёный.
По моему мнению, политического и литературного лидера европейского континента, чижика-пыжика необходимо изъять из мифологии столицы литературы и искусств.
Насколько это важно показывают итоги международного Книжного Салона на Дворцовой площади, когда чижик-пыжик предлагали сделать символом салона, что нанесло бы огромный ущерб иммунитету города. Но благодаря прежде всего работе оперштаба Ника Карпати подобного развития событий удалось избежать. Это реальное дело, а не маниловщина по благоустройству Центрального района. Кто стоит за попыткой сделать символом Книжного Салона чижика-пыжика? По всей видимости, это может быть атаман станицы "Сталинская" подъесаул Погребенко, он же возглавляет музыкальный театр SоТворение чуда, театр лёгкого жанра (ставит оперетты, варьете). Но напрасно думает Погребенко и участники его группы из представителей театральных и музыкальных кругов города, что позиции чижика-пыжика непоколебимы, чижик-пыжик будет перенесён за пределы Петербурга в результате референдума, над организацией которого в настоящее время работает оперштаб Ника Карпати.
Фотографию с фейком про ковид и чижика-пыжика распространяет как раз в соцсетях Погребенко, скрины конкурса о символе Книжного Салона прикладываю.
По прежнему открыт, не взирая на расхождения по местонахождению чижика-пыжика, к совместной постановке моего народного уличного театра Ника Карпати ("Ельцин был скином") с театром Погребенко "SоТворение чуда" "Маленьких трагедий" А.С. Пушкина, а именно "Пира во время чумы". И я готов сыграть роль Председателя Вальсингама.
Из тг-канала Рабы Малевича.
Движение скинхедов до проникновения неонацистов
Самые первые «скинхеды» появились в Британии в 1968-1969 гг. С сегодняшним образом «скинхеда» — хулиганствующего бритоголового молодчика, расиста и фашиста — они не имели ничего общего, скорее наоборот.
«Скинхеды» «первой волны» были субкультурой рабочих районов Британии, которая возникла как молодежная классовая культура протеста против официальной буржуазной культуры и против контркультуры 60-х гг XX в.
Самое интересное, что «скинхеды» «первой волны» любили чернокожих. Они слушали «музыку черных» — вест-индскую и ямайскую музыку стиля «ска», «реггей» и «рок-стеди» (в Англии «рок-стеди» назывался «блюз-бит»). Любимыми певцами «скинхедов» были чернокожие: Дезмонд Декер («ска») и Лорил Эткин («реггей»). Именно «скинхеды» «открыли» и сделали мировой звездой легендарного певца «реггей» Боба Марли. В клубах и на концертах скинхеды вперемешку толклись с мулатами и неграми — и никаких конфликтов не было. Выходцы из Вест-Индии жили в тех же квартирах, работали на тех же заводах, учились в тех же школах, говорили на том же «кокни»... Даже сама прическа «скинхедов» была скопирована с прически чернокожих «руди-бойз» (молодежная субкультура Ямайки). В отчаянных драках «скинхедов» с «рокерами» на рубеже 70-х XX в. чернокожие вест-индцы участвовали плечом к плечу с англосаксами и ирландцами: дети рабочих против детей буржуазии.
По данной теме советую посмотреть фильм Это Англия (https://youtu.be/LZWX9btIdwA)
...
Заходил сегодня в МДТ Льва Додина, на входе увидел маски против ковида у металлоискательных рамок. ВОЗ объявил о завершении пандемии коронавируса, тем не менее Роспотребнадзор приостановил работу известного театра европейского уровня. В реперутаре МДТ присутствуют спектакли по Достоевскому, это важно. БДТ имени Товстоногова, Александринка и МДТ укрепляют значение Петербурга как театральной столицы Европы. И, конечно же, и многие другие театры, включая уличные, востребованы зрителями.
Из тг-канала ТАСС.
Проверка в Академическом малом драматическом театре — Театре Европы в Санкт-Петербурге была организована по обращению гражданина в прокуратуру, сообщил наш источник в правоохранительных органах.
ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО В АРГЕНТИНЕ
День второй Международного Книжного Салона в Год литературы 2015 прошёл интересно, доставило радостное чувство общение с редакцией журнала "Наш Современник". Выступали Сергей Куняев и Александр Казинцев. Опровергая подвергшего патриотический журнал критике представителя "Фонда Набокова", сказал в своём выступлении, что язык создан народом как результат многотысячелетних усилий в труде и войне, поэтому и использовать языковой инструментарий писатель обязан в интересах стержневого народа.
Приобрёл часть вторую книги Рюхо Окавы "Президент Путин и будущее России.Интервью ангела-хранителя президента Путина".
Главным событием стало участие в Аргентинском павильоне и знакомство с вдовой великого писателя Хорхе Луиса Борхеса. Рассказы Борхеса оказали на меня сильное влияние. Познакомился с сотрудницей Аргентинского павильона, девушкой из древнего ассирийского рода царя Навуходоносора.
Напомню, что Навуходоносор это царь Нововавилонского царства с 7 сентября 605 до н. э. по 7 октября 562 до н. э. из X Нововавилонской (халдейской) династии.
Он благочестивый князь, любимец бога Мардука, возвышенный правитель, возлюбленный бога Набу, тот, кто размышляет и приобретает мудрость.
Посоветовал персоналу павильона повесить флаг Аргентины,сотрудники согласились,что флаг необходим.
Театральный режиссёр Серрано рассказывал о постановках Чехова в аргентинском театре. Оказывается, в столице Аргентины ставят спектакли 300 театров.
А сколько театров в Петербурге? Более ста, но до уровня Буэнос-Айреса ещё далеко.
ТЕАТР ДИНЫ КИРОВОЙ
Во второй день Кульфорума 2015 в БДТ стал свидетелем абсурда в реальности.Когда у сотрудников было несколько аккредитационных списков, в которые не попали многие из пришедших театралов.
Напомню, что инициировал кампанию по исключению спектакля "Пьяные" Вырыпаева и Могучего из репертуара БДТ имени Г.А.Товстоногова.
Мне пришлось вступить в спор с организаторами и добиться, чтобы часть гостей пропустили.
Одна участница IV Санкт-Петербургского международного культурного форума приехала из Парижа; с трудом,но удалось и её провести на мероприятие Могучего.Решающим моим аргументом стал тот,что это позор,когда в знаменитом театре культурной столицы России не находится место для специально приехавшей гостьи из Парижа.
Ею была известный во Франции искусствовед Валентина Кошкарян, которая подарила мне с дарственной подписью как лидеру Трезвого Петрограда свою книгу об актрисе Дине Кировой и созданном ею в Париже "Интимном театре".Валентина попросила, чтобы сразу стал читать книгу о Дине Кировой и написал отзыв. Пообещал сделать это.
Валентина Кошкарян является помощницей Ренэ Герра.
Рене Герра
Французский филолог-славист и коллекционер.
Учился в Париже в Институте восточных языков и в Сорбонне. Магистерскую (а впоследствии, в 1981 году и докторскую) диссертацию посвятил творчеству русского классика, прозаика Бориса Зайцева, в 1967—1972 гг. служил у него литературным секретарём. Преподавал в Университете Ниццы и Институте восточных языков, работал переводчиком-синхронистом. Вёл активную переписку со многими видными деятелями советской культуры, избранные материалы из этой переписки опубликовал в 1992 году в собственном издательстве («Жаль русский народ: Переписка Рене Герра с деятелями советской культуры». — <Paris>: Editions Albatros, 1992.). Занимался литературой и культурой русской эмиграции во Франции. Богатейший архив Герра содержит множество материалов из личных архивов Ивана Бунина, Ирины Одоевцевой, Юрия Анненкова, Георгия Адамовича и других крупнейших культурных деятелей эмиграции, со многими из которых Герра был хорошо знаком. Рене Герра основал и возглавил Ассоциацию по сохранению русского культурного наследия во Франции. В последние годы он много выступает в России. Почётный член Российской Академии художеств. В 2008 году награждён орденом Дружбы народов.
На X литературно-образовательных чтениях, проходивших в Польше, в Гданьске и в Сопоте, при поддержке Центра науки и культуры в августе 2007 года, настоящим литературным открытием стал доклад Валентины Кошкарян, которая подробно рассказала польским славистам о судьбе русской актрисы Дины Кировой, основавшей Русский Интимный театр в Париже.
«Теперь можно считать, что неизвестная страничка о театре русского зарубежья прозвучала на всю Европу», - заверили гостей и участников форума польские слависты. Но Европа – Европой, однако в России история русской актрисы Дины Никитичны Кировой и по сей день известна лишь небольшому числу лиц, интересующихся историей театра и прослеживающих судьбы русской эмиграции. И всё это благодаря книге воспоминаний Дины Кировой «Мой путь служения Театру», изданной тиражом в тысячу экземпляров Нижегородским издательством «Дятловы горы» по инициативе слависта Валентины Кошкарян. Но как попала к ней уникальная рукопись русской актрисы, которая жила в «Русском доме» под Парижем?
Дело в том, что кандидат наук, славист Валентина Кошкарян эмигрировала во Францию из Сухуми в 1993 году. Она преподавала русский язык в Париже, в Сорбонне, а в настоящее время является докторантом Государственного университета в Ницце. Валентине, как человеку, искренне любящему русский язык и русскую культуру, трудно было оставить в забвении чудом оказавшуюся в ее руках рукопись русской актрисы. Прочитав воспоминания, она решила, во что бы то ни стало осуществить желание Дины Никитичны Кировой и издать ее мемуары. И кто знает, может быть, в этом есть некий промысел Божий, ведь сестру Дины Кировой тоже звали Валентиной? И именно она - старшая сестра, открыла Дине путь на сцену. А теперь, тоже Валентина – Валентина Кошкарян выполнила последнюю волю актрисы, опубликовав ее воспоминания в России.
На презентацию книги воспоминаний Кировой «Мой путь служения Театру», проходившей в Библиотеке-Фонде «Русское Зарубежье» в Москве, прилетели и президент Ассоциации по сохранению русского культурного наследия, профессор славистики Ренэ Герра, и его бывшая студентка, а теперь помощница и сотрудница Валентина Кошкарян. Основной темой вечера стала судьба Дины Кировой, поэтому на сцене был установлен большой портрет русской актрисы. А когда у портрета Кировой с докладом выступала Валентина Кошкарян, то присутствовавшие на вечере друзья и гости изумились, отметив ещё одну интересную деталь: оказалось, что Валентина Кошкарян даже внешне похожа на Дину Кирову.
РЕНЭ ГЕРРА: «ДИНА КИРОВА СОВЕРШИЛА ПОДВИГ»
- К великому сожалению, в 80-е годы минувшего века мало кто во Франции знал, что Дина Никитична Кирова - эта знаковая фигура русской театральной культуры в Париже - доживает свои дни в Русском доме в Сент-Женевьев де Буа. Я тоже не знал, хотя давно занимался русским культурным наследием во Франции, - поделился Ренэ Герра.
- Узнав о судьбе Дины Кировой, что Вы открыли для себя?, - спрашиваю Ренэ Герра.
- Ее путь в изгнание типичен для русской эмигрантки первой волны: Санкт-Петербург-Нижний Новгород – Воронеж – Харьков - Ростов-на-Дону - Феодосия, дальнейшие этапы – Болгария – Сербия - Париж. Дина Кирова стала артисткой еще до революции и во время лихолетья, будучи эмигранткой в Париже, продолжала служить русскому театру. Это удивительный факт, ещё раз доказывающий, что и писатели, и поэты, и художники, и артисты, и певцы продолжали за пределами России заниматься своим любимым делом.
И всё это несмотря на трудные материальные и моральные условия, в которых им приходилось работать и жить. Я знаю, что в советской России «белых эмигрантов» часто представляли как отщепенцев, которые только и делали, что тосковали по утерянной России, утратили свой талант и были поражены творческим бесплодием. Да ничего подобного! Дина Кирова совершила подвиг - она первая из русских актрис создала постоянный русский театр, который давал спектакли в Париже столь длительный срок. А ведь тогда в эмигрантских условиях выжить русскому театру было чрезвычайно сложно.
- Но ведь во Франции открывались и другие русские театры.
- Да, и до Кировой артисты-изгнанники не раз пытались создать в Париже русский театр, среди них можно назвать Ф.Ф.Коммиссаржевского и Е.Н.Рощину-Инсарову. Но их антрепризы, увы, были недолговечны и быстро закрывались, не выдерживая условий, в которых оказались. И только Кирова, благодаря своему мужеству и таланту, сохранила театр, который радовал русских зрителей долгие шесть лет.
- В чём уникальность Интимного Театра Дины Кировой?
- Сначала она создала русский театр в Медоне - любимом месте многих эмигрантов первой волны, в том числе и поэтов Ю.К.Терапиано, В.А.Мамченко и, конечно, Марины Цветаевой. В этом «русском» пригороде Парижа тогда проживало несколько тысяч российских беженцев, о чём красноречиво свидетельствуют могилы на местном кладбище. Вместе с мужем князем Федором Николаевичем Косаткиным-Ростовским, который был художественным руководителем театра, Кирова написала «Манифест», который печатался на каждой театральной программке. Этот «Манифест» служил впоследствии путеводной звездой для других эмигрантских театров. Русский эмигрантский театр в Париже и во Франции – большая тема, которая до сих пор до конца не исследована. Недавно появились книги о русском театре в Европе, Болгарии, Сербии. А во Франции – нет, эта немаловажная глава истории русской культуры ещё не написана.
- Какие основные принципы были изложены в «Манифесте» Дины Кировой?
- Я считаю, что все положения этого уникального документа и до сих пор актуальны в России. Первый пункт «Манифеста» гласит: не дать русской молодежи, разбросанной в эмиграции, забыть родной язык, литературу, русский быт, историю и лучшие стороны прошедшей (и уже им незнакомой) русской жизни, в лучших произведениях русских писателей. Второй – дать возможность взрослой части русской эмиграции вспомнить то же, и минутами, душой, уйти от чуждых условий жизни к воспоминаниям дорогого прошлого и величия России. Третий – дать возможность артистам, разбросанным по разным местам для заработка «хлеба насущного», получать духовную пищу, выступая на сцене и собираясь в хорошую русскую труппу. Четвертый - выявить новые артистические и литературные силы. Пятый – дать возможность зрителю время от времени посмеяться здоровым смехом (для этого один раз в месяц ставятся комедии). И, наконец, последний пункт, шестой – дать дешёвый и серьёзный русский театр в Париже. Всё, что изложено в «Манифесте» - это очень характерно для эмиграции «первой волны». Ведь на самом деле, как эмигранты сами считали, они были не в изгнании, а в послании. Именно поэтому основным делом для них было спасти и сохранить, для того чтобы передать свой опыт и знания грядущему поколению, с надеждой, что это пригодится будущей возрожденной России.
- Каково значение этой книги для современной России?
- Книга Дины Кировой – это ее правдивый рассказ, документ, свидетельствующий об ушедшей эпохе. Она адресована будущему русскому читателю, и сегодня все изложенное в ней нисколько не устарело и остается актуальным. Я уверен, что современный россиянин найдет для себя много любопытного и трогательно в этих замечательных воспоминаниях.
РУССКИЙ ТЕАТР ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ В ПАРИЖЕ
Похожую на триллер историю обретения рукописи рассказывает в одном из своих интервью автор книги "ДИНА КИРОВА. МОЙ ПУТЬ СЛУЖЕНИЯ ТЕАТРУ.ВОСПОМИНАНИЯ" (Нижний Новгород.Издательство "Дятловы горы",2006 г.) Валентина Кошкарян.
- И всё-таки, почему Вы стали заниматься этой темой? - обращаюсь я к Валентине Кошкарян.
- Дина Кирова попала в Русский дом под Парижем в начале войны, в 1940 году, а я - в 1993 - с разницей в полвека. Я ведь тоже приехала во Францию как беженка, из-за грузино-абхазской войны. За эти годы история свершила свой очередной виток. В Русском доме судьба свела меня с удивительными людьми, уехавшими из России после октябрьского переворота. О каждом из них можно писать книги. Да, их осталось мало, но они ещё есть.
Я имею в виду тех, кто был увезен из России родителями, в детском возрасте. «Последними из могикан» называла их, и себя в том числе, писательница Зинаида Алексеевна Шаховская, которая попала в эмиграцию в одиннадцать лет. Она доживала свой век в русском старческом доме в Сент-Женевьев де Буа, и мы с нею не только общались, но и были очень близки в последние два с половиной года ее жизни.
Познакомившись с эмигрантами «первой волны», я поняла, какая уникальная возможность мне предоставлена судьбой. Я организовала кружок литературных чтений. В течение нескольких лет мы встречались раз в неделю, и я читала им что-нибудь из классики или мемуарной литературы по их выбору. У русских эмигрантов была потребность в общении и желание рассказать о пережитом и о судьбах своих родных и близких. Поэтому самой интересной частью наших собраний, особенно для меня, были их «живые» рассказы. О жизни в России и своем пути в эмиграцию рассказывали Борис Николаевич Лосский, сын известного философа, Юлия Георгиевна Барсова, Тамара Владимировна Феликсова. Последней нашей рассказчицей была Зинаида Алексеевна Шаховская. Все они, к сожалению, сегодня уже отошли в мир иной.
- А как рукопись Дины Кировой попала к Вам?
- Во время одной из наших встреч ко мне обратился один из постоянных участников наших собраний - Николай Александрович Тиран, который всегда нежно называл меня «дусей» и «утешительницей». Он попросил меня помочь ему разобрать один из старых чемоданов, сказал, что не открывал его уже лет десять и даже забыл, что в нем находится. «Может быть, мы найдем там что-нибудь интересное и почитаем на нашем литературном кружке», - предложил он.
Нужно сказать, что Николай Александрович был частично парализован и передвигался в инвалидной коляске. После кружка мы стали рассматривать содержимое чемодана. Среди книг лежала пожелтевшая от времени картонная папка, на которой перьевой ручкой было написано: «Княгиня Д.Н. Косаткина-Ростовская. Мой путь служения Театру». Я в юности увлекалась театром и даже несколько лет играла в городском ТЮЗе, поэтому слово «театр» сразу привлекло моё внимание.
- Как же эта рукопись попала к Николаю Александровичу Тирану?
- Я его, конечно, засыпала вопросами. «Это воспоминания одной дамы», - ответил он и рассказал о том, как его дядя Александр Тиран жил в Русском доме и познакомился там с вдовой князя Косаткина-Ростовского, а затем женился на ней. Сначала Александр Тиран просто сочувствовал Дине Кировой, ведь после смерти князя она осталась совсем одна. Он приносил ей белое вино, устрицы. В те времена в этом старческом доме под Парижем мест не хватало, в комнатах селили по два, три человека и больше. Соседка по комнате не очень ладила с Диной Кировой, притесняла ее, не разрешала открывать окно. Тогда Александр Тиран предложил Дине Никитичне официально оформить с ним брак, это дало им возможность занять отдельную комнату и значительно облегчило жизнь.
Впоследствии Николай Александрович Тиран навещал своего дядю, и однажды Кирова отдала ему свои записи, попросив найти издателя, который бы согласился их напечатать. Но, как объяснил мне Николай Александрович, «кому интересна чужая жизнь? К тому же мемуары написаны на русском языке». С тех пор они так и лежали в его чемодане. Дядя его скончался давно и похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа, а Дина Кирова ещё долго жила после его смерти. Так рукопись, пролежавшая в чемодане несколько десятилетий, нашла меня.
- Вы сразу поняли, что перед Вами ценный материал?
- Когда я прочитала рукопись, это бесценное свидетельство русской актрисы, эмигрантки «первой волны», для меня не было никаких сомнений, что воспоминания эти надо обязательно донести до российского читателя, да и сам Николай Александрович попросил меня об этом. Но сначала необходимо было отредактировать текст и, главное, найти документы, подтверждающие все изложенное в мемуарах. Кирова пишет, что архив, который они собирали с князем Косаткиным-Ростовским, был потерян в начале войны, в 1940 году.
Русская актриса в эмиграции в тяжелейших условиях создала театр, который продержался шесть лет. Это явление уникальное, ведь в 20-е годы русские театры во Франции «прогорали» буквально через несколько спектаклей, а в театре Кировой было сыграно около ста сорока. Каждый спектакль можно было показать не более двух-трех раз, потому что у театра была своя постоянная русскоязычная публика.
Несмотря на это, небольшой зал на 220 мест часто был переполнен и не мог вместить всех желающих, стояли у стен, в углах, сидели в проходах. Это ещё раз доказывало, что интерес к Интимному Театру был большой, что Кировой удалось найти контакт с публикой. Театр закрылся только потому, что Кирова перед одним из спектаклей упала в обморок от переутомления. Ведь для того чтобы выжить, она экономила, старалась все делать сама – не только ставила спектакли и играла в них, но и шила костюмы, продумывала декорации, учила начинающих артистов – театральное дело держалось на ней. В результате – подорвала здоровье и без неё, конечно же, невозможно было продолжить работу.
Нужно сказать, что французская пресса называла Интимный Театр - «русским театром первой величины в Париже». К своим воспоминаниям Дина Никитична приложила конверт с фотографиями и программками спектаклей. Эти программки и два групповых снимка сохранили для нас лица ведущих актёров театра. И еще добавлю, что воспоминания написаны талантливой русской актрисой, десять лет служившей до эмиграции в Суворинском Малом театре на амплуа «инженю комик» - играла смешных, наивных, простодушных молодых девушек, и это чувствуется в её рассказах. Во всём, даже в трагических жизненных ситуациях, она находит место смешному, поэтому, читая её мемуары, можно и смеяться и плакать одновременно.
- Вы сказали, что архивы Дины Кировой были потеряны, так как же она писала свои воспоминания? В книге много фамилий, дат. Вам удалось проверить эти данные?
- Дело в том, что все рецензии собирал муж Кировой князь Косаткин-Ростовский, -вырезки из газет, письма, приветственные адреса, афиши и программки. Но архив этот был потерян ещё во время войны в 1940 году. Поэтому ей пришлось писать свои воспоминания по памяти. В книге очень много имен, дат и событий и, проверяя эту информацию, я постоянно удивлялась феноменальной памяти актрисы.
- В чём ещё заключалась ваша работа над книгой?
- Нужно было не только проверить достоверность изложенных в мемуарах событий, дополнить и исправить некоторые даты, дать биографическую справку на уже забытые и вдруг вернувшиеся из прошлого имена. Но самое главное, нужно было найти сведения о театре Кировой, потому что в воспоминаниях о нем почти ничего нет. Просмотрев русскую эмигрантскую периодику за те годы, я собрала рецензии на спектакли, восстановила по ним историю Интимного Театра и изложила ее во вступительной статье. Конечно же, редактируя книгу, я старалась максимально сохранить слог Кировой. Но дело в том, что к тому времени, когда актриса писала мемуары, она прожила во Франции уже около 30 лет. И, конечно же, за такой срок влияние французского языка не могло не отразиться на тексте. Мне как лингвисту и преподавателю русского языка во французских университетах нетрудно было это заметить.
- Почему театр Дины Кировой назывался «интимный»?
- Слово «интимный» в данном случае надо понимать так, как его объясняют словари – «близкий, доверительный». Ведь театр Дины Кировой предназначался узкому кругу людей, спектакли ставились на русском языке. В те годы в Париже был еще один театр, основанный нашим соотечественником Жоржем Питоевым, эмигрировавшим еще до революции, но там спектакли шли на французском языке и собирали другую публику. В послесловии к книге перечислены все спектакли в хронологической последовательности и восстановлены имена актеров, которые были заняты в спектаклях.
- Вы несколько лет провели в Русском Доме под Парижем, расскажите о нем.
- В книге Дины Кировой «Мой путь служения Театру» представлены две княгини Мещерские – Вера Кирилловна и Антонина Львовна.
Русский дом в Сент-Женевьев де Буа основала для престарелых русских эмигрантов Вера Кирилловна, в 1927 году. Русская княгиня-беженка, оказавшись в Париже, открыла пансионат для молодых девушек, что-то наподобие школы благородных девиц. В своей школе княгиня и её сестра обучали девушек из состоятельных семей.
Среди учениц была богатая англичанка мисс Доротти Пэджет, которая неожиданно получила большое наследство и предложила княгине Мещерской купить ей в подарок дом где-нибудь в деревне, чтобы она и ее сестра жили вместе. Княгиня сказала, что все это хорошо, что она благодарна, но они с сестрой могут работать, а вот сколько русских стариков в Париже, которые совсем беспомощны, хорошо бы для них что-нибудь купить и их устроить. Англичанка загорелась этой мыслью и купила усадьбу в Сент-Женевьев де Буа – это полчаса езды от Парижа.
Когда у Дины Кировой был свой театр, то она с мужем приезжала читать стихи и пьесы для жителей русского старческого дома. Рядом с этим домом на местном кладбище, которое в России известно как «русское кладбище в Сент-Женевьев де Буа», и похоронена Дина Кирова. Правда, на табличке у её надгробия очень лаконичная и ничего не говорящая для непосвященных посетителей кладбища надпись – «Е.Тиран». Сверив все данные, я выяснила следующее: Евдокия Тиран, урожденная Кирова, дочь Никиты и Анны Кировых.
Родилась 31.07.1886 года в городе Осташкове Тверской губернии. Во Франции с 1923 года, русская беженка. В «Русском доме» поселилась – уже в качестве пансионерки – в 1946 году. Овдовев в 1940 году, вышла замуж за А.Тирана в 1963, умерла 8 июля 1982 года, похоронена в могиле князя Косаткина-Ростовского.
Со второй княгиней Мещерской – Антониной Львовной, которая была невесткой Веры Кирилловны, я познакомилась в первый же день моего появления в Русском доме. Эта удивительная женщина, француженка по происхождению, искренне преданная русской культуре, выйдя замуж за сына Веры Кирилловны, приняла православие и, общаясь с эмигрантами «первой волны», выучила русский язык. После смерти Веры Кирилловны она возглавила Ассоциацию русских беженцев при Русском доме в Сент-Женевьев де Буа, награждена орденом Почётного легиона.
- Каково на Ваш взгляд значение книги Дины Кировой для русского театра и для сегодняшней России?
- Трудно переоценить воспитательное значение этих воспоминаний. Читая их, понимаешь, что всё возвращается на круги своя. И сегодня то, о чём пишет Дина Кирова, остается актуальным: ее забота о чистоте русского языка, беспокойство о том, чтобы русские дети в Париже оставались русскими, знали родную литературу и не забывали родную речь. А как прекрасны и значительны её мысли о России, о любви к Родине – эти высказывания сегодня поистине бесценны. Обо всем этом она пишет очень трогательно.
Ведь она представительница эмиграции «первой волны», а их принципиальное отличие от остальных «волн» эмигрантов в том, что они уезжали с любовью к России, хранили эту любовь и передавали через поколения в своём творчестве – а это, конечно же, актуально и сегодня. Книга Дины Кировой – не только живой рассказ, но и диалог с потомками, пронесённый через несколько поколений.
- Спасибо Вам за интересный и подробный рассказ.
Записала Елена Еремеева
Авторка книги о Дине Кировой подробно информирует о значении театрального манифеста Кировой.
Вместе с мужем князем Фёдором Николаевичем Косаткиным-Ростовским, который был художественным руководителем театра, Кирова написала «Манифест», который печатался на каждой театральной программке.Все положения этого исторического документа до сих пор современны для театра в России. Первый пункт «Манифеста» гласит: не дать русской молодежи, разбросанной в эмиграции, забыть родной язык, литературу, русский быт, историю и лучшие стороны прошедшей (и уже им незнакомой) русской жизни, в лучших произведениях русских писателей. Второй: дать возможность взрослой части русской эмиграции вспомнить то же, и минутами, душой, уйти от чуждых условий жизни к воспоминаниям дорогого прошлого и величия России. Третий: дать возможность артистам, разбросанным по разным местам для заработка «хлеба насущного», получать духовную пищу, выступая на сцене и собираясь в хорошую русскую труппу. Четвёртый: выявить новые артистические и литературные силы. Пятый:дать возможность зрителю время от времени посмеяться здоровым смехом (для этого один раз в месяц ставятся комедии). И, наконец, последний пункт, шестой: дать дешёвый и серьёзный русский театр в Париже. Всё, что изложено в «Манифесте»,это очень характерно для эмиграции «первой волны». Ведь на самом деле, как эмигранты сами считали, они были не в изгнании, а в послании. Именно поэтому основным делом для них было спасти и сохранить, для того чтобы передать свой опыт и знания грядущему поколению, с надеждой, что это пригодится будущей возрождённой России.
Могу особо отметить, что книга отлично и высокохудожественно скомпонована. Об этом надо рассказать отдельно.
Листая её,обратил внимание на небольшую фотографию Д.Н.Кировой и генерала П.Н.Краснова в Париже 1932 года.Генерал в гражданской одежде, в костюме с галстуком и в шляпе. Фото заинтересовало меня.
Безусловно,учитывая известность и Интимного Театра, и Дины Кировой,она, учитывая широкий круг её знакомств, могла стать объектом вербовочной разработки ИНО ОГПУ. В её "Воспоминаниях" ничего нет об агентурных подходах к ней и попытках вербовки. Возможно,она просто не хотела писать об этом. А ведь с генералом Красновым они с мужем были знакомы очень хорошо,сотрудничали при постановки в Интимном Театре пьесы генерала "Смена". Прежде, чем рассказать о посвящённых "Смене" страницах книги, напомню о судьбе знаменитой певицы Плевицкой и её мужа Скоблина.
Они попали в поле зрения чекистов, которым было хорошо известно положение Скоблина в РОВС. Внешняя разведка Лубянки – Иностранный отдел ОГПУ – активно разрабатывала белогвардейскую эмиграцию, в том числе созданный в 1924 году Русский общевоинский союз. Он числился среди главных объектов проникновения ИНО, который имел в нём свою агентуру. Москва считала РОВС источником постоянной опасности, так как полученная информация свидетельствовала, что стратегической целью руководства союза является вооруженное выступление против советской власти. В Центре полагали, что в случае войны в Европе враги СССР неминуемо призовут под свои знамена и полки бывшей Добровольческой армии.По заданию Лубянки 2 сентября 1930 года для встречи со Скоблиным в Париж прибыл его однополчанин Петр Ковальский, воевавший вместе с генералом в Добровольческой армии, а теперь работавший на Иностранный отдел ОГПУ и имевший оперативный псевдоним «Сильвестров». Плевицкая и Скоблин были завербованы и дали письменное согласие работать на советскую внешнюю разведку. Их заявления были переправлены в Москву начальнику ИНО ОГПУ Артуру Артузову, который наложил на них следующую резолюцию: «Заведите на Скоблина агентурное личное и рабочее дело под псевдонимом «Фермер» и агентурным номером ЕЖ/13». Плевицкой был присвоен псевдоним «Фермерша».
О том, какое значение для советской разведки имел Николай Скоблин, свидетельствует содержание докладной записки, подготовленной в середине 1934 года куратором французского направления деятельности Сергеем Шпигельгласом на имя начальника Иностранного отдела ОГПУ Артузова:«Завербованные нами «Фермер» и его жена «Фермерша» стали основными источниками информации. Человек материально независимый, отошедший одно время от основного ядра РОВС, «Фермер», будучи завербован, занимает как командир одного из полков заметное положение среди генералитета и, пользуясь уважением и достаточным авторитетом, стал активно влиять как на общую политику РОВС, так и на проведение боевой работы.
Основные результаты работы «Фермера» сводятся к тому, что он:
во-первых, ликвидировал боевые дружины, создаваемые Шатиловым (генерал, бывший начальник штаба Русской армии, был вторым человеком в РОВС. – А.О.) и генералом Фоком (бывший инспектор артиллерии 1-го армейского корпуса врангелевцев, руководил террористической деятельностью РОВС, в частности, возглавлял школу по подготовке террористов. – А.О.) для заброски в СССР;
во-вторых, свел на нет зарождавшуюся у Туркула (генерал, бывший командир Дроздовской дивизии, один из руководителей РОВС. – А.О.) и Шатилова мысль об организации особого террористического ядра;
в-третьих, выяснил, кто из наших людей открыт французам, и разоблачил агента-провокатора, подсунутого нам французами, работавшими у нас 11 месяцев;
в-четвертых, донес о готовящемся Миллером, Драгомировым (генерал от инфантерии, один из руководящих деятелей РОВС. – А.О.), Харжевским (генерал, почетный командир Марковского полка. – А.О.) и Фоком убийстве Троцкого;
в-пятых, выдал организацию по подготовке убийства Литвинова (зам. наркома иностранных дел, приезжал в Руайян летом 1933 года. – А.О.);
в-шестых, разоблачил работу РОВС из Румынии против СССР.
Исключительная осведомленность агента помогла нам выяснить не только эти шесть дел, но и получить ответы на целый ряд других, более мелких, но имеющих серьезное оперативное значение вопросов, а также быть совершенно в курсе работы РОВС».
Только за первые четыре года сотрудничества с советской разведкой «Фермеров» на основании информации, полученной от них, чекисты арестовали 17 агентов, заброшенных РОВС в Советский Союз, и установили 11 явочных квартир в Москве, Ленинграде и Закавказье.
К 1937 году Миллер и другие руководители РОВС переориентировались в своей деятельности на нацистскую Германию, совместно с которой они рассчитывали вторгнуться на территорию СССР и возглавить оккупационный режим гитлеровцев.
Центр принял решение похитить Миллера для организации суда над ним в Москве. В случае исчезновения генерала, по мнению Центра, заменить его на посту руководителя РОВС реально мог только Скоблин, что позволило бы Лубянке полностью контролировать деятельность этой террористической белогвардейской организации. Однако в это время руководителем советской внешней разведки был уже Абрам Слуцкий, не обладавший богатым оперативным опытом Артузова и распорядившийся привлечь к похищению Миллера Скоблина, что в конечном итоге привело к его компрометации.
Операция завершилась, казалось бы, благополучно: Миллер был похищен 22 сентября 1937 года и затем доставлен в СССР. Однако перед тем как пойти на встречу, организованную Скоблиным, генерал оставил у себя на рабочем столе записку следующего содержания:«У меня сегодня в 12.30 свидание с ген. Скоблиным на углу ул. Жасмен и Раффе. Он должен отвезти меня на свидание с германским офицером, военным атташе в балканских странах Штроманом и с Вернером, чиновником здешнего германского посольства.Оба хорошо говорят по-русски. Свидание устраивается по инициативе Скоблина. Возможно, что это ловушка, а поэтому на всякий случай оставляю эту записку.
22 сентября 1937 года. Ген.-лейт. Миллер».
После исчезновения Миллера члены руководства РОВС адмирал Кедров и генерал Кусонский предъявили Скоблину эту записку и предложили проехать в полицейский участок. Скоблин понял, что всё рухнуло. Под благовидным предлогом он вышел из помещения РОВС и исчез. Некоторое время он скрывался на конспиративной квартире советской разведки в Париже, а затем на самолете был переправлен в Испанию.Что касается Надежды Плевицкой, то 24 сентября 1937 года она была арестована французской полицией. При ней нашли 7500 франков, 50 долларов и 50 фунтов стерлингов – большие деньги для артистки-эмигрантки, что явилось главным доказательством для обвинения ее в «соучастии в похищении генерала Миллера и насилии над ним», а также в шпионаже в пользу СССР. Все это певица отрицала.Следствие по делу Плевицкой продолжалось больше года. Судебный процесс над ней начался в конце ноября 1938-го. А 14 декабря старшина присяжных огласил вердикт: Надежда Плевицкая была признана виновной по всем пунктам обвинения...
В ту пору председатель РОВС Евгений Миллер сидел во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке в Москве. А мужа певицы Николая Скоблина уже не было в живых. В конце 1937 года он погиб в Барселоне во время бомбардировки города франкистской авиацией.Весной 1939 года Надежда Плевицкая была отправлена в тюрьму города Ренн. В конце июня 1940 года он был оккупирован германскими войсками. Гестапо захватило архивы тюрьмы и установило принадлежность Плевицкой к советской разведке. Вскоре она тяжело заболела (возможно, не без помощи германских спецслужб) и 5 октября 1940 года скончалась.
(Источник: Независимое военное обозрение, N от 2010-02-19).
Напомню, что предшественник Миллера в РОВС генерал Кутепов был похищен боевой нелегальной группой, получившей неофициальное название «группа Яши». Она предназначалась для глубокого внедрения на объекты военно-стратегического характера Америки, Европы и Азии на случай войны, для проведения диверсионно-террористических операций в тылу врага. Группа была независимым оперативным подразделением, подчинявшимся лично начальнику ОГПУ.
Создателем диверсионно-террористической группы "Яши" , которая занималась похищением людей в зарубежных странах, был Яков Исаакович Серебрянский (Бергман).Он родился в 1891 году в семье бедного минского еврея Ицки Бергмана. 16-летним учеником городского училища вступил в боевую группу еврейской самообороны и участвовал в ликвидации пяти черносотенцев, организовавших погром в Могилёве. Затем Яков становится членом партии эсеров, боевиком одного из отрядов ее наиболее радикального крыла – максималистов. Он участвовал во многих террористических атаках, которые они вели против царской администрации и членов реакционных группировок.
В декабре 1923 года известный террорист, который был внедрён даже в гималайскую экспедицию Рериха и его жены, сотрудник ВЧК и участник убийства Сергея Есенина Яков Блюмкин завербовал Серебрянского в свою группу, направлявшуюся для нелегальной работы в Палестину. С этого момента и становится Яков Серебрянский разведчиком – его зачислили в Иностранный отдел ОГПУ, занимавшийся шпионажем. В декабре 1923 года он приехал в Яффо. Вскоре Блюмкина отозвали в Москву и резидентом назначили Серебрянского. Он создает в Палестине глубоко законспирированную сеть из 30 нелегалов, в числе которых было немало членов боевой еврейской организации «Хаганы». Именно среди них он подобрал несколько человек, ставших его надежными помощниками в последующей диверсионной деятельности: И. Кауфмана, А. Турыжникова, Р. Рачковского и др.
В декабре 1925 года его перебросили в Бельгию, затем – в Париж, где он стал резидентом разведки и действовал до апреля 1929 года. По возвращении в Москву Серебрянского назначают начальником отделения ИНО ОГПУ, в состав которого вошла созданная им же боевая нелегальная группа, получившая неофициальное название «группа Яши». Созданная Серебрянским агентурная сеть охватывала США, Скандинавию, Прибалтику, Балканы, Францию, Германию, Китай, Японию, Палестину и др. страны. Яков лично завербовал в ее члены около 200 человек. И это были не только коммунисты, но и просоветски настроенные русские эмигранты. Впрочем, для вербовки он использовал не только идеологический фактор, но и материальный, а иногда – откровенный шантаж.
Когда читал книгу, рассматривал фотографии Дины Кировой, то у меня сформировалось представление об этой чрезвычайно живой, улыбчивой и красивой женщине, которая не способна была каким-либо образом увлечь в капкан генерала Кутепова. Что говорит об её практическом уме. Кстати, возможно она и не разделяла вполне политических взглядов Краснова.
В "Воспоминаниях" практически нет политических высказываний Дины Кировой. Театр был для неё всем,заслонял все прочие реалии.
И значительным достижением Интимного Театра Дины Кировой была постановка пьесы Краснова "Смена".
Необходимо подробнее рассказать о личности и творческой деятельности генерала.
Почти на протяжении трёх веков донские казаки Красновы сражались в войнах Российской империи, пятеро стали генерал-лейтенантами.
Отец Петра Николаевича – военный писатель, один из основоположников военной статистики, генерал-лейтенант Генерального штаба, участник обороны Севастополя и освобождения Болгарии. Петр появился на свет 10 сентября 1869 года в Санкт-Петербурге. Семья была большая – еще четыре брата и сестра. Вопреки обычаям, в генеральской семье Красновых царила «педагогическая демократия» – отец не настаивал на непременно военной карьере своих сыновей. Именно поэтому только один Петр, проучившись, пять лет в классической гимназии, решил сменить ранец гимназиста на мундир кадета.
Успешно окончив в 1887 году Александровский кадетский корпус, Пётр становится юнкером Павловского военного училища, которое, также, располагалось в столице. Этот факт биографии весьма интересен. Обычно казаки, тем более сыновья генералов, шли в столичное Николаевское кавалерийское училище или в Новочеркасское. Но из «павлонов» легче было получить вакансию именно в гвардейские части. Учеба проходит блестяще, что дает фельдфебелю выпускного курса Краснову возможность первому выбрать вакансию в полк. В 1889 году хорунжий Пётр Краснов становится офицером элитарного полка Всевеликого Войска Донского – лейб-гвардии Атаманского.
Служба увлекает молодого офицера – он частый победитель в различных конных состязаниях и завсегдатай Михайловского манежа. Одновременно с этим и первая проба пера. 17 января 1891 года в центральном печатном органе Военного ведомства Русской Армии газете «Русский инвалид» выходит первая статья Краснова за подписью «Н.Краснов».
В 1896 году в Санкт-Петербурге вышел в свет первый исторический труд Краснова «Атаман Платов», в том же году: «Донцы. Рассказы из казачьей жизни».
Супругой Петра Николаевича становится немка, камерная певица Лидия Фёдоровна. Это был её второй брак. Трудно сказать по каким причинам гвардейского офицера женившегося на актрисе оставили в полку. Во всяком случае, Пётр Николаевич рисковал всей своей военной карьерой и в первую очередь – Гвардией. Семейный союз оказался счастливым до конца их дней, кроме одного обстоятельства – отсутствия детей.
Ярчайшим в военной и литературной биографии Краснова стал японский период.
В феврале 1904 года Краснов отправляется на русско-японскую войну в качестве собственного корреспондента «Русского инвалида». Началась полная опасностей жизнь военного журналиста. На дальневосточном фронте Краснов встречается с классиком батальной живописи Верещагиным, художниками Мазуровским и Самокишем. Еще по пути на фронт судьба сводит Петра Николаевича с адмиралом Макаровым, который приглашает его на свой флагманский броненосец «Петропавловск». Только случай спасает казачьего писателя от почти неминуемой смерти, – накануне он узнает, что на следующий день на станцию должны прибыть купленные им лошади. Петр Николаевич не мог не встретить их, будучи конником душой. Макаров и Верещагин жмут ему руку и договариваются встретиться в Порт-Артуре. Встреча не состоялась, – подорвавшись на мине «Петропавловск» унес адмирала и художника в морскую пучину…На этом встречи не окончились. Краснов знакомится с будущими генералами и соратниками по Белой борьбе - командиром стрелкового полка полковником Юденичем и лихим командиром конных разведчиков бароном Маннергеймом. Описывая фронтовые события, Краснов признает общие и личные ошибки в оценке японской армии. Общий итог всей русско-японской войне Краснов подводит в своем двухтомном труде «Год войны». Награды не обошли и военного журналиста – Св.Анны 4-й степени, Св.Владимира 4-й степени с мечами и бантом и мечи к уже имеющемуся ордену Св.Станислава.
За оставшееся до Великой войны(Первой мировой)время Краснов успевает издать биографию Суворова, учебное пособие по истории «Картины былого Тихого Дона», романы «В житейском море», «Погром», «Потерянные», две большие повести – «Фарфоровый кролик» и «Волшебная песня», ряд рассказов. В сочетании с исполнением обязанностей командира полка это была удивительная работоспособность.
После отречения от престола Николая II Краснов писал: «Мы верили, что Временное правительство идёт быстрыми шагами к Учредительному Собранию, а Учредительное Собрание – к конституционной монархии с Великим Князем Михаилом Александровичем». Но события складывались драматически. Временное правительство разлагало армию и флот и уверенно вело Россию к…гибели. В августе 1917 года генерал-майор Краснов командовал 1-й Кубанской дивизией. Войска уже отказывались идти в бой, митинговали и братались с противником. Петр Николаевич вспоминал о тех днях: «Смерть казалась желанной. Ведь рухнуло все, чему я молился, во что верил, что любил в течение 50 лет, - погибла армия!».30 августа 1917 года новый Верховный Главнокомандующий генерал Корнилов приказал Краснову принять 3-й конный корпус готовиться для похода на Петроград.Как известно, мятеж патриотически-настроенного генерала Корнилова не удался и Краснов оказывается в тюремной камере. Однако это был не конец. Более того, обстоятельства сложились так, что не кто иной, как Краснов способствовал побегу Керенского, правда, со следующими словами напутствия: «Как ни велика Ваша вина перед Россией, я не считаю себя вправе судить Вас. За полчаса времени я ручаюсь».Арестованный уже большевиками, Краснов бежит из-под домашнего ареста, избежав расправы матросов. 7 ноября 1917 года Петр Николаевич навсегда покинул родной Санкт-Петербург. Путь один – на Дон! По дороге ему пришлось вынести неожиданное и тяжелейшее оскорбление, – казаки одного из донских полков отказались взять чету Красновых в свой эшелон. Краснов приказывает сопровождавшим его офицерам переодеться в штатское. Конспиративные квартиры, фальшивые паспорта и вот 30 января 1917 года Петр Николаевич въехал в Новочеркасск.
Круг Спасения Дона 4 мая 1918 года избрал генерала Краснова Донским Атаманом. Краснов, будучи прогерманской ориентации, выступил против единого фронта под командованием генерала Деникина. Более того, Краснов выступал за создание на территории Войска Донского независимого от Москвы и идей Добровольческой Армии Донского государства под прямым и единоличным атаманским правлением. На Кругу Спасения Дона Петр Николаевич сказал свою знаменитую фразу: «Творчество никогда ещё не было уделом коллектива! Мадонну Рафаэля создал Рафаэль, а не комитет художников».
Генерал Краснов проводит мобилизацию, восстанавливает Донскую армию, создаёт новую «Молодую армию» из казаков, которые по возрасту ещё не участвовали в прошедшей войне. Дальнейшим шагом было установление дипломатических отношений с ведущими государствами Европы и, прежде всего с Германией, с которой он желал заключить военно-политический и экономический союз. То есть – с главным врагом России… Краснов активно помогает и Добровольческой Армии оружием, деньгами, обслуживанием раненых, дает согласие на открытие вербовочных бюро. Идет речь и о совместных операциях, но – в сторону Царицына. Почему? Разгадка проста. Краснову хотелось перенести центр разгоравшейся Гражданской войны подальше от территории Войска Донского и, даже в случае взятия добровольческим движением верха над Троцким,Краснов рассчитывал на сохранение Доном независимого статуса.
5 июня 1918 года Всевеликое Войско Донское получило официальное признание от МИДа Германии. Также, прибыл официальный и полномочный представитель германского императора – первый и последний из всей Европы. 5 июля 1918 года Краснов отправляет германскому императору письмо, которое станет его крупнейшей политической ошибкой. В частности, он просил Вильгельма II оказать давление на советские власти Москвы и заставить их очистить пределы Войска Донского и дать возможность восстановить «…нормальные, мирные отношения между Москвой и войском Донским…». Краснов практически призывал недавнего врага России к расчленению территории бывшей Российской Империи, выражал готовность заключить мир с Советской Россией и изменить договору с командованием Добровольческой Армии.18 августа 1918 года Большой Войсковой Круг после смотра «Молодой армии» производит Краснова в генералы от кавалерии. Однако текст письма просочился в печать и был большой скандал, хотя Краснову удалось остаться на атаманском посту.
А тем временем Донская армия начинала разлагаться и в ряде случаев вступать в соглашение с советскими частями и переходить на их сторону. 26 декабря 1918 года Краснов признает генерала Деникина командующим Вооружёнными Силами Юга России с подчинением ему Донской Армии. Не согласившись с отставкой генерала Денисова – непосредственного командующего Донской армией, Пётр Николаевич уходит в отставку с поста атамана Войска Донского и, 7 января 1919 года уезжает в Батум. Здесь, тяжело переболев оспой, Краснов делает попытку стать в строй Добровольческой Армии в любой должности. Ответ предписывал ему прибыть в Ревель в распоряжение командующего Северо-западной армией генерала Юденича. Северо-западная армия, которая готовилась к наступлению на Петроград, едва насчитывала тысячу сабель и командовать Краснову было просто нечем. Однако в нём сразу заговорил писатель.Краснов издает газету «Приневский край», которая смогла заполнить тот идеологический вакуум, который образовался в армии Юденича. Через несколько дней после выхода первого номера газеты наступление на Петроград выдохлось…20 марта 1920 года чета Красновых покидает Эстонию на экспрессе «Ревель-Берлин», имея германскую визу. Остановившись в замке герцога Лейхтенбергского, Краснов с головой окунается в литературную деятельность. Надо сказать, что в Берлине с 1918 по 1928 год работали 188 русских книжных издательств.
Помимо многих газетных и журнальных статей, из-под пера Краснова в 1921 году выходит знаменитый двухтомный роман «От двуглавого орла к красному знамени». В период с 1921 по 1939 годы роман был переведён на 15 языков мира, и его общий тираж, распространённый в странах Европы, Америки и Азии, составил более двух миллионов экземпляров! Именно этот роман принес Краснову всемирную славу, а также материальную стабильность и независимость, что было так важно в условиях эмиграции. Всего же до 1944 года вышло более 30 его романов и повестей! Нельзя не упомянуть: «За чертополохом», «Белая Свитка», «Все проходит», «Понять – простить», «Ненависть».
С 1922 года Пётр Николаевич ведёт серьёзную пропаганду со страниц журнала «Русская правда», который печатался на тонкой папиросной бумаге и переправлялся в РСФСР. 11 ноября 1923 года Красновы покидают замок герцога Лейхтенбергского и приезжают во Францию к Великому Князю Николаю Николаевичу.
Участие Краснова на стороне Германии во Второй мировой войне с СССР и формирование им казачьих частей известно. Стоит отметить, что Краснов имел встречу с генералом Власовым, но усомнился в его искренности и от дальнейшего сотрудничества отказался.
Писательский талант Краснова немцы используют в антисоветской пропаганде широко. В Берлине выходят новые казачьи газеты, с чьих полос не сходят публикации за подписью «Донской атаман, генерал от кавалерии П.Краснов». В этот же период Краснов печатает исторический очерк «История Войска Донского», выступает перед советскими пленными в лагерях,составляет «Декларацию Казачьего Правительства».
По условиям Ялтинской конференции генерал Краснов подлежал выдаче в СССР как помощник нацистской Германии.
16 января 1947 года Пётр Николаевич Краснов, а вместе с ним генералы Шкуро, Султан-Гирей Клыч,Краснов С.Н., Доманов, фон Паннвиц были приговорены к смертной казни через повешение. Из зала суда их сразу повели на эшафот.
Пьеса Краснова "Смена" посвящена жизни русских эмигрантов.
Мне представляется, что "Манифест Дины Кировой", материалы о ней из архива Ренэ Герра в современный момент поисков возможностей общенационального примирения могут играть свою особую роль.
ПОЛЕМИКА
День второй Книжного Салона 27 мая также оказался насыщенным разнообразными встречами. С интересом выслушал исторический доклад Сергея Веревкина, в ходе которого мне представились "17 мгновений весны2", новые грани противостояния главы Абвера адмирала Канариса партийным бонзам (Канарис,как известно,участвовал в заговоре 1944 года Клауса Штауффенберга) и пропагандистскому власовскому проекту Вермахта, познакомился с автором детективов Юханом Теориным на стенде Генконсульства Швеции, участвовал в творческом вечере Алексея Лушникова. А днём выслушал сообщения Александра Казинцева и Сергея Куняева, познакомился с новым автором "Нашего современника" Еленой. Познакомился с известным французским исследователем Рене Герра.
Вечером автор этих строк вместе с "Поющим ядром" в "Книжных аллеях" спел все главные хиты зенитовских болельщиков.
Когда мы вместе,когда мы поём,то мы никогда не умрём!
В ответ на посланный мной Валентине Кошкарян по электронной почте отклик на её книгу о Дине Кировой, она сообщила о своей интересной полемике с Литавриной М.Г.
А был ли русский театр в Париже?
После октябрьского переворота 1917 года около двух миллионов российских беженцев оказались за пределами родины. Этот «великий исход» породил беспрецедентный исторический феномен, который принято называть эмиграцией «первой волны». За «первой» последовали и другие «волны», но именно «первые» уехали с любовью к родине и были носителями той русской культуры, которая уничтожалась в России. Эти беженцы не желали ассимилироваться в приютивших их странах, так как считали себя не изгнанниками, а посланниками, миссионерами, хранителями русской культуры, прежде всего, православия и вековых национальных традиций. Представители старшего поколения эмигрантов в первые годы «жили на чемоданах», верили в скорое падение «бесовской власти», упорно и терпеливо ждали возвращения домой. Когда же ожидание затянулось на долгие десятилетия, не теряя надежды на возвращение, продолжали творить для будущих поколений.
Три четверти века развивались параллельно два русских мира, две культуры: эмигрантская и советская. И вот уже почти два десятилетия мы являемся свидетелями того, как идёт процесс возврата на родину бесценного культурного наследия, которое нам оставили эмигранты «первой волны», пытаемся понять и принять это послание из прошлого. Готовы ли мы осмыслить ранее неизвестную и недоступную нам культуру? Как протекает этот – увы, теперь уже заочный, – диалог? Всегда ли оправдан и беспристрастен выбор нашей позиции? Имеем ли мы право не считаться с идеологией, когда говорим об эмигрантской культуре? Предлагаю сделать выводы на отдельно взятом примере – поговорим о русском театре в Париже.
В девятом номере журнала «Берега» (издается в Санкт-Петербурге — ред.) была опубликована рецензия на две книги – воспоминания актрис Серебряного века Варвары Костровой (Кострова В. Лица сквозь годы: события, встречи, думы // СПб.: "Росток", 2006.) и Дины Кировой (Кирова Д. Мой путь служения Театру. – Нижний Новгород: «Дятловы Горы», 2006.). Выбор вполне понятный: эмигрантский театр в Париже – тема, до сих пор не исследованная, представляет интерес как для историков театра, так и для широкого круга читателей.
Жизненные пути русских актрис пересеклись на короткое время во французской столице в 1930 году. И вот, спустя три четверти века, изданы их воспоминания. Как справедливо предполагает рецензент, «первые читатели не пожалели, что открыли эти недавно выпущенные книги (Литаврина М.Г. Мемуары актрис: Театр памяти или «Памяти театра»? // Берега. - N°9. – Санкт-Петербург: 2008).
Сосредоточив свое внимание на «жанре мемуаров и проблеме их издания», автор рецензии указывает на некоторые «неясности и недоработки», обнаруженные в мемуарах Дины Кировой. Как публикатор этой книги я посчитала своим долгом ответить на критическую статью.
Вполне справедливы рассуждения в начале рецензии о том, что воспоминания являются ненадежным источником информации («... упаси боже верить мемуарам актрис!»). Однако, труднее согласиться с тем, что нельзя доверять откликам на спектакли и критическим статьям в парижской прессе. Ведь «газетная критика не всегда объективна», – пишет рецензент, –вспомним, как печать «уничтожала первые постановки пьес Набокова». И делается вывод, что и хроники, составленные по публикациям тех времен, нельзя считать надежным источником информации.
Автор спрашивает: «Где же взять сегодня, например, свидетелей создания и деятельности <…> «Интимного театра» Дины Кировой, полноценно существовавшего в Париже почти четыре сезона, вплоть до 1933 года?». И находит... – Варвару Кострову! Оказывается – «невероятное совпадение! – Кострова была некоторое время актрисой театра Кировой». Вот свидетель, которому нужно верить(!) Тем более, что Кострову «вряд ли можно считать обиженной и злопамятной», ведь «она сыграла в Театре Кировой главные роли, <…> и выезжала с Кировой на гастроли в другую страну, <…> что по эмигрантским меркам редкая удача, грех жаловаться!».
Досадно только рецензенту, что Кирова в своих воспоминаниях забыла об «интересной артистке Костровой, а публикатор (это упрек в мой адрес – В.К.) не поместил ее фото в портретной галерее артистов «Интимного Театра»! Здесь требуется уточнить, что фотографии, которые я поместила в «портретную галерею» Интимного Театра, взяты из двух программок. Дина Кирова приложила их к своим воспоминаниям и собиралась опубликовать. Среди артистов, входивших в основной состав труппы, портрета Костровой нет. Но ей «повезло» больше, чем другим артистам, игравшим у Кировой. Автор рецензии не замечает, что Кострову можно видеть в книге Кировой на трех групповых снимках. Правда, фамилии артистов подписаны лишь под одной фотографией, сделанной после спектакля «В горах Кавказа» (см. фото).
Что ж, давайте подумаем, что могла бы нам рассказать о Варваре Костровой и о чем молчит на страницах своих воспоминаний Дина Кирова. Но сначала коротко представим читателю этих уже забытых и вдруг вернувшихся к нам из прошлого служительниц Мельпомены.
Дина Кирова, актриса Суворинского Малого театра в Петербурге, «вкусила горький хлеб изгнания», эмигрировав в 1920 году вместе со своим мужем, «белым» офицером, князем Ф.Н.Косаткиным-Ростовским. Прожив три года в Сербии, они перебрались во Францию и в конце 1920-х основали в Париже русский театр. Здесь необходимо обратить внимание читателя на такой уже бесспорный факт: с Интимного Театра Кировой берет начало история постоянного русского театра в Париже. Разумеется, и до Кировой предпринимались попытки создать эмигрантский театр в столице Франции. Брались за это люди талантливые, опытные и даже знаменитые (назовем лишь Ф.Ф.Комиссаржевского и Е.Н.Рощину-Инсарову). Но, поставив несколько спектаклей, вынуждены были свернуть дело. Получилось, как в известной сказке – «дед бил – не разбил, баба била – не разбила, мышка бежала ... ». С той лишь разницей, что бывшая инженю Суворинского театра Дина Кирова – «мышка» – добивается успеха, благодаря не только своему таланту, но и самоотверженному труду. Читатель воспоминаний понимает, что ее «путь служения Театру» – это «крестный путь».
Именно Кирова и князь Косаткин-Ростовский, осмыслив ситуацию, в которой оказался русский театр в изгнании, сформулировали идейную программу эмигрантского театра. Их творческий манифест – «Цели и задачи» Интимного Театра – был опубликован в интервью к открытию второго театрального сезона в журнале «Театр и жизнь», затем регулярно печатался в программах. В дальнейшем, как писал современник Кировой Н.Янчевский, «эти благородные цели и задачи служили всем русским театрам за рубежом путеводной звездой».
После первых же спектаклей Интимный Театр стал ведущим эмигрантским театром. Несколько лет – сначала в Медоне, потом в Париже (1927 – 1933 гг.) – Кирова ставила Островского, пьесы, которые были популярны в России на рубеже веков и, что очень важно, новые, написанные драматургами в эмиграции. В центре квартала Монпарнас, на «артистической» улице Кампань Премьер, регулярно собиралась верная театру публика – лишенные родины русские изгнанники приходили сюда «помечтать о России». До конца жизни Кирова прожила в эмиграции. Воспоминания написала, когда жила в старческом доме в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, в конце сороковых –ей тогда было около шестидесяти.
Варвара Кострова эмигранткой не была – ездила в Европу и жила там как советская подданная... Она сыграла в театре Кировой несколько ролей, чтобы быть точнее – четыре. Напомним, в Интимном Театре русские парижане посмотрели около 140 спектаклей. Кострова, «сохранившая до старости свой советский патриотизм, – как отмечает М.Эдельштейн, – прожила во Франции до 1951 года и была выслана как советская гражданка». Воспоминания написала незадолго до смерти, когда ей было уже под девяносто – «с расчетом на публикацию в Советском Союзе... Стопроцентно женскими, стопроцентно советскими, не вполне достоверными в деталях, во многих отношениях поверхностными, да и просто не очень умными» считает Эдельштейн воспоминания Костровой.
На этот факт биографии Костровой рецензент не обращает внимания. Остаётся «незамеченным» и предупреждение публикатора, автора послесловия к книге Костровой А.Николюкина, что «воспоминания писались для публикации в советской подцензурной печати», и это «отразилось на характеристике Белого движения и русской эмиграции».
Наконец, не настораживает автора рецензии и информация, которую приводит Н.Евреинов в книге «Памятник мимолетному». Несмотря на то, что книга этого современника Кировой, известного театрального деятеля и драматурга была издана очень маленьким тиражом и сейчас является библиографической редкостью, М.Литавриной она хорошо знакома – этим источником она широко пользуется в своей книге «Русский театральный Париж».
На первых же страницах «Памятника» Евреинов называет «изменниками эмиграции» актёра Н.В.Петрункина и ... Варвару Кострову, – «устроительницу многих спектаклей за границей и даже возглавлявшую одно время артистическое объединение в Париже. <…> Эта красавица, – пишет Евреинов, – как известно, стяжала себе славу, показываясь в «Леде» (пьесе А.Каменского) совершенно обнажённой и прославляя с подмостков чары женской красоты, которой она бесспорно обладала. Так как она была подругой жизни Анатолия Каменского и находилась под нездоровым влиянием этого советского осведомителя, Кострова к концу Второй Мировой распустилась таким махровым цветом пропаганды, что французским властям пришлось выслать эту «нежелательную» особу из Франции».
Со слов французского слависта профессора Ренэ Герра добавим, что высланных в 1951 году советских граждан сопровождал конвой до границ c советской оккупационной зоной в Германии, а по прибытии в Союз они не имели права селиться в столицах. Из воспоминаний же Костровой узнаем, что она после высылки из Франции жила в Москве, да и до этого часто ездила в Европу из Москвы (как она пишет: «Исполняла свой долг, подчиняясь пожеланиям Особого Комитета, <...> безропотно уезжала на гастроли в различных странах».
Как заметил один русский классик: «Когда нам скажут, что хотим, куда как верится охотно!». К Костровой у критика претензий нет. Положившись на её беспристрастность, поверив на слово и забыв о своем призыве не доверять «памяти актрис» – в таком заведомо неверном документе, как мемуары! – рецензент цитирует отрывок из книги В.Костровой, для того чтобы с её слов ... читатель составил свое мнение об Интимном Театре Кировой. Придётся и нам не полениться и напомнить строки из воспоминаний Костровой, столь понравившиеся автору критической статьи. Комментарий приведём ниже:
«Кирова со слезами на глазах просила меня согласиться играть в Интимном театре, описывала бедственное свое и артистов положение (1). <...> Для первого моего выступления поставили старинную пьесу Сумбатова «Старые годы» (2). Почти трагическая роль Клавдии увлекла меня, но партнеры разочаровали. Они не хотели репетировать, ссорились между собой; чувствовалось, что их профессиональность сменилась дилетантством. На одном из спектаклей бывший премьер провинциальных театров актер Сафонов, вероятно, разозлившись на полученные мною хвалебные рецензии, нарочно закинул кинжал (3); я не растерялась, схватила с пола несуществующий кинжал и закололась. Публика ничего не заметила. Вслед за этим спектаклем я сыграла Екатерину Ивановну в пьесе Андреева, «Мечту любви» Косоротова под режиссурой и с участием знаменитого в прошлом Николая Римского (4). Безусловно талантливо, с большим подъемом играл этот актер, но яд эмиграции убивал его, он стал алкоголиком, пил в антрактах и в конце спектакля окончательно пьянел. Вслед за этим спектаклем была поставлена пьеса писателя Урванцова «Вера Мирцева». <...> Замечательный актер Художественного театра Н.Асланов в роли Побяржена (5) был жалок и жуток. <...> С этими пьесами Интимный театр поехал на гастроли в Брюссель. Я получила некоторое удовлетворение и очень и очень хорошие отзывы (6), но поняла, что ничего нового и замечательного из этого театра не получится и отказалась в нем участвовать. Вскоре Интимный театр закрылся» (7).
А теперь посмотрим, на что следовало бы обратить внимание, читая этот отрывок из воспоминаний В.Костровой:
(1) К моменту появления Костровой Интимный Театр уже был создан и успешно функционировал второй театральный сезон, имел свою постоянную публику, съездил на гастроли в Бельгию и отпраздновал пятидесятый спектакль. К юбилею на афишах и программах театра появились фотографии артистов, входивших в основной состав труппы. В развернутом интервью на страницах журнала «Театр и жизнь» Кирова и Косаткин-Ростовский уже обнародовали свое творческое кредо – «цели и задачи» театра, а спектакли каждую неделю комментировались в печати.
(2) Все верно, Кострова дебютировала в Интимном Театре в пьесе «В старые годы», но автор ее не князь А.И.Сумбатов – известный драматург, которого часто ставили в начале прошлого века в России, – а И.В.Шпажинский. Не удивительно, что Костровой, писавшей свои воспоминания в преклонном возрасте, изменяет память. Несмотря на то, что М.Литаврина имела возможность все проверить по материалам, опубликованным в приложении к воспоминаниям Кировой, ошибка Костровой остается незамеченной. Она решила, к тому же, уточнить фамилию автора пьесы: «Итак, Кострова согласилась играть в Интимном театре, взяла предложенную роль – сначала в пьесе Сумбатова-Южина...»
(3) Поставил эту пьесу в Интимном Театре К.В.Сафонов и сам играл в ней одну из главных ролей (Рахманова). С большой натяжкой, но предположим, что режиссер решил испортить впечатление от спектакля. Поищем в таком случае упомянутые Костровой «хвалебные рецензии» и отзывы на спектакли, которые могли «разозлить» Сафонова:
«Д.Н.Кирова поставила «Старые годы» Шпажинского. <...> Между тем, силы в труппе Кировой накапливаются. Следует снова отметить Т.А.Оксинскую в эпизодической роли горничной девки Акульки. Впервые в театре Кировой выступала Кострова – артистка красивая и эффектная, веселившая глаз своей походкой и сарафаном. Она сделала все, чтобы наполнить содержанием свою, в сущности, лишенную содержания роль. Радостно наблюдать, как русская публика интересуется своим театром, с какой признательностью принимает все, что ей дает театр, как доброжелательно ценит, прощая невольные, часто неизбежные, недочеты. Залы на Кампань Премьер уже не хватает. Мы убеждены, что, как только Д.Н.Кирова получит в свое распоряжение мало-мальски приличное театральное помещение, – она развернет дело в объеме, соответствующем запросам нашей парижской колонии и отнюдь не идущей на убыль, а все растущей потребности её в русском театре». (Ч. Театр Кировой. «В старые годы» Шпажинского // Возрождение. – Париж: 02.02.1930).
На следующий спектакль с участием Костровой приведём отрывки из двух критических статей, появившиеся в один день в парижских русских газетах «Возрождение» и «Последние Новости»:
«Поставленная 2 марта в Интимном Театре «Ревность» Арцыбашева разучена и сыграна очень старательно... В смысле сценической обработки это один из удачных спектаклей театра Д.Н.Кировой. В.А.Кострова (Елена), Н.М.Ермак (Клавдия) и госпожа Петрова (Соня) дали интересные силуэты трех отличных друг от друга женщин – все три артистки вдумались в роли. То же самое можно сказать и про К.В.Сафонова, Г.С.Панютина, К.П.Карташева, С.П.Кононенко, Н.В.Петрункина, Б.Н.Шупинского и В.М.Дружинина. Пьеса была отрежиссирована умело, поставлена тщательно в пределах, возможных при «сукнах» ... » (Н.Ч-в В Интимном Театре. «Ревность» Арцыбашева // Возрождение. – Париж: 05.03.1930).
«Удачный спектакль. И обязан театр этим, главным образом, г. Сафонову, с большим подъемом, горячо и искренно сыгравшему роль мужа. Искренность, – какое магическое это, – что бы ни говорили, - слово в смысле театральных впечатлений. Никакое мастерство не в состоянии так взволновать зрителя, как искренняя передача артистом, самого взволнованного переживаниями своего героя. «Pour ;mouvoir il faut ;tre ;mu… » («Чтобы волновать, нужно самому быть взволнованным ...» –В.К.) И главный недостаток госпожи Костровой был именно в отсутствии в ее исполнении искренности, в том, что она не чувствовала свою героиню. Беспрестанное кокетство Елены, ее кошачьи заигрывания с поклонниками, – в самой натуре этой женщины и не должны производить впечатления нарочитости. Привлекательная внешность артистки делала правдоподобным производимое ею впечатление, и если бы госпожа Кострова-артистка сумела сделать правдоподобным и поведение Елены, роковым образом приводящее ее мужа и ее самое к катастрофе, – образ Елены получил бы надлежащее освещение. Ценное приобретение для труппы – госпожа Ермак – артистка с прекрасной дикцией и интересной внешностью, очень понравившаяся в роли Блонды. Г.г. Тушинский, Панютин, Дружинин и Карташев много содействовали успеху спектакля». (К.П. «Ревность» в Интимном Театре // Последние Новости. – Париж: 05.03.1930).
(4) Обратим внимание, что вторым спектаклем с участием Костровой шла «Ревность» Арцыбашева. Но ни «Екатерину Ивановну» Андреева, ни «Мечту любви» Косоротова в театре Кировой не ставили. Следовательно, эти строки из воспоминаний Костровой к Интимному Театру никакого отношения не имеют. Более того, ни Римский, ни Асланов в это время у Кировой не играли, а в следующей пьесе – «Вере Мирцевой» – роль Побяржина исполнял другой артист. А вот и отрывок из критической статьи на этот спектакль, главную женскую роль в котором мечтали сыграть, по словам Костровой, все видные артистки – ее современницы:
« ... Со второго акта появились новые персонажи, исполнение выпрямилось и получило стройный характер среднего, но приличного ансамбля, которым отличаются спектакли этого театра. На первом плане была госпожа Кирова, в сочном комедийном тоне игравшая Юленьку и лишний раз доказавшая разносторонность своего дарования. Приятное впечатление простотой и естественностью исполнения производили и все другие – г.г. Дружинин (Мирцев), Панютин (Старобельский), Богословский (Петя). Даже г. Ален-Добровольский, давший такую неудачную фигуру в 1-м акте, стал играть в духе – довольно таки надуманного – замысла автора. Но приятнее всего поразила нас г-жа Кострова. Столь беспомощная в 1-м действии, не находившая никакой опоры в своем не менее беспомощном партнере (какое отсутствие внутренней правды в сцене их любовной встречи!), – она со второго акта овладела ролью и дала образ, полный душевной красоты. Хотелось бы более тонких психологических деталей, большей нервной напряженности и взвинченности в 3-м действии, но, при отсутствии уверенности в себе, благоразумнее было, пожалуй, здесь не доиграть, чем переиграть. И надо признать, что роль Веры Мирцевой – лучшая из сыгранных у нас г-жой Костровой ролей, заставляющая уже с интересом ждать дальнейших ее выступлений». (см.: К.П. Русский Интимный Театр. «Вера Мирцева» // Последние Новости. – Париж: 08.04.1930).
Итак, у Костровой-артистки критики отмечают «привлекательную внешность» и ... отсутствие в ее игре «внутренней правды». Недостает «тонких психологических деталей» и «уверенности в себе», качеств, которые заставили бы зрителя поверить ее героине – заметим, что ни Кирову, ни Сафонова в этом никто никогда не упрекал. Не в наших принципах строить догадки, иначе закономерен был бы вопрос: не послужило ли это причиной «ухода» Костровой из театра Кировой? «В дальнейшем» Кострова сыграла ещё в одной пьесе и исчезла с афиш Интимного Театра.
(5)Как видим, очень и очень хорошими для Костровой, как, впрочем, и для Интимного Театра, эти рецензии можно назвать с натяжкой.
(6) после ухода Костровой театр не закрылся. В это время остро ощущался репертуарный кризис. Проблема общая – новых пьес драматурги-эмигранты ещё не написали – не было русских театров, которые бы их поставили. Поэтому на первых порах выручал Островский и старый русский репертуар – пьесы, популярные в России на рубеже веков. Но вскоре в Интимном Театре состоялись премьеры новых пьес на эмигрантскую тематику, написанных специально для Кировой: «Игра» И.Д.Сургучева, «Пестрая семья», «Чертова карусель», «Брак по расчету» А.М.Ренникова, «Чудо святого Юлиана» А.В.Амфитеатрова, «Смена» генерала П.Н.Краснова. Авторы присутствовали на репетициях (кроме Амфитеатрова, который жил в Италии), во время спектаклей восторженная публика вызывала их на сцену после каждого действия.
Как пишет сама Кирова, в её театре играли артисты, «съехавшиеся в Париж со всей матушки-России». Многие из них участвовали лишь в нескольких спектаклях, либо были гастролерами – о них, как и о Костровой, Дина Кирова в своих мемуарах не упоминает. Да и вообще, об Интимном Театре она приводит очень мало сведений, вспомнив лишь о нескольких постановках и верных театру артистах, входивших в основной состав труппы. Вот почему в качестве предисловия к ее воспоминаниям необходима была развернутая вступительная статья, в которой восстанавливалась бы история театра. Дополнив мемуары Кировой материалами, найденными в библиотеках и архивах Парижа, Нью-Йорка, Праги, Москвы, Санкт-Петербурга и собрав критические отзывы об Интимном Театре, я надеялась восстановить, насколько это возможно, архив Кировой – тот ящик с альбомами, рецензиями, афишами и программами, который она потеряла в 1940 году. Одновременно накапливался материал о Е.Н.Рощиной-Инсаровой, Михаиле Чехове, И.Д.Сургучеве, А.М.Ренникове ... Парижский период творчества каждого из них – это предмет отдельного разговора, поэтому в книге Кировой я не даю о них развернутых примечаний и «молчу многими страницами», как упрекает меня рецензент. Много еще неисследованных рецензий, программ и фотоматериалов хранится в архиве профессора Ренэ Герра (кое-что он любезно согласился опубликовать в воспоминаниях Кировой).
На некоторые вопросы автора рецензии я ответила, когда мы встретились в Москве, в сентябре 2007 года. В частности, тогда я сказала, что воспоминания Дины Кировой, которые хранятся в Бахметевском архиве – это точная машинописная копия, – а не «вариант» (!) опубликованных мною мемуаров. Обычно на машинке печатали под копирку два или несколько экземпляров. Разница лишь в том, что переданные мне для публикации мемуары содержат правки, сделанные рукой Кировой, подшиты ею в четыре тетради и дополнены конвертом с фотографиями и программами. Вероятно, это все, что Кировой удалось спасти и приложить в качестве изобразительного материала к своим воспоминаниям. Во вступительной статье к её книге я подробно рассказала о том, как рукопись была обнаружена и передана мне для публикации Николаем Александровичем Тираном, поэтому удивляют разные предположения и догадки, развернутая на полстраницы «почти детективная история с рукописью, уводящая читателя за океан» («Берега», с. 75). Могу лишь снова отослать интересующихся к книге Кировой «Мой путь служения Театру».
Дина Кирова пишет о том, что ящик, «где лежали альбомы со всеми рецензиями, которые князь собирал и так берег, и которые <…> не все были ею прочитаны» (их читал вслух князь, когда она выполняла взятую на дом работу), был потерян во время ее переезда в Русский дом в начале Второй Мировой войны. «Я так много всегда работала, – рассказывает она, – так уставала, что говорила себе: «Вот постарею, будет время и почитаю сама». И сожалеет о том, что пишет мемуары, не имея под рукой откликов на спектакли. Совершенно неожиданно в рецензии читаем: «Странно правда, что в отличие от абсолютного большинства актрис, Кирова не особенно заботилась о театральной памяти, даже не собирала коллекцию рецензий – обязательной папки в любом театральном архиве».
Ещё в 2003 году М.Литаврина писала об Интимном Театре: «Перед нами типичное культурно-просветительное учреждение диаспоры. <…> Театр как средство отражения русской жизни, передачи преданий и традиций – вот что можно сказать о таком институте». По ее мнению, «возникавшие первоначально русские театрики в Париже обслуживали лишь вкусы старшего поколения колонии, реставрировали на первых порах русский театр конца XIX века» и «лишь во второй половине 30-х годов (!) здесь появляется Русский драматический театр, предлагавший зрителю не только русскую классику и афишу 1900-х гг., но и современную драматургию», и «посещение театра входит в привычку русских парижан».
Читателю, знакомому с книгой авторитетного теоретика и деятеля театра, драматурга Н.Евреинова «Памятник мимолетному», нетрудно будет провести параллель. Но напомним, что и здесь нельзя забывать о «капризах памяти» и о том, как опасно доверять воспоминаниям! Книга Евреинова, конечно же, носит мемуарный характер, поэтому память его выборочна, а «нерукотворный памятник» он воздвиг, как и положено в подобном жанре литературы, «себе» – своему творчеству. Об этом он и сам предупреждает в послесловии: «... Во избежание нареканий – напомню тут же читателям, что атрибут абсолютного беспристрастия свойственен одному лишь Всевышнему, а что нам смертным дано в удел лишь относительное беспристрастие, как в суждении о своих ближних, так и об их делах». И еще: «... возможно, что в приводимых здесь «источниках» моей работы случайно оказался существенный пробел, и даже не один ...». Не комментируя книги Евреинова, заметим только, что, перечисляя эмигрантских драматургов и пьесы, написанные в эмиграции, он забыл писателя А.М.Ренникова и его сборник пьес на эмигрантскую тематику «Комедии», вышедший в Париже в 1931 году, не вспомнил он и о первой пьесе, написанной в самом начале эмиграции, еще в Константинополе, драматургом И.Д.Сургучевым «Реки Вавилонские» и многое другое.
В рецензии звучат вопросы: «... Много ли было по-настоящему творческих удач, серьезных творческих предприятий?» и «было ли это с напряжением всех сил выведенное эмигрантское дело еще и явлением искусства? <…> Что отвечало, ... другими словами, еще и критериям искусства? Вот еще один вопрос сегодня для историка театра, и вопрос немаловажный». Впрочем, если бы автор менее критично относился к хроникам, – а это результат долгой и кропотливой работы исследовательских коллективов, – это помогло бы избежать некоторой путаницы, связанной с событиями, датами, адресами, и в ранее написанной книге «Русский театральный Париж». Напомним, что в это время уже был издан четырехтомный справочник «Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни. 1920 -1940. Франция» под общей редакцией Л.А.Мнухина.
В качестве примера обратим внимание на такую иформацию из статьи М.Литавриной: «Открытию Интимного Театра (31 декабря 1927 г.) предшествовала работа Дины Кировой в ряде других русских трупп и организация серии собственных вечеров в Медоне». Если верить написанному, то вечера в Медоне Кирова организовывала еще раньше! Но ведь точно известно, что Интимный Театр открылся в Париже 10 февраля 1929 года. Медонские вечера действительно предшествовали открытию Театра, но Кирова их устраивала в 1927-1928 гг., а до этого она участвовала не в «ряде других русских парижских трупп», а только в антрепризе Григоровича-Тинского.
Кстати, если вернуться к воспоминаниям актрис, то любителей детективных историй ждет не одна любопытная «информация к размышлению». Например, такая: Кострова появилась в театре Кировой в январе 1930 года. Не исключено, что для Костровой это были очередные «гастроли», на которые она поехала «по заданию Особого Комитета». Дебютировала она в Театре Кировой 19 января, а 27 января эмигрантский мир потрясла новость – исчез предводитель белого движения генерал Кутепов! В мемуарах Кирова связывает это событие со своим театром:
« ... исчез Кутепов. В этот вечер шла пьеса «Дикарка» Островского. Много действующих лиц. Пьеса, требующая больших расходов, тщательной подготовки, хороших артистов, словом, что называется, «дорогая». Расход вечерний три тысячи франков – обставили очень хорошо. Новые декорации, хорошие артисты, а сбору у меня в этот вечер никакого. Мы все уплатили и остались без копейки денег... После этого шли еще спектакли. Я продала мои бриллианты, старалась всячески удержать театральное дело, но было очень трудно. Как было сказано в одной французской газете, у подъезда нашего театра было много такси. Это не значило, что приезжала нарядная публика. Просто сами шоферы любили бывать у нас, и бывали часто, а остальные приезжали на метро. После похищения Кутепова в среде шоферов произошло смущение. Стали не доверять, бояться. Говорили, что какой-то русский шофер был куплен и предал его. Мой бедный театр еле перебивался. Мое здоровье стало слабое, не было сил. Я чувствовала, что тот огонь, который горел в нас обоих, тухнет. Не было уверенности, появилась грусть в душе, и у меня, и у мужа. Все-таки спектакли шли – каждое воскресенье новая пьеса» (Кирова, с. 267).
Продолжив мысли Кировой, добавим: тогда ей все-таки удалось выпрямить положение и «подняться с колен» (заметим, уже после ухода Костровой из Театра). Еще впереди два театральных сезона и новые премьеры по пьесам на эмигрантскую тематику, написанным специально для Интимного Театра. Еще предстоит поставить один из самых удачных спектаклей по пьесе А.В.Амфитеатрова «Чудо святого Юлиана» и торжественно отпраздновать юбилейный сотый спектакль, костюмы для которого будут предоставлены дирекцией парижской русской оперы «Цербазон».
Соглашаясь с рассуждениями рецензента, нужно было бы спокойно оставить в забвении не только достижения Интимного Театра, но и творчество драматургов-изгнанников Сургучева, Ренникова, Амфитеатрова, Краснова, профессиональных артистов, среди которых мхатовцы Вырубов, Асланов, Греч, Павлов, известные актрисы немого кино Лиля Кедрова, Наталья Лисенко, Лидия Рындина – всех не перечислить, список длинный.
По известным причинам творчество эмигрантов «первой волны» замалчивалось на протяжении долгих десятилетий, и сегодня подобное отношение к русскому театру в изгнании можно объяснить лишь незнанием контекста эпохи. Не будем забывать, что речь идет о профессиональных артистах, оказавшихся в эмиграции в экстремальной ситуации и, разумеется, о профессиональном театре с постоянной труппой, в котором некоторым материальным обеспечением были театральные сборы.
Обойдемся без оценочных определений и не будем говорить о достоинствах и недостатках русского эмигрантского театра. Эта тема еще ждет своего исследователя. Понятно, что в создавшихся условиях театр не мог оставаться прежним – следовательно, был другим. Как считал академик Д.С.Лихачев, «традиция только тогда традиция, когда она сама передвигается во времени – не только сохраняет, но и делает традиционное применимым в новой исторической обстановке. Традиция это не просто перенесение старого в новое, это и приспособление старого к новому, то есть обновление старого».
Хотелось бы надеяться, что в полемике родилась истина. Ведь «эмигрантский театр в Париже явил такие ценности, какие не должны быть забыты, – писал Николай Евреинов, – и в этом не может быть никакого сомнения».
Валентина Кошкарян
№ 3(15) 2009
Русская Атлантида
http://inieberega.ru/node/188
Сообщение из тг канала Песенная ватага станицы "Адмиралтейская-Невская" от 29 июля 2023 года
Ушёл из жизни казачий полковник, воин, поэт, музыкант, композитор, актёр, режиссёр и добрый наш Ватажник МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ УСТИНОВ. Скоропостижно скончался у парадной своей петербургской квартиры на Васильевском острове 28 июля 2023 года. Под занавес своей жизни Михаил Георгиевич, наконец-то, получил жильё в своём любимом Петербурге и регистрацию. Начал ремонт своей маленькой квартирки. И был немыслимо счастлив!!!
В ГИТИСе в 2024 году будут обучать драматургии
Российский институт театрального искусства – ГИТИС планирует в 2024 году открыть набор на направление «Драматургия». Об этом 30 июля сообщил ректор института Григорий Заславский.
По словам ректора, у вуза уже есть опыт лицензирования новых специальностей. Например, в 2021 году впервые в России ГИТИС набрал студентов на обучение по направлению «Художник по гриму».
Григорий Заславский объяснил, почему считает открытие направления «Драматургия» важным:
«Как я выяснил в разговоре с коллегами, сегодня драматургии в ведущих вузах России не учат, такого направления просто нет. Соответственно, получить диплом, в котором было бы обозначена такая специальность, просто невозможно. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, мы решили лицензировать это направление для ГИТИСа. Сейчас уже делаем программы, в сентябре-октябре подадим документы и в следующем году уже сможем набрать студентов».
Российский институт театрального искусства – ГИТИС был основан в 1878 году и на сегодняшний день является крупнейшим театральным вузом в Европе. Изначально ГИТИС был Музыкально-драматической школой для приходящих, однако с годами программы обучения расширялись и менялись. Сейчас в институте есть 8 факультетов, где преподают по всем театральным специальностям: режиссер драмы, музыкального театра, эстрады, цирка, театровед, балетмейстер, сценограф, режиссер театра кукол, продюсер и, конечно, актер. В ГИТИСе преподавал театральный режиссёр Владимир Немирович-Данченко, вуз закончили режиссеры Всеволод Мейерхольд, Анатолий Эфрос, Марк Захаров, Роман Виктюк, актёр Александр Абдулов, певица Алла Пугачева и другие.
https://sovlit.ru
МАСКА И ЧУМА
В планах наиболее известного в театральной России уличного народного театра: учреждение театрального альянса между "Ельцин был скином", Бюро Театральных Расследований и музыкальным театром "SоТворение чуда"... С БТР договорённость практически достигнута, в повестке дня теперь переговорный процесс с музыкальным театром "SоТворение чуда" Погребенко (атаман станицы "Сталинская")...
Могу подтвердить мою готовность сыграть в совместной постановке театрального альянса "Маленьких трагедий" Пушкина роль Председателя Вальсингама из "Пира во время чумы"...
Гражданская позиция деятелей театра Петербурга весьма важна, так как эксперты предрекают всплеск заболеваний коронавирусной чумой осенью, а Председатель Вальсингам силой своего духа преодолевает страх смерти от чумы...
Скоро начинается новый театральный сезон, и в афишах всех театров Петербурга, подчёркиваю ВСЕХ, на мой взгляд, должна быть эта пьеса в рамках инициативы "Театр против коронавируса".
А начинался театральный альянс так...
В День Достоевского 4 июля 2015 года в Санкт-Петербурге моё внимание привлекло выступление Бюро Театральных Расследований.
14:00 — 15:00
Пластический спектакль «ПОЛЕ РУССКОЙ УТОПИИ»
Малая Конюшенная улица (на улице, за памятником Гоголю)
Бюро театральных расследований: пЛастический спектакль «Поле русской утопии».
Проект Б.Т.Р. представляет собой театральный дискуссионный клуб с философско-детективной установкой – «поиск истины важнее, чем обладание истиной». Основная задача ежемесячных встреч в рамках «Бюро театральных расследований» - живой диалог об актуальных проблемах современного театра и, как следствие, взаимодействие театра со зрителем. Предметом обсуждения становятся нашумевшие, культовые и малоизвестные театральные постановки, обсудить которые и предлагают организаторы Б.Т.Р. участникам проекта.
В ЦЕНТРЕ ЕЛЬЦИНА
1 октября Национальный драматический театр России представит в Ельцин Центре в Екатеринбурге нашумевший спектакль режиссёра Валерия Фокина «Честная женщина».
Постановка в жанре политического триллера. Действие происходит в ближневосточном государстве «Исламская Республика», охваченном гражданской войной. Зритель становится свидетелями закулисной драмы в высших эшелонах власти. Её предлагаемые обстоятельства: пандемия, экологический кризис и террористическая угроза, религиозный фанатизм одних, цинизм других и идеализм третьих. Можно ли разорвать порочный круг взаимной паранойи и что-то изменить к лучшему? Или большая политика как была, так и останется банальным «театром»?
Роль главного персонажа пьесы, «честной женщины», исполняет народная артистка России Марина Игнатова. Режиссер, автор спектакля – народный артист России, лауреат государственных премий России Валерий Фокин.
Пресс-служба народного уличного театра "Ельцин был скином"
...
Политический театр марионеток расширяет репертуар.
Зюганов Г.А. "Идейно-теоретическая основа партии" (М., 2013, ИТРК), стр. 215.
...
#коронавирус #россия #мистер_сидр #москва #петербург #российский_союз #sober_russia #общество_охраны_народного_здоровья #театр #оперштаб_николае_карпати #оперштаб_темп #против_наркоэкспансии #против_бутлегеров #петербург_без_чижика_пыжика #россия_без_водки
Друзья! Побывал сегодня по работе в "цитадели зла" для трезвой России sober Rusdia, в здании"бутылка" на острове Новая Голландия. Каждый раз при его посещении у меня появляется, что называется, внутренний холодок. Обратил внимание на изображения птичек внутри "бутылки". В сочетании с продажей спиртного, названием "цитадели зла", эти рисунки по сути внедряют в сознание посетителей "бутылки" антироссийский и антистоличный (Петербург это столица литературы и искусств) миф о чижике-пыжике. Так как пока ещё бутылка ассоциируется в сознании россиян с водкой, а не йогуртом или соком. Хотя придёт время, когда слово "бутылка" перестанет вызывать в памяти водку, и это время не за горами. Сделал вывод, что олигарх Абрамович, по всей видимости, входит в группу, которая стоит за установкой памятника чижику-пыжику на набережной Фонтанки. На сегодняшний день спикером в театральных кругах Петербурга этой группы является театральный режиссёр Погребенко, он ставит в своём музыкальном театре "SоТворение чуда" имени Устинова варьете, оперетты, вообще, лёгкий жанр... Также он возглавляет как атаман станицу "Сталинская", и вот в эту станицу идёт набор казаков, чтобы противостоять трезвой России в информационной борьбе (подчёркиваю, что речь идёт именно о борьбе идей)за будущее чижика-пыжика, а на самом деле, будущее Петербурга, всей России, так как появился новый штамм коронавируса, Гинцбург из Москвы утверждает, что этот штамм влияет на инсульты и инфаркты, а коллективный иммунитет горожан перенос чижика-пыжика укрепит, как и реализация всего комплекса идей федерального оперштаба Николае Карпати из трезвой России по борьбе с чумой коронавируса. Продолжение же присутствия этой бронзовой птицы на набережной Фонтанки, в центре Петербурга, с каждодневным стечением вокруг неё туристов и проплытием мимо кораблей неминуемо увеличит число заражений ковидом как в Петербурге, так и в России. Спиртное, особенно водка разрушают иммунитет, поэтому надо играть на опережение: на месте Беглова увеличил бы число дней осенью, когда запрещена торговля спиртным. Также в реперуар театров необходимо внести спектакль "Пир во время чумы" А.С. Пушкина, и автор этих строк готов сыграть роль Председателя Вальсингама на сцене любого из петербургских театров, и Александринки, и БДТ имени Товстоногова.
Не скрою, пока Погребенко и его группе удаётся блокировать реализацию идей Николае Карпати, политического и литературного лидера sober Russia и худрука уличного театра имени Бориса Ельцина, но это явление временное. Трезвая Россия пока ещё открыта к переговорам за круглым столом.
На чьей вы стороне?
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
В передаче "Что? Где? Когда?" увидел в зале Козлова, который в прошлой игре заявил, что покидает знатоков. Первый вопрос был про театр. Про то, что Станиславский и Немирович-Данченко запретили вход в зрительный зал после третьего звонка. А вот мне представляется, что был бы уместен отличный вопрос про участие Немировича-Данченко в общественной деятельности. Когда он был за пределами советского государства, то занимался легальной помощью подитзаключённым. Этот факт узнал во время одной из международных филологических конференций в СПбГУ. Многие из представителей советской интеллигенции, к примеру Максим Горький, занимались участием в таких проектах.
22 октября 2023 года
Сообщение в Тинькофф мобайл. Разыгрываем билеты в Большой театр. До 5 ноября пройдите тест про театр и участвуйте в розыгрыше. 600 победителей получат по 2 билета на специальный показ балета "Дон Кихот" и кэшбэк до 100% за отель, билеты до Москвы и обратно.
25 октября 2023 года
НЕ БЫЛО В КИНО
Как переделывали, теряли и прятали на полку российские фильмы XX века
Точкой отсчёта в истории отечественного кино считают 28 октября 1908 года. В этот день в прокат вышел первый российский художественный фильм "Понизовая вольница" (или "Стенька Разин") режиссёра Владимира Ромашкова.
В Российской империи и позднее, в СССР, кино считалось массовым зрелищем. Но его путь до зрителя был долгим и тернистым. Столько обстоятельств должно было сложиться — от творческой воли создателей до политической конъюнктуры и сохранности пленки, чтобы картина вышла на экраны! На примере отечественного кинематографа XX века рассказываем, почему многие фильмы были утрачены, как режиссеры переделывали свои картины, а что так и не было снято.
До середины 1930-х в киноиндустрии не заботились о долгой жизни фильмов. Негативы зачастую не хранили, а копии картин доводили до полного износа. Поэтому многие фильмы раннего периода оказались утрачены.
Во многом причиной этого было то, что в то время кино считали недолговечным аттракционом. Потенциал экранного искусства большие мастера разглядели далеко не сразу, одними из первых были авангардисты. Киноэксперименты оказались не чужды, например, уже известному в тот момент театральному режиссеру Всеволоду Мейерхольду. Хотя в 1912 году он ещё высказывался о кино довольно пренебрежительно.
"Кинематограф — сбывшаяся мечта людей, мечтавших о фотографии жизни, яркий пример увлечения "quasiестественностью". Фотография не есть искусство. И в этом взаимоотношении природы и руки человеческой отсутствует творец, отсутствует активное вмешательство автора", - Всеволод Мейерхольд "Кинематограф и балаган" (1912 год).
Спустя три года Мейерхольд изменил мнение и снял свой первый немой фильм "Портрет Дориана Грея" (1915) по роману Оскара Уайльда. На роль Дориана Грея взяли женщину — молодую актрису Варвару Янову, а роль сэра Генри сыграл сам режиссёр.
В отличие от некоторых коллег по цеху Мейерхольд понимал, что кино требует совсем иных подходов, нежели театр. Особое внимание он уделял движениям актеров, работе с линиями, светом и тенью. Однако многие нюансы режиссер узнавал, исправляя собственные ошибки. Картину спасли профессиональные советы оператора Александра Левицкого, который объяснял, как нужно выстраивать кадр, правильно работать с планами и диалогами. Но, несмотря на все попытки сократить действие в фильме, длина пленки составила 3;600 м, или около трех часов, — невероятный хронометраж по тем временам.
Последний известный показ "Портрета Дориана Грея" в кинотеатре состоялся в 1922 году, затем его след обрывается. В 2019-м фильм вошел в рейтинг Государственного фонда кинофильмов РФ (Госфильмофонда) наиболее значимых потерь в истории отечественного киноискусства.
Ещё один авангардист, заинтересовавшийся кинематографом, — это человек-оркестр Владимир Маяковский. В 1913 году он написал свой первый киносценарий "Погоня за славою", который не был реализован; через год дебютировал как актёр в фильме "Драма в кабаре футуристов №;13" (сегодня утрачен). Особенной для него картиной стала "Закованная фильмой" (1918).
"Ознакомившись с техникой кино, я сделал сценарий, стоявший в ряду с нашей литературной новаторской работой", - Владимир Маяковский "Предисловие к сборнику сценариев" (1927).
Маяковский написал сценарий для своей музы Лили Брик. Вместе они сыграли главные роли. По сюжету картины художник влюбляется в балерину, которую увидел в кино; балерина буквально сходит к нему с экрана, потом сбегает обратно, затем снова появляется — и так пока окончательно не возвращается на экран.
Во второй части Маяковский собирался отправить художника в страну кинематографа на поиски возлюбленной. Но этот замысел реализовать не удалось. "Закованная фильмой" погибла в пожаре на киностудии "Нептун" почти сразу после съёмок. Сохранился всего один полутораминутный фрагмент дубля, который не вошёл в окончательный монтаж. Через восемь лет Маяковский восстановил сценарий картины в новой редакции под названием "Сердце экрана", но тот так и не был экранизирован.
Бывают, впрочем, и счастливые случайности — когда фильм, считавшийся утраченным, неожиданно находят.
В 1928 году ещё один новатор в мире кино Евгений Червяков снял немую картину "Мой сын". В начале фильма жена признается мужу-пожарному, что их новорожденный сын не от него. Это признание рушит привычную для героя картину мира. Потерянный, он уходит из дома, бродит по городу. В финале герой спасает неродного сына из пылающего дома, после этого возникает надежда на примирение семьи.
Решение сюжета было нетипично для советской России, поскольку выводило на экраны не общественный проступок, а личную драму. Критики встретили фильм неоднозначно. Тем не менее ленту "Мой сын" в числе других немых картин Червякова называли новой вехой в отечественном кинематографе. Творческий метод режиссера здесь проявлялся в акцентировании внутренних переживаний героев, которые отыгрываются актерами не нарочито, а одним выражением глаз.
"Основная задача: показать… весь тот сложный комплекс душевных явлений, который называется человеческими страстями. <…> Второе задание — люди. Не вещи, массы, красивые виды и замысловатые трюки монтажа, а люди. <…> Из сказанного вытекают и основные принципы постановки. Режиссура: во что бы то ни стало добиться максимальнейшей "производительности"… человеческого лица. <…> Оформление: простая комната, лестница, клуб, пивная — сотни и тысячи таких вы найдете в любом городе", - Евгений Червяков в журнале "Рабочий и театр" (1928).
Копия фильма погибла во время Великой Отечественной войны. Десятилетиями лента считалась утраченной, пока в 2008 году в Аргентине местные киноведы не обнаружили неизвестный советский фильм под названием "Сын другого". Отечественным исследователям Юрию Цивьяну и Петру Багрову удалось установить, что это неполная копия картины Червякова. Фильм восстановили, первый его показ состоялся в 2011 году на фестивале архивного кино "Белые Столбы", организованном Госфильмофондом.
Госфильмофонд России — это главный отечественный киноархив. С распространением звуковых фильмов советская власть наконец всерьёз задумалась о систематизированном хранении негативов. Не исключено, что дополнительным аргументом послужило постепенное разрушение негатива картины братьев Васильевых "Чапаев" (1934) — любимого фильма Иосифа Сталина. В результате во второй половине 1930-х годов в подмосковном поселке Белые Столбы начали строить здание будущего фонда. Его сотрудники занимаются не только сохранением пленки, но также ее изучением, реставрацией и оцифровкой. В 1997 году фонд попал в Книгу рекордов Гиннесса как один из трёх крупнейших киноархивов мира. Сегодня его коллекция насчитывает более 90 тыс. названий и свыше миллиона коробок пленки. В 2023 году Госфильмофонд отметил 75 лет со своего основания.
В 1917 году к власти пришли большевики, после этого государство берёт под контроль процесс кинопроизводства. Уже через год подписан Декрет о национализации кинодела. Поначалу наибольшее внимание уделяли кинохронике, но к 1930-м годам начинает развиваться так называемый агитпропфильм. Это были полудокументальные-полуигровые фильмы, которые иллюстрировали актуальные политические лозунги. Успехом у аудитории агитационное кино не пользовалось, поэтому через несколько лет производство таких картин свернули. Вместо этого руководство страны требовало создавать высокохудожественные картины, ориентированные на массового зрителя, с идеологически верным содержанием — такие как "Чапаев".
Главным отечественным киноманом в эти годы был Иосиф Сталин. В 1933 году в Кремле для него был оборудован даже специальный кинозал. Лидер СССР смотрел все фильмы, которые должны были выйти на большой экран, чтобы отбраковать идейно слабые, по его мнению, картины. И порядок этот нельзя было нарушать.
Так, в 1935 году в советских газетах напечатали восторженный отзыв французского писателя и журналиста Анри Барбюса на ещё не выпущенную ленту "Кара;Бугаз" режиссёра Александра Разумного (сегодняшний зритель может знать его по картине "Тимур и его команда" (1940)). Фильм снят по повести Константина Паустовского. Начинается всё с того, что во время Гражданской войны недалеко от Туркменистана терпит крушение корабль, на котором находятся попавшие в плен красноармейцы. Нескольким героям удается выжить на необитаемом острове, и один из них загорается идеей добывать глауберову соль в заливе Кара-Бугаз. Проблема только одна — нехватка питьевой воды. Финал истории патриотический: большевистская наука и энтузиазм масс помогают решить задачу опреснения.
"Это произведение исключительно яркое, правдивое, динамичное. Национальный колорит и патетика фильма завершаются глубоким социальным смыслом, могучим в самом существе отдельных кадров", - Анри Барбюс в газете "Известия" (1935).
Сталин прочитал колонку и разозлился, потому что кто-то увидел картину раньше него. В действительности виной тому было недоразумение — по версии сына Разумного, Барбюсу показали "Кара-Бугаз", потому что другой фильм, который запланировали для показа изначально, отсутствовал. Борис Шумяцкий, заведовавший в то время управлением кинофотопромышленности, смог убедить лидера СССР в том, что французский журналист видел совсем другую картину, тогда как "Кара-Бугаз" представляет собой сырой и слабый материал. После этого абсолютно готовый фильм законсервировали, и он оказался на полке (эвфемизмом "полочное кино" обозначают фильмы, не вышедшие в прокат).
К счастью, лента сохранилась, но обычно судьба изъятых картин была менее удачной: фильмы уничтожали или теряли из-за пожаров и войны. Так, утрачен навсегда фильм Сергея Эйзенштейна "Бежин луг" (1935–1936). В 1925 году режиссёр высек свое имя на "памятнике советскому кино", выпустив "Броненосец „Потемкин"". Но это не уберегло его от нападок цензуры.
"Бежин луг" стал адаптацией известного мифа о пионере Павлике Морозове, который якобы донёс на своего отца за пособничество кулакам и был за это убит отцовской роднёй. В фильме Эйзенштейна чисто классовый конфликт подменяется конфликтом между тёмным прошлым и прекрасным будущим — то есть патриархальная деревня (в лице отца) должна уступить место грядущему бесклассовому обществу (в лице сына). И решал мастер этот конфликт как вариацию на библейский сюжет жертвоприношения Авраама.
В 1937 году работу над лентой приостановили. По одной из версий, Сталин отверг "Бежин луг" за то, что в фильме ребёнок заменяет собой всю советскую власть. Материалы, связанные с картиной, хранились на "Мосфильме". По одной из версий, перед эвакуацией в 1941 году они были закопаны в землю на территории студии и впоследствии были безнадёжно испорчены влагой, которая проникла в коробки. От "Бежина луга" осталось восемь метров плёнки и множество рабочих материалов, но самое ценное — это срезки кадров, сделанные монтажёром Эсфирью Тобак по указанию Эйзенштейна. В 1968 году из них удалось собрать фотофильм. Пусть и в статике, но он позволяет получить представление о замысле режиссёра.
Больше повезло другой легендарной картине Эйзенштейна — "Иван Грозный" (1945). Первую серию Сталин встретил с восторгом, а во второй усмотрел нелестные аллюзии на самого себя. Фильм был запрещён, но все же вышел на экраны через 13 лет — вскоре после смерти вождя.
С конца 1930-х контроль за кинопроизводством начинает осуществлять один из ближайших соратников Сталина Андрей Жданов. Он с предубеждением относится к развлекательным жанрам, поэтому накануне войны запрет налагается на "оторванные от реальности" "легкомысленные" фильмы, такие как комедия "Сердца четырёх" (1941) режиссёра Константина Юдина. Лента представляет собой любовный водевиль, участниками которого стали разные по характерам сестры Мурашовы, военный Колчин и интеллигентный учёный Заварцев.
Но уже спустя несколько лет ужасы войны заставляют советских зрителей мечтать о предвоенной "идиллии", поэтому фильмы бытового содержания вскоре вернулись на экраны. "Сердца четырёх" выходят в прокат в 1944 году как обещание скорой победы и мирной жизни. За первый год картину посмотрели 19,4 млн человек.
В прошлом веке сохранность оригинального замысла фильма ценилась гораздо меньше, чем в наши дни. Сегодня если и существуют различные версии одной и той же картины, то, как правило, это прокатный и режиссерский варианты. В СССР картины нередко переснимали или перемонтировали под влиянием обстоятельств или политической конъюнктуры.
Например, многие картины подверглись переработке после развенчания культа личности Сталина. Так, один из ведущих кинематографистов сталинской эпохи режиссер Михаил Ромм с удовольствием, по его собственному признанию, вырезал вождя (или "630 м культа") из своих картин, посвящённых событиям революции и Гражданской войны "Ленин в Октябре" (1937) и "Ленин в 1918 году" (1939).
Но всё же гораздо чаще изменения в кино вносили (и вносят до сих пор) на этапе производства — по техническим причинам, из-за правок в сценарии и ограничений хронометража или потому, что так решил режиссер.
Типичный пример — это изъятие крайне удачной сцены "Бред Криса" из "Соляриса" (1972) Андрея Тарковского, действие которой происходит в зеркальной комнате. Герой Крис Кельвин под влиянием разумного океана планеты Солярис впадает в беспамятство. Его ощущения переданы с помощью отражений множества зеркал друг в друге. Вероятно, по мнению режиссера, двухминутная сцена не вписывалась в эстетику и ритм картины, поэтому от неё отказались.
Но настоящая драма разыгралась вокруг другого фильма Тарковского — "Сталкер" (1979), снятого по мотивам "Пикника на обочине" братьев Стругацких. Со "Сталкером" с самого начала всё не заладилось. Сначала в Таджикистане, где собирались снимать, случилось сильнейшее землетрясение. Пришлось мучительно искать другую натуру (в итоге подобрали подходящее место в Таллине). Затем, после 10 дней работы, отсмотрели получившийся материал и обнаружили сплошной брак. Бурую муть по краям кадра, отсутствие резкости и чёрных теней в изображении списали на ошибки ассистента по фокусу и с картины его сняли. Начали переснимать, но из-за поломки проявочной машины увидеть результат удалось только спустя 40% метража, и снова брак! После этого в съёмочной группе произошли ещё более радикальные перестановки.
Творческий процесс тоже шёл со скрипом. Уже на старте возник конфликт из-за роли жены сталкера. Её хотела сыграть Лариса Тарковская, супруга режиссёра. Но остальная команда была против её кандидатуры. После долгих обсуждений Андрей Тарковский утвердил Алису Фрейндлих, которая гораздо убедительнее показала себя на пробах. Уже в процессе работы с натурой режиссёру постоянно не нравилось то, что получалось, но он не мог объяснить съёмочной группе, что от них требовалось. По воспоминанием тех, кто тогда работал на площадке, режиссёр, кажется, и сам этого не знал. Команда то и дело обновлялась, а сценарий переписывался.
Съёмки длились в общей сложности около полугода, когда в лаборатории на "Мосфильме" после проявки снова получили брак. Пропало 6 из 10 тыс. м выделенной пленки. Причину до конца так и не выяснили, но было очевидно, что проблема не в сотрудниках Тарковского.
Дело в том, что большинство картин в СССР снимали на отечественной пленке низкого качества, но только не "Сталкера". Ленту продали на Запад ещё в момент запуска, поэтому на неё выделили импортную пленку "Кодак". По одной из версий, это была экспериментальная партия, требовавшая особых условий проявки, которые не обеспечили должным образом. По другой версии, дефицитную плёнку решили придержать для государственных нужд, а вместо неё выдали старую со склада. Некоторые и вовсе считали, что Тарковский таким образом хотел списать затраченный бюджет и переделать неудавшуюся картину. По словам самого режиссёра, никто бы не дал ему такую возможность, "если бы это не было техническим браком, по вине главного инженера "Мосфильма".
Под угрозой международного скандала Тарковскому удалось выбить у Госкино дополнительный бюджет и разрешение на пересъёмку картины. И даже более того — пересъёмку по обновленному сценарию. После долгих творческих исканий фильм разбили на две части и переписали характер главного героя. Если в "Пикнике на обочине" сталкер представал достаточно жестоким человеком, то в финальной версии сценария Стругацких он стал юродивым. Кто знает, каким мог бы получиться фильм, не случись этих проблем с плёнкой.
Снятый фильм, пусть и с вынужденными исправлениями, пусть даже забытый или утерянный, — это все же снятый фильм. Куда более мучительной для создателя может быть картина, которую ему реализовать так и не удалось.
По-настоящему трагичная фигура в этом плане — режиссёр Александр Медведкин, автор одной из самых необычных лент советского времени — "Счастье" (1934). Это была последняя немая комедия в СССР, которую Эйзенштейн считал синтезом сатиры Михаила Салтыкова-Щедрина и гравюр Франсиско Гойи.
"Мы имеем не только превосходную вещь. Мы имеем замечательного мастера. Мы имеем настоящую оригинальную зрелую индивидуальность", - Сергей Эйзенштейн в рецензии на фильм "Счастье" (1934).
После съёмок "Счастья" Медведкин задумал ещё один лубочный фильм под названием "Окаянная сила". Это должен был быть своеобразный парафраз поэмы "Кому на Руси жить хорошо" — о семи карежинских мужиках, которые ищут счастье на земле, в аду и в раю, но, не найдя его, повисают между небом и землей.
В 1935 году были уже отобраны актеры, изготовлены костюмы и возведены декорации, начались репетиции, но тут гонениям в прессе подвергся фильм "Счастье", а затем приостановили работу и над "Окаянной силой". Режиссёр предпринимал безуспешные попытки запустить картину в производство в 1941-м, 1978-м и даже за год до своей смерти, в 1988-м. В архиве Медведкина, который находится в Музее кино, хранится 14 вариантов сценария. Но фильм так и остался на бумаге.
А, например, режиссёру Георгию Данелии никак не удавалось осуществить драматические замыслы — всё время что-то мешало. В 1963 году он решил снимать "Преступление и наказание" Фёдора Достоевского. Случайно об этом узнал его коллега Лев Кулиджанов. Это был любимый роман режиссёра, и он всегда мечтал его экранизировать, поэтому очень расстроился. Сам Кулиджанов между тем увёл у Данелии сюжет повести "Хаджи-Мурат" Льва Толстого. В итоге кинематографисты решили попросту обменяться картинами. И в 1966 году Данелия вместе со сценаристом Владимиром Огневым начали работать над фильмом об аварском вожде.
"Приключенческий фильм можно было сделать захватывающим. Но Данелия сразу же отказался от этого. Он не хотел ни скачек, ни убийства детей хунзахского хана… ничего, что отвлекало от фигуры обаятельного, чуть прихрамывающего наиба аварского Хаджи-Мурата… его тоски по родине, его приступов дикой мстительности, его благородства и унижения в плену, его трагической смерти, в которой были повинны многие, а больше всего — он сам…", - Владимир Огнев о работе над сценарием "Хаджи-Мурат" (1982).
Уже успели выбрать натуру для съёмок, утвердили актёров, сделали эскизы декораций и костюмов, но неожиданно картину закрыли. Так из этого ничего и не вышло. А вот Кулиджанов "Преступление и наказание" всё-таки снял.
Не всем замыслам творцов суждено быть реализованными, другие под влиянием обстоятельств могут быть утрачены навсегда. Историю не только киноуспехов, но и кинонеудач собирают профессионалы. В России изучением, восстановлением и сохранением фильмов прошлого и настоящего занимаются прежде всего архивы Госфильмофонд России, РГАКФД, а также ВГИК, Музей кино, музеи "Мосфильма" и "Ленфильма".
Подробнее на ТАСС:
https://tass.ru/spec/ne-pokazyvali-v-kino
ТЕАТР РОССИИ НИКОЛАЕ КАРПАТИ. ТВОРЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ
Как-то на пресс-конференции в Петербурге Олега Табакова, задал ему вопрос, а это было в 2003, про то, как он относится к употреблению спиртного в его театре? При этом занял место в ряду "на Качатке", но Табаков чем-то выделил в лесу рук именно мою... И Олег Павлович Табаков порекомендовал мне почитать письма Станиславского, в которых он требователен к соблюдению актёрской труппой трезвого образа жизни. Более того, Табаков даже уволил из театра знаменитого Олега Даля, у которого были проблемы со спиртным. Возглавляемый мной уличный народный театр придерживается этих принципов основателя русского театра Станиславского. Актёры нашего театра практикуют ЗОЖ, моржевание, бег на длинные дистанции.
Могу сказать, что внимательно изучил опыт театральной деятельности Дины Кировой, установил творческий контакт с ЦРЯК (Центр русского язфка и культуры) в Париже... Про Дину Кирову http://proza.ru/2016/02/19/2253
Тем более именно такой подход необходим у руководителей театров Петербурга, театральной столицы России, в период увеличения числа заражений ковидом в России. Так как эпидемия ковида, чумы 21 века, продолжается, а спиртное разрушает иммунитет, это доказано учёными. С кем вы, деятели театра и кино? Этот вопрос звучит как никогда своевременно...
Могу подтвердить готовность сыграть на сцене любого из театров Питера, будь это Александринка, БДТ имени Товстоногова или любой другой театр роль Председателя Вальсингама из "Пира во время чумы" Пушкина...
Именно мужество Председателя Вальсингама перед лицом неминуемой смерти, воспетое лирой гениального русского поэта, вдохнёт новые силы в горожан...
Эту роль готовлюсь сыграть в рамках предвыборной кампании на должность президента РФ, намерен избрать самовыдвижение...
В настоящее время вместе с Б.Т.Р. (Бюро театральных расследований) готовлю запись аудиоспектакля по "Маленьким трагедиям" Пушкина...
В Петербурге, безусловно, есть разные театры... Кто-то ставит водевили, оперетты, к примеру музыкальный театр "SоТворение чуда" имени Михаила Устинова, это их дело, их зрители, их аплодисменты, которыми, как известно, не делятся... Мой же выбор: классический репертуарный театр, не антреприза... Со сцены которого под светом софитов громко и во весь голос прозвучат реплики персонажей пьес Шекспира и Вампилова...
И теперь вопрос на засыпку: среди участников предстоящих праймериз Левого фронта по выдвижению единого кандидата на президентские выборы 2024 есть ли кто-то, кто может сравниться с автором этих строк по уровню театральных достижений? И каковы театральные познания у Платошкина?
Роль Председателя Вальсингама автор этих строк заслужил своей политической биографией, особенно тем всем известным фактом, когда перекрывал турникет ковид-больницы Свердловки в разгар ковида летом 2020 года.
...
ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ АУДИОСПЕКТАКЛЯ ТЕАТРА НИКОЛАЕ КАРПАТИ
3 ноября, накануне Дня народного единства, в рамках подготовки к старту предвыборной кампании на должность президента РФ, а также общественной инициативы "Театры Петербурга против коронавируса" опубликовал в тг канале партии трезвая Россия и национально-освободительного движения запись аудиоспектакля "Пир во время чумы" по "Маленьким трагедиям" Пушкина в своём авторском исполнении.
Также анонсирую1-ю редакцию новой книги о российском театре http://proza.ru/2023/07/27/1135
Напомню, что из-за цензуры "Нового Мирового Порядка" Фининтерна, глобалистов, масонов, агентов ЦРУ, банкиров-ростовщиков официальному каналу моей предвыборной президентской кампании на YouTube вынесено второе предупреждение за общедоступную информацию о наличии в вакцинах Биг Фармы, а именно в вакцинах фармкорпорации АстраЗенека, генетического материала шимпанзе и, не могу исключать эту причину, упоминания лидера движения "За новый социализм" Платошкина ... Масонские связи, они действуют как телеграф... Советую Николаю Николаевичу перечитать "Опасные связи" Шодерло де Лакло... Уже третий раз тайная организация переходит мне дорогу: первый раз, когда автор этих строк был захвачен в гостинице цирка "Чинизелли" на Фонтанке клоунами перед зимней пресс-конференцией Путина в 2015, второй раз, когда меня уволили из курьеров Яндекс Еды в марте этого года с использованием фейковой фотографии (не мочился в общественном месте, как утверждали в техподдержке, а просто любовался архитектурой перед выходом на свободный слот, пишуоб этом в продолжении поэмы ЯНДЕКС БЕДА, в ЗА ПРИГОРШНЮ НАГГЕТСОВ) у этой же гостиницы, и вот блокировка на YouTube... И везде фигурирует Платошкин... Не слишком ли много совпадений?
К слову, поддержал законопроект фракции в Госдуме партии "Новые люди" о запрете цирковых представлений с участием дрессированных животных, подписал соответствующую петицию... Рассчитываю, что "Новым людям" удастся преодолеть сопротивление циркового лобби во главе с братьями Запашными...
Могу сказать, что принимал участие в акциях зоозащитников, в том числе у цирка "Чинизелли"...
Пока от Петербурга ещё, насколько знаю, никто не заявил о баллотировании, а такой претендент должен быть, так как Питер это европейская культурная столица, морская и литературная. А Россия это литературоцентричная страна, обязательное право писательского российского сообщества быть представленным тем или иным способом на выборах президента страны не подлежит сомнению. Также напомню, что в США "партия запрета" по традиции участвует в выборах президента, это показатель демократии. Поэтому, соратникам по трезвой России показываю пример, выступаю ледоколом, за которым в последующие выборы пойдут несомненно другие кандидаты.
Речь о том, что у нас, у антинаркотического трезвенного сообщества России, огромный потенциал, есть выдающиеся спикеры и активисты, пропагандисты спорта и ЗОЖ, поэтому рано или поздно (лучше раньше), мы преодолеем дискриминацию и этноцид со стороны фабрикантов водки и бутлегеров... Наличие нашей повестки в предвыборной гонке особенно важно сейчас, на фоне недавних массовых смертей от отравлений алкоголем, пивным напитком "Мистер Сидр"...Напомню также, что одна из версий недавнего массового убийства в Волновахе связана с продажей самогона... А ведь наша партия уже давно призывает изъять у россиян на добровольной основе, с подключением при необходимости Росгвардии, одним из подразделений которого стала ЧВК "Вагнер", самогонные аппараты...
Одна из причин создания аудиоверсии моноспектакля: общественный и театральный деятель Погребенко, атаман станицы "Сталинская", пока не предоставил автору этих строк роль Председателя Вальсингама в постановке своего музыкального театра "SоТворение чуда" имени Михаила Устинова, да и самого этого спектакля нет в его репертуаре.
Кстати, слова Кабалюка из его обращения к Сталину: "Наша русскость не моложе Карпат" - и по сей день являются лозунгом местного пророссийского патриотического движения. Цитата из: О. Неменский, журнал"Вопросы национализма", 2011, 5.
...
И в бахтинских трудах, раскрывающих материально-телесную стихию книг Рабле и других явлений западной литературы, нелепо усматривать нечто противоречащее религии; перед нами объективное и глубокое раскрытие тенденций, присущих культуре, которая существовала и равзвивалась, как и доказал, Бахтин, всецело в лоне Католицизма.
В.В. Кожинов в книге "Победы и беды России" (ЭКСМО-ПРЕСС, Москва, 2002), стр. 356
...
Мистерии в театре «На досках» Сергея Кургиняна
Григорий Отрепьев – он какой человек? Он ведь человек проклятый… XVII век, или самый конец XVI. Он сидит в монастыре, и он оттуда бежит. Он уже – расстрига, он уже проклят богом. Он берет на себя имя помазанника божьего – он дважды проклят. Он меняет веру, как набожный приемыш иезуитов – он трижды проклят. А раз иезуиты – так хоть четыре.
Наконец, он на Святую Русь ведет войска Антихриста. Он пять раз проклят.
И он понимает это!
Он-то для себя в аду, он в тьме… Он испытывает непрерывный ужас, который преодолевается активностью. Ужас – активность, еще ужас – ещё больше активности.
И вдруг посреди этого ему господь посылает возможность спасаться.
Бог есть любовь. У него есть любовь! Значит, это последний раз последний луч протягивает зачем-то бог страшному грешнику. Что испытывает такой человек, который по-настоящему верит?
И вот дальше начинается конфликт между предельными основаниями, между этой любовью, светом и тьмой.
Ровно такой же конфликт происходит у Гоголя…
...
Брифинг-1.
Кремль почувствовал серьезный негатив от планируемого назначения Гергиева директором и художественным руководителем Большого театра. «Труппа Большого театра и столичное культурное сообщество негативно отреагировали на новость о Гергиеве. Попытка объединить Большой и Мариинку не поддерживается ни кем; в канун избирательной кампании Гергиев в Большом станет негативным триггером», говорит источник из мэрии Москвы.
Известно, что мэрия Москвы негативно отреагировало на назначение Гергиева. «В самой труппе театра уже пишут письмо Путину, которое будет опубликовано. Звезды Большого намерены также обратиться к Путину с просьбой не объединять театры».
Источники, близкие к Кремлю утверждают, что Минкульт и Путин убрали анонс о назначении Гергиева на культурном форуме в Питере. «Вопрос решено еще продумать». Сам Гергиев утверждает, что не стремится занять должность в Большом. Ранее источники утверждали, что Гергиева активно лоббирует в Большой театр друг Путина Ролдугин.
...
В своём статусе художественного руководителя известного в Петербурге и в Ленинградской области уличного театра, инициатора художественной инициативы "Культурный фронт. Театры Петербурга против ковида", выражаю соболезнование творческой труппе Республиканского театра кукол в Йошкар-Оле и родным и близким Максима Белецкого.
Замечу, что инициативой возглавляемого мной театра уже сейчас заинтересовались видные деятели театрального искусства Петербурга, которые попросили пока не раскрывать их имён, поддержака уже оказана уличной театральной труппой от Б.Т.Р. (Бюро театральных расследований), с которой речь идёт о совместной постановке "Пира во время чумы" Пушкина, в котрой автору этих строк буджет доверена роль Председателя Вальсингама.
Пока застопорились переговоры с музыкальным театром "SоТворение чуда" имени Михаила Устинова, главный режиссёр которого отказался мне предоставить роль Председателя Вальсингама в рамках уже стартовавшей моей избирательной кампании на должность президента РФ, напомню, что иду самодвигом...
Ну что же, это его дело, как говорят в ЧОПах, жестить не будем, тем более, что я поручил ротмистру, точнее уже подполковнику Добркорпуса Русской армии Ивану, специальному корреспонденту оперштаба, активизировать новый раунд переговоров с "SоТворением чуда"... В этом театре ставят, прежде всего, лёгкий жанр, варьете, оперетты... У такого сорта театральной продукции есть свой зритель, ну и пусть будет,аплодисментами, как сказал Марк Захаров в своё время, не делятся...
Считаю, что если будет организован после проведения референдума новый субъект РФ (это есть в моей предвыборной программе) из Петербурга и Ленинградской области, то речь может идти как об объединённом оперштабе против ковида этого субъекта, так и театре республиканского значения ...
В Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле сообщили о трагической гибели актёра труппы.
37-летний Максим Белецкий погиб в Индии. По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же.
Как сообщает Пятый канал со ссылкой на The Times of India, тела Максима и 21-летней Анны Ранцевой нашли в термальном бассейне в Терги, недалеко от Маникарана. Установлено, что их смерть не носила насильственного характера. Рядом с телами обнаружены мобильные телефоны, паспорта погибших и записка, предположительно написанная девушкой, с просьбой отправить принадлежавший ей телефон её семье. В другой записке — просьба вернуть вещи Белецкого и Ранцевой в российское посольство.
Максим служил в театре в 2007-2021 годах. Окончил Марийский колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая как актёр (первый выпуск кукольников), а затем получил режиссёрское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге.
В театре кукол Йошкар-Олы он участвовал в спектаклях: «Жак и его слуга, или Как стать Людоедом» (Маркиз Блюдолиз), «Прекрасное далёко» (Вася), «Панночка» (Дорош), «Ночной караул» (Олёш), «Бармалей», «Винни Пух», «Красная Шапочка», «Снеговик-почтовик», «Сказка про Емелю» и т.д.
Также в собственной инсценировке им были поставлены сказки «Звёздочка»** по пьесе Н. Шмитько и «Цветик-семицветик»** по сказке В. Катаева.
Дважды Максим становился лауреатом Национальной театральной премии имени Йывана Кырли на фестивале «Йошкар-Ола театральная»: в 2018 году за роль Джана в спектакле «Бамбуковый остров» и в 2019 году за роль Олёша в спектакле «Й;д орол» («Ночной караул»). Со спектаклем «Ночной караул» в 2020 году принял участие в фестивале «Петрушка Великий» в Екатеринбурге и фестивале «Золотая маска» в Москве, рассказали в театре.
КАРТИНА МАСЛОМ
ИЗ МОЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ТЕАТРАЛЬНОЙ БИОГРАФИИ
Не секрет, что автор этих строк является худруком одного из наиболее известных российских уличных театров "Ельцин был скином", который вместе с Б.Т.Р. (Бюро театральных расследований), возглавил театральную инициативу "Театры Петербурга против ковида". Это важное направление борьбы на внутреннем культурном фронте за коллективный иммунитет жителей Северо-Запада России... В настоящее время инициативой готовится обращение к недавно возглавившему СТД режиссёру Театра Олега Табакова Владимиру Машкову, в рамках практически стартовавшей президентской кампании в РФ, о необходимости возвращения российских театров к тем основам, которые были заложены Станиславским и Немировичем-Данченко, то есть к театру прежде всего репертуарному, а не антрепризному. Лишь только репертуарный театр позволяет всесторонне освоить метод Станиславского, который автор этих строк изучал по внушительному сборнику о прогонов пьес Товстоноговым в БДТ. В котором даётся филигранный разбор пьес Вампилова, имеющих и антинаркотическое пропагандистское значение...
Считаю, что в театрах Петербурга и Москвы, на которые ориентируется прежде всего театральная Россия, в период роста заражений ковидной чумой необходимо ставить прежде всего пьесы Шекспира, Пушкина, Вампилова... Прежде всего речь идёт о постановках по "Маленьким трагедиям", по "Пиру во время чумы"...
Обратите внимание, что птичка на постере к спектаклю Вырыпаева по окрасу весьма напоминает... чижика-пыжика... Как раз перенос памятника чижику-пыжику с набережной Фонтанки необходим, по экспертной оценке оперштаба трезвой России (sober Russia) , для укрепления иммунитета горожан этой зимой. Чтобы сделать это, вовсе не обязательно проводить референдум, так как этот памятник не входит в Музейный фонд России (это показало проведённое журналистское расследование).
Напомню, что усилия активистов нашего движения были достаточно эффективны: пьеса Вырыпаева исчезла с афиш БДТ...
ВОСКРЕШЕНИЕ ТЕАТРА
Требую от имени Трезвой России изъять пьесу Вырыпаева "Пьяные" из репертуара БДТ имени Г.А.Товстоногова!
Обратился в Интернет-приёмную министра культуры Мединского с призывом изъятия пьесы "Пьяные" из репертуаров всех российских театров.
М.О.Меньшиков о Сухом Законе: "О, какое это было бы великое, желанное, спасительное для народа дело! Это было бы более, чем свержение татарского ига или крепостного права, — это было бы свержение дьявольской власти над Россией...".
"Русский репертуарный театр давно мёртв".
Нужна ли России реформа театра? Вот основные мифы, связанные с так называемой театральной реформой.
Миф первый - гибель великого русского репертуарного театра. Все это вымысел и лицемерие, потому что российский репертуарный театр уже давно не великий.
Девяносто процентов российских театров - это мёртвое искусство, не имеющее отношения ни к системе Станиславского, ни к другим русским драматическим школам прошлого. Там все сплошная фальшь. Ничего живого там нет, и никаким величием русского театра там и не пахнет. Прошу прощения за то, что вынужден говорить так принципиально, но кто-то же должен об этом говорить. Тем более что об этом все
знают. Знают, но прилюдно молчат. И я вовсе не хочу никого обидеть, но когда руководители театров с пеной у рта кричат о гибели русского театрального искусства, я хочу спросить у них: о каком искусстве они так рьяно говорят?
Итак, первое - великому репертуарному русскому театру уже не угрожает гибель, потому что этот театр давно мёртв.
http://www.vyrypaev.ru/press/92.html
Андрей Могучий, художественный руководитель БДТ им. Г.А. Товстоногова:
«Конечно, это не бытовая пьеса, в ней присутствуют все элементы нового романтизма. Любовь — главная тема пьесы. Любовь к божественному в человеческой природе. Опьянение в пьесе не носит бытовой окраски, его нельзя понимать буквально, это метафора просветления, ощущение подлинного течения жизни, любви, чуда, происходящего прямо сейчас. В течении одной ночи с героями происходят чудесные превращения. Эта ночь — момент свободы и надежд. У всех людей есть шанс изменить свою жизнь к лучшему — об этом спектакль. Традиционно для предпремьерных показов мы выбираем молодую аудиторию. Она самая отзывчивая, открытая. Пьеса «Пьяные» для свободных людей, свободных от стереотипов. Разрушая стереотипы, Иван Вырыпаев приходит к новой искренности, которую, мы надеемся, почувствует зал».
Иван Вырыпаев, автор пьесы:
«Когда я написал пьесу «Пьяные» два года назад, мне показалось, что у меня что-то получилось в драматургии. Во всяком случае, это какой-то новый этап в моем творческом развитии. А уж лучшая она или худшая — это пускай решают зрители. Лучшая реклама любви — это любить. Любовь сама себя рекламирует. Я рад, что Андрей Могучий решил обратиться к моему тексту».
http://bdt.spb.ru/спектакли/пьяные
На предновогодние запланированы очередные показы в БДТ пьесы Вырыпаева «Пьяные».
Могучий должен понимать ответственность художника за то, что показ этой рекламирующей потребление алкоголя пьесы пьесы может значительно увеличить опасность алконаркотических отравлений.
Почему бы Вырыпаеву не написать пьесу об антиалкогольных бунтах,которые происходили в России? Тогда массы людей отказывались сами от алкоголя и другим не позволяли пить. Организовывались даже трезвенные патрули у кабаков,которые не допускали пьяных.
Или Вырыпаев не поинтересовался генезисом Трезвого движения на территории Российской империи? Он не знает,что инициатором массового трезвенного движения стал литовский католический священник, который был вдохновлён Папой Римским Пием IX?
Только издевательством над католичеством и христианской Трезвостью следует назвать присутствие в спектакле эпизода с несуществующим католическим священником.
Участники трезвенного движения обретают истину, освобождая своё сознание от алкогольной зависимости, а не напиваясь «в стельку».
То есть, подход Вырыпаева к проблеме алкоголизации совершенно антинаучный.
...
В случае театрального искусства роль «слепых» муравьёв должны исполнить честные театральные критики. Ведь и Гомер был слепым, но создал «Илиаду» и «Одиссею»…
...
Занимаясь с 2000 года вопросами профилактики наркомании и алкоголизма знаю, что у дьявола две руки: в одной он держит героин, а в другой водку.
Слышал истории разрушения судеб из-за наркотиков, алкоголя. И всегда только полная Трезвость помогала выбираться из тупиковых ситуаций.
Алкоголь это сильнодействующий наркотик,убивающий клетки головного мозга.
Необходимо бороться одновременно и с наркотизацией, и с алкоголизацией России, так как ежегодно от наркотиков умирает сто тысяч человек.
Вырыпаев, видимо, сам «культурно» пьющий человек, поэтому и пишет такие тексты. Это же следует сказать и об Андрее Могучем. «Культурно» пьющих людей не бывает, как не бывает «культурно» употребляющих наркотики.
Уверен, что при Георгии Товстоногове такие спектакли были бы невозможны.
Русский классический театр это театр Трезвости.
Могучему должно быть стыдно, что он пропагандирует пьянство со сцены, на которой выступали гении нашей театральной культуры.
Основы российского Трезвого движения были заложены Ф.М.Достоевским и Л.Н.Толстым. Толстой организовал общество «Согласие против пьянства», написал несколько обличающих потребление алкоголя текстов.
И это в Санкт-Петербурге, который славен именно трезвенными традициями, в городе, в котором императором Николаем II был подписан Сухой Закон, где воссияли выдающиеся народные просвятители: М.О.Меньшиков, Г.Е.Распутин, отец Александр Рождественский, отец Иоанн Кронштадтский, Братец Чуриков… А после победы в Великой Отечественной Войне, вклад в которую детей Сухого Закона был огромен, именно в нашем городе работали митрополит Иоанн Снычёв, академик Ф.Г.Углов, учёный Г.А.Шичко.
Санкт-Петербург это Мировая столица Трезвости, которая является мессианской идеей России как Третьего Рима и должна спасти европейскую цивилизацию.
Думаю, что не случайно появление спектакля «Пьяные» именно сейчас, когда постепенно в городе пробуждается и развивается трезвенное движение, проходят православные Кроёстные ходы.
Лично в руки на III Санкт-Петербургском Международном Культурном форуме на Новой сцене Александринки передал Андрею Могучему газету «Свободная Страна», которая рассказывает о жизни Ребцентров, о Доме Надежды на Горе, о движении анонимных алкоголиков. Но Могучий не посчитал возможным поездить по Ребцентрам,поговорить с реабилитантами, выслушать их истории.
...
Русский классический театр это театр Трезвости и для трезвых зрителей. Вспоминаю, что во время трёхсотлетнего юбилея Санкт-Петербурга в пресс-центре была встреча с Олегом Табаковым. Поднял из предпоследнего ряда свою руку и, к моему удивлению, маститый режиссёр выбрал именно меня. Вопрос касался именно Трезвости в театральной жизни. Олег Павлович ответил обстоятельно и отослал меня к письмам Станиславского, в которых он требует от актёров и актрис трезвого образа жизни. Табаков рассказал присутствовавшим,что уволил в своё время из театра за нарушения режима Олега Даля.
Могучий, видимо, плохо штудировал К.С.Станиславского, потому что не осознал Трезвость как основу народной классической культуры России.
В своё время внимательно изучил книгу с записями репетиций Г.А.Товстоногова, в которой приводится и стенограмма подготовки спектакля по пьесе Александра Вампилова "Двадцать минут с ангелом". Видно, что Георгий Александрович огромное значение придавал достоверности и реалистичности картин похмельного ада у действующих лиц. Очевидно, что "Пьяные" Вырыпаева и Могучего не соответствует тем канонам разговора о трагичной современной проблеме,которые были заложены Г.А.Товстоноговым в спектакле "Двадцать минут с ангелом".
Классическим традициям БДТ соответствуют "Двадцать минут с ангелом" и "Отпуск в сентябре" Александра Вампилова, а не "Пьяные" Вырыпаева. Именно классические пьесы Вампилова следовало ставить Могучему.
Необходимы сплочённые усилия трезвенного и патриотического движения Санкт-Петербурга, чтобы противостоять развенчанию классических традиций Русского театра, включая исключение из репертуара БДТ пьесы Вырыпаева «Пьяные». Возможно,следует обратиться к Губернатору Санкт-Петербурга, в Комитет по культурной политике, к Министру культуры В.Р.Мединскому.
Театр России имеет огромный потенциал, но хватит его добивать антинародными пьесами и постановками.
Человек, неспособный жить без наркотика, неизбежно становится рабом того, кто наркотиком торгует. А это рабство более жестокое и унизительное, чем на строительстве пирамид или в ГУЛАГе. Ведь наркомафия - тоже своего рода государство (только очень примитивное), тоже аппарат насилия, тоже эксплуататор. И его раб сам снимет с себя последнее, предаст лучшего друга, обворует родную мать - ради чьей свободы? Не своей, а того человекоподобного существа, преступника, которое на противоположном конце товарно-денежной цепочки будет покупать виллы, яхты и лимузины. Транснациональными наркобаронами создано на просторах Евразии теневое рабовладельческое государство в государстве, по сути параллельная власть, весьма схожее по сути и эффективности своей работы с рабовладельческими государствами Египта и концлагерями ГУЛАГа, в которых уничтожаются сначала духовно, а потом и физически миллионы молодых людей. "Торговля рабами была просто милосердной по сравнению с торговлей опиумом, - признавал английский экономист Р.Монтгомери Мартин в 1847 г. - Мы не разрушали организм африканских негров, ибо наш интерес требовал сохранения их жизни... А продавец опиума убивает тело после того, как развратил, унизил и опустошил нравственное существо".
Нарковойна и наркоцид: это реальность современной России. Наркотики: враг общества №1.
И театр не может оставаться в стороне от этого вызова.
Медиагруппа Трезвый Петроград. Русский ВатиканЪ
Отправил письмо Мединскому, интернет-приёмная ответила.
Спасибо! Ваш вопрос отправлен в отдел по работе с обращениями граждан Министерства культуры.
http://proza.ru/2015/12/09/2000
БОРЬБА ЗА НАРОДНУЮ ТРЕЗВОСТЬ
Выводы, которые были сделаны Постоянной Комиссией по вопросу об алкоголизме, состоящей при Русском обществе охранения народного здравия, в 1914 году:
“1. Алкоголь, по природе своей вещество наркотическое, как в чистом виде, так и в различных разведениях (водка, пиво, вино) проявляет неизменно свое ядовитое действие на живой организм, действуя в конце-концов парализующим образом на все его клетки и ткани, в особенности же на наиболее живые и деятельные из них (нервную систему, половые клетки и пр.).
2. Как вещество ядовитое алкоголь ни в каком разведении не может быть причислен к укрепляющим или питательным продуктам и вообще не должен считаться в каком-либо отношении необходимым или полезным для нормального организма.
3. Многочисленными строго научными опытами и наблюдениями установлено, что все отправления организма (питание, рост, размножение, физическая и умственная работа, самозащита от болезней или неблагоприятных физических влияний) протекают лучше при полной трезвости и, наоборот, даже так называемое умеренное потребление спиртных изделий ослабляюще влияет как на отдельные организмы, так и на все общество, усиливая болезненность, смертность, преступность, наклонность к самоубийствам, бедность, недовольство жизнью и прочие отрицательные явления.
4. Ни теоретически, ни практически невозможно указать предельную дозу алкоголя или степень его разведения, которая была бы для организма безвредною, а потому - вне специальных врачебных назначений - никакие алкогольные препараты и спиртные изделия не могут быть рекомендованы ни отдельным людям, ни обществу.
5. Если у известного лица сказывается как бы потребность в алкогольных изделиях, то это указывает на образовавшиеся недочеты в его физической или душевной жизни. Поощрение такой “потребности” является особенно рискованным и опасным”.
(Н. Коломаров “Теперь или никогда!”, Петроград, 1915 г., с.59-60)
ПОМЕНЯТЬ КОРАБЛИК НА ПЕТУШКА
Важно для укрепления иммунитета перенести памятник чижику-пыжику с набережной Фонтанки, так как с его переносом Петербург, по моему расчёту, покинет чума 21 века, коронавирус.
Устанавливает Беглов памятник драматургу Володину, написавшему сценарий кинофильма "Осенний марафон", но какое это имеет отношение к охране города от коронавируса?
Тем более, что, как известно в фильме фигурируют сцены употребления спиртного.
Лучше бы деньги налогоплательщиков передать на демонтаж скульптуры чижика-пыжика, перенос её в Ленобласть.
Тем более, что, как я выяснил в результате расследования, чижик-пыжик даже не входит в Музейный фонд России.
На кого можно поменять чижика-пыжика?
Вариантов много: Малец Питерский, Кот учёный Пушкина, Золотой Петушок...
У возглавляемого мной оперштаба ещё есть идеи для охраны горожан от эпидемии короны.
Главная из которых: ВРЕМЕННО поменять кораблик на шпиле Адмиралтейства на Золотого петушка.
...
В славянской мифологии именно петух является символом солнца и солнечных богов Даждьбога и Ярилы. Он их встречает и знаменует своим криком приход света в этот мир! Кроме этого, петух имеет красный гребешок на своей голове, и поэтому его ещё считают не только тотемом, но и проявлением Царя-Огнебожича. Так как от солнца и от засушливой погоды часто возникают пожары, в народе петух был ещё и символом огня. Этот яркий тотем всегда был почитаем на Руси и значим в понимании победы света над тьмой.
Считается, что вся нечисть с пением петуха покидает явный мир и уходит в навье царство. Поэтому петух был уважаем и почитаем не только за то, что он был напрямую связан с солнцем. В честь его тотемных заслуг его часто помещали на флигеля домов.
Замена кораблика на петушка на шпиле Адмиралтейства, движение шаг за шагом к учреждению агломерации Петербурга и Кудрово, являются стержневыми идеями моей 2-й президентской избирательной кампании 2024 года в РФ.
http://proza.ru/2022/09/09/1584
О ВОДЕВИЛЕ
Водевиль (фр. vaudeville) — комедийная пьеса с песнями-куплетами и танцами, а также жанр драматического искусства.
Название появилось в XVII веке как контаминация двух песенных жанров.
В конце XV века появились песни, называемые val de Vire — буквально «Вирская долина» (Вир — река в Нормандии). Их приписывали легендарным народным поэтам Оливье Басселену и Ле-Гу. Это были одноголосные песни локального нормандского содержания. В XVI веке они получили распространение и за пределами Нормандии.
В XVI веке в Париже развиваются voix de ville («голоса города»), строфические песни преимущественно любовного содержания.
В XVII веке возникают городские простонародные песни сатирического содержания, исполнявшиеся с несложным инструментальным сопровождением или без него. Они получили гибридное название vaudeville.
Во второй половине XVII столетия во Франции появились небольшие театральные пьески, вводившие по ходу действия эти песенки и от них и сами получившие название «водевиль».
Вначале водевиль называли песенки в ярмарочных комедиях первой половины XVIII века. Как самостоятельный театральный жанр водевиль сложился в годы Великой французской революции и вскоре получил общеевропейское распространение.
Франция
В 1792 году в Париже был основан Театр водевиля, давший название многим театральным площадкам Европы.
Из французских водевилистов особенной популярностью в России пользовались Скриб и Лабиш.
Интересно, что французские сборники водевилей XVIII—XIX веков назывались «шансонье».
В США и Канаде, 1880-е—1930-е
Водевиль называют «сердцем американского шоу-бизнеса», — он был одним из самых популярных видов развлечений в Северной Америке на протяжении нескольких десятилетий. С начала 1880-х и до 1930-х годов в Соединённых Штатах и Канаде «водевилем» именуются театрально-эстрадные представления (мюзик-холльного и циркового рода). Каждый подобный спектакль был набором отдельных, не связанных никакой общей идеей выступлений самых разножанровых актёров: популярных и классических музыкантов, танцоров, дрессировщиков, фокусников, акробатов, жонглёров, юмористов, артистов-имитаторов, мастеров бурлеска, — включал номера «инсценированной песни», скетчи и сценки из популярных пьес, показательные выступления спортсменов, менестрелей, чтение лекций, демонстрацию всевозможных знаменитостей, «фриков» и «уродцев», а также — показ фильмов.
В России прототипом водевиля была небольшая комическая опера конца XVIII века, удержавшаяся в репертуаре русского театра и к началу XIX века[источник не указан 1405 дней]. Сюда можно отнести произведения «Сбитенщик» и «Несчастье от кареты» Княжнина, «Опекун-Профессор» Николаева, «Мнимые вдовцы» Левшина, «С.-Петербургский Гостиный двор» Матинского, «Кофейница» Крылова и др.
Особый успех имела опера А. О. Аблесимова «Мельник — колдун, обманщик и сват» (1779). «Сия пьеса, — говорит „Драматический словарь“ 1787 года, — столько возбудила внимания от публики, что много раз сряду играна… Не только от национальных слушана, но и иностранцы любопытствовали довольно».
В пушкинском «Нулине» определение водевиля ассоциируется ещё с понятием арии, оперы:
«… Хотите ли послушать
Прелестный водевиль?» и граф
Поёт…
Следующий этап развития водевиля — «маленькая комедия с музыкой», как его определяет Булгарин. Этот водевиль получил особое распространение приблизительно с 20-х годов XIX века. Типичными образчиками такого водевиля Булгарин считает «Казака-стихотворца» и «Ломоносова» Шаховского.
«Казак-стихотворец, — пишет в своих „Записках“ Филипп Вигель, — особенно примечателен тем, что первый выступил на сцену под настоящим именем водевиль. От него потянулась эта нескончаемая цепь сих лёгких произведений».
Среди дворянско-гвардейской молодёжи начала XIX века считалось признаком «хорошего тона» сочинить водевиль для бенефиса того или иного актёра или актрисы. И для бенефицианта это было выгодно, ибо подразумевало и некоторую «пропаганду» со стороны автора за предстоящий бенефисный сборник. Позже даже Некрасов «согрешил» несколькими водевилями под псевдонимом Н. Перепельский («Шила в мешке не утаишь, девушку в мешке не удержишь», «Феоклист Онуфриевич Боб, или муж не в своей тарелке», «Вот что значит влюбиться в актрису», «Актёр» и «Бабушкины попугаи» (по другим источникам, автором последнего водевиля был Н. И. Хмельницкий).
Обычно водевили переводились с французского языка. «Переделка на русские нравы» французских водевилей ограничивалась в основном заменой французских имён русскими. Н. В. Гоголь в 1835 году заносит в свою записную книгу: «Но что же теперь вышло, когда настоящий русский, да ещё несколько суровый и отличающийся своеобразной национальностью характер, с своей тяжёлою фигурою, начал подделываться под шарканье петиметра, и наш тучный, но сметливый и умный купец с широкою бородою, не знающий на ноге своей ничего, кроме тяжёлого сапога, надел бы вместо него узенький башмачок и чулки ; jour, a другую, ещё лучше, оставил бы в сапоге и стал бы в первую пару во французскую кадриль. А ведь почти то же наши национальные водевили».
Так же суров приговор Белинского о русских водевилях: «Во-первых, они в основном суть переделки французских водевилей, следовательно, куплеты, остроты, смешные положения, завязка и развязка — все готово, умейте только воспользоваться. И что же выходит? Эта лёгкость, естественность, живость, которые невольно увлекали и тешили наше воображение во французском водевиле, эта острота, эти милые глупости, это кокетство таланта, эта игра ума, эти гримасы фантазии, словом, все это исчезает в русской копии, а остаётся одна тяжеловатость, неловкость, неестественность, натянутость, два-три каламбура, два-три экивока, и больше ничего».
Стряпали светские театралы водевиль обычно по весьма простому рецепту. О нём рассказывал ещё грибоедовский Репетилов («Горе от ума»):
«…вшестером, глядь — водевильчик
слепят,
Другие шестеро на музыку кладут,
Другие хлопают, когда его дают…»
Есть указания на то, что Пушкин, идя навстречу просьбам некоторых друзей, отдавал дань обычаю тогдашних великосветских денди, хотя с несомненностью тексты пушкинских водевильных куплетов не установлены.
Обычно водевильные стихи были таковы, что при всей снисходительности их можно назвать только рифмоплётством.
Увлечение водевилем было поистине огромным. За октябрь 1840 года в петербургском Александринском театре было поставлено всего 25 спектаклей, из которых почти в каждом, кроме основной пьесы, было ещё по одному-два водевиля, но десять спектаклей были сверх того составлены исключительно из водевилей.
Проникновение в Россию в конце 1860-х годов из Франции оперетты ослабило увлечение водевилем, тем более, что в оперетте широко практиковались и всякие политические экспромты (разумеется в пределах весьма бдительной цензуры), отсебятины и особенно злободневные (в том же водевильном типе) куплеты. Без таких куплетов оперетта тогда не мыслилась. Но тем не менее водевиль ещё достаточно долго сохраняется в репертуаре русского театра. Его заметное увядание начинается лишь с восьмидесятых годов XIX века. Однако и в этот период были созданы блестящие образцы жанра водевиля — в частности, пьесы-шутки А. П. Чехова «О вреде табака», «Медведь», «Предложение», «Свадьба», «Юбилей».
В этот же период (конец XIX — начало XX века) водевиль занимает большое место в национальной драматургии других народов, населявших Российскую империю, в частности украинской и белорусской — «Где колбаса да чара, там забудется свара», «По-модному» М. П. Старицкого, «К мировому» Л. И. Глибова, «По ревизии», «Залеты сотского Мусия», «За сиротою и бог с калитою», «Нашествие варваров» М. Л. Кропивницкого, «На первую гулянку» С. В. Васильченко, «По Мюллеру», «Морока», «Патриоты» А. Олеся, «Пинская шляхта» В. Дунина-Мартинкевича и др.
КАБАРЕ
#Берлинскаяречь #Прекраснаяэпоха Кабаре (фр. Cabaret) — обычно небольшое развлекательное заведение с художественной программой пародийно-сатирического содержания, которая состоит из исполнения песен (шансон), одноактных пьес, скетчей, танцевальных номеров, объединённых выступлениями конферансье. Публика размещается за столиками, на которые подают блюда и спиртные напитки.
Хронологически возникновение и становление искусства кабаре относят к периоду европейской истории, получившему название «Прекрасная эпоха» (фр. La Belle Epoque) — условное обозначение времени от семидесятых годов XIX века до начала Первой мировой войны в 1914 году.
Кабаре имеет французское происхождение. В некоторой мере к возникновению кабаре во Франции причастен и Луи Наполеон, который, став императором Франции в 1852 году, запретил распевать традиционные песни шансон в общественных местах: на ярмарочных площадях и многолюдных улицах городов. Новым убежищем для шансонье стали кафе-шантан или кафе-кабаре (фр. cafe-cabaret).
Первое кабаре «Чёрный кот» (Le Chat noir) было основано в 1881 году Родольфом Салисом на улице Монмартр в Париже. Родольф Салис приглашал для выступлений в своем кабаре профессиональных, талантливых поэтов и музыкантов, что сделало его кабаре чрезвычайно популярным. В последующие годы подобные кабаре возникли не только в Париже, но и по всей Франции. Особо можно отметить кабаре «Тростниковая флейта» (фр. Mirliton) Аристида Брюана, в котором черпал своё вдохновение знаменитый художник Тулуз-Лотрек.
В 1901 году открывается первое немецкое кабаре в Берлине. Теоретиком основания кабаре в Германии стал Отто Юлиус Бирбаум. Открыл же первое кабаре «Buntes Theater» или же «Ueberbrettl» барон Эрих Людвиг фон Вольцоген (нем. Erich Ludwig Freiherr von Wolzogen).
Известные кабаре в конце XIX — начале XX столетия появились также в Австро-Венгрии, Испании, Канаде, Нидерландах, Польше, Соединённых Штатах Америки, Швейцарии. Несколько позже европейских стран — кабаре как культурный феномен появились в Аргентине, Египте, на Кубе, в Мексике и ряде других государств. Культура Франции несомненно повлияла на возникновение подобных жанровых развлекательных заведений в этих странах и имела характер либо внешнего копирования, либо, — значительно чаще, — творческой переработки в русле национальных традиций или вкусов хозяина заведения.
СТРАНА НЕГОДЯЕВ
Произведение «Страна негодяев» Сергея Александровича Есенина.
Отрывок
Замарашкин
Слушай, Чекистов!..
С каких это пор
Ты стал иностранец?
Я знаю, что ты
Настоящий жид.
Фамилия твоя Лейбман,
И черт с тобой, что ты жил
За границей…
Все равно в Могилеве твой дом.
Чекистов
Ха-ха!
Ты обозвал меня жидом?
Нет, Замарашкин!
Я гражданин из Веймара
И приехал сюда не как еврей,
А как обладающий даром
Укрощать дураков и зверей.
Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысячи лет,
Потому что…
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет.
Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы Божие…
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.
Ха-ха!
Что скажешь, Замарашкин?
Ну?
Или тебе обидно,
Что ругают твою страну?
Бедный! Бедный Замарашкин…
Поэма завершена в 1923 году. Её автору исполнилось 28 лет, вместе с женой,танцовщицей Айседорой Дункан он, по сути, находится в гастрольном туре, в том числе, по городам США. Поэт готовит к печати сборники «Стихи скандалиста» и «Москва кабацкая». Летом этого же года он уже читает фрагменты поэмы на литературном вечере в Политехническом музее. Осенью он разрывает отношения и с А. Дункан, и с имажинистами. В жанровом отношении – драматическая поэма, фарс, сатира, как в кривом зеркале, в ней отражается шекспировский «Гамлет». Даже зачин одинаков: смена караула. Однако события сверхсовременные: Гражданская война, борьба с бандитизмом, НЭП. Двойственность главных героев, комиссаров Чекистова и Рассветова, бандита Номаха (по сути, Нестор Махно, внешне – сам поэт-хулиган), рабочего-добровольца Замарашкина. В сущности, все сходятся на том, что России нужна «стальная клизма», даже почти Робин Гуд (на словах, по крайней мере) Номах – и тот мечтает половить рыбку в мутной воде, затеять бунт против большевиков. Кстати, оба комиссара жили в Европе и США, а теперь, как вороны, слетелись на труп империи. «Говорящие» фамилии даны несколько в лоб, топорно.
Та же двойственность присуща и самому поэту в ту пору. Как однажды он сказал критику А. Воронскому: «я за советскую власть, но я люблю Русь». В речах персонажей и его собственные мысли, он видит основу для перекройки страны в совместных усилиях пусть не прекраснодушных, но, как ему кажется, людях дела. «Я только всему свидетель»: эти слова Замарашкина могут считаться и авторской позицией. Сюжет поэмы прост: комиссары охраняют поезд с золотом, который грабит Номах. Начинается погоня. Финал открытый, Номах все еще на свободе. Реалии тех лет: недовольство крестьян поборами, людоедство, гнилая селедка – как основа рациона, бывшие люди (дворяне), браунинг, спирт, кокаин, опий, китайские коммунисты. Лексика то возвышенная (в монологах, к примеру, о Гамлете), то грубая, бранная (черт с тобой), есть и советский новояз. Речь героев выразительна, афористична. Скажем, лексика кабатчицы в разговоре с дворянами (голубчик, сокол, знатные-с, сударь) или акцент китайца. Эпитеты: адским, проклятой. Повторы: черви, год. Сравнения: как курам, как плаха, как сука. Метафоры: красные волки, мире немытом. Идиомы (в том числе, переиначенные): язык на полке, человеку рабочему клок. Экспрессия частиц: ну и, что за. Инверсия: стоял рев. Звукопись. Рифмовка смешанная, часто перекрестная, неточная, местами оппозиционная («расстрел-цел», «воры-договоры», «стране-резне»). В некоторых отрывках чувствуется влияние В. Маяковского, отражены и американские впечатления (о «мировой бирже», шаржированные словечки «plis», «bisnes men»). Название поэмы можно отнести и к стране, и к людям, взявшим власть (когда «противны и те, и эти»), и к эпохе, времени. В этом контексте важна и фраза «страна негодует на нас». Мотив вьюги, необходимости идти на ощупь, наугад (в прямом и переносном смысле). Образ Петра Великого, давно ставший литературным.
Полностью «Страна негодяев» С. Есенина была опубликована уже после смерти поэта.
https://rustih.ru/sergej-esenin-strana-negodyaev
Есенин развил традицию «говорящих» фамилий в русской драме, используя подчёркнутую этимологию имён как выразительное средство, ключ к их характеристике: Рассветов, Замарашкин, Чекистов, Чарин. Дворянам Щербатову и Платову дал широко распространенные дворянские фамилии (см. Унбегаун Б. О. Русские фамилии. Пер. с англ. М., 1989, с. 348). Если говорить о трёх основных персонажах — Рассветове, Чекистове и Номахе, то здесь подразумеваются определённые прототипы, причём фамилии персонажей отличаются от фамилий прототипов и в чём-то сходны с ними. Есенин сделал это, чтобы имя персонажа помогало узнать прототип и одновременно для того, чтобы «увести читателя от прототипа, с именем которого, однако, автор не может расстаться» (подробнее о принципах выбора имени персонажа см. в кн. В. А. Никонова «Имя и общество», М., 1974, с. 233–245).
Чекистов — этимологически фамилия (псевдоним) восходит к аббревиатуре ЧК (Чрезвычайная комиссия) и используется как метафора, характеризующая героя. Кроме того, Замарашкин напоминает настоящую фамилию этого действующего лица — «Лейбман» и называет его «жидом». На основании этого, а также сходных биографических фактов («в Могилеве твой дом», «гражданин из Веймара») ряд исследователей считают прототипом комиссара Чекистова — Троцкого (Бронштейна) Льва (Лейбу) Давидовича (1879–1940) (см., например, Куняев Ст. и Куняев С. Сергей Есенин, с. 265), хотя образ Чекистова имеет, скорее, собирательный характер.
Номах — именем этого героя Есенин хотел озаглавить поэму, когда готовил к печати третий том своего Собр. ст. Редактор Собрания И. В. Евдокимов вспоминал о подготовке к печати третьего тома: «Остановились над поэмой „Страна негодяев“. Есенин перелистал ее, быстро зачеркнул заглавие и красным карандашом написал: „Номах“.
— Это что? — спросил я.
— Понимаешь, надо переменить заглавие. Номах это Махно. И Чекистов, ты говорил, я согласен с тобой, выдуманная фамилия. Я переменю. И вообще я в корректуре кое-что исправлю.
— А мне жалко названия „Страна негодяев“, — сказал я. — „Номах“ очень искусственно.
Впоследствии он опять восстановил название „Страна негодяев“» (Восп., 2, 291–292).
Номах — перевернутая в слогах фамилия Махно. Но значение этого образа гораздо шире, и Номах не во всем совпадает с реальным прототипом. Об этом говорит прежде всего тот факт, что зимой 1921–1922 гг. (время действия поэмы, которое обозначено в первой публикации монолога Рассветова) Махно уже находился в Румынии. Кроме того, Махно появляется в поэме и под своей действительной фамилией в словах Чарина: «И кого упрекнуть нам можно? // Кто сумеет закрыть окно, // Чтоб не видеть, как свора острожная // И крестьянство так любят Махно?».
Есенин использует также свое портретное сходство с героем и прототипом: Махно — блондин с синими ясными глазами (см. описание, данное секретарем Л. Б. Каменева в журн. «Пролетарская революция», М., 1925, № 6 (41), с. 136). На основании этого сходства образ Номаха неправомерно трактуется как автобиографический (см., напр., Переяслов «Н. Блондин. Среднего роста. 28-лет...» — Газ. «Лит. Россия», М., 1995, 21 июля, № 31, с. 10). Ряд учёных, прежде всего Г. Маквей, считают, что Есенин «эмоционально и интуитивно сочувствует крестьянскому бунтарю Номаху» (IE, 177). Некоторые исследователи расшифровывают имя Номах как анаграмму Монаха, деревенского прозвища молодого Есенина (см.: Мекш Э. Б. Сюжетно-жанровые искания Есенина 1921–1925 гг. — Сб. «Сюжет и художественная система», Даугавпилс, 1983, с. 100–111; Никё М. Поэт тишины и буйства. — Журн. «Звезда», СПб., 1995, № 9, с. 126).
...
Есенин создал оригинальное произведение, в котором развил традиции Пушкина и Шекспира и учёл положения пушкинской статьи «О народной драме и драме „Марфа Посадница“» (1830): «занимательность действия», «истина страстей», «правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах», «вольность суждений площади» и «грубая откровенность народных страстей» (Пушкин, VII, 211–221, см. цитаты из этого «манифеста» о драме: Мейерхольд В., Бебутов В., Державин К. О драматургии и культуре театра. — ВТ, 1921, № 87–88, 5 апр., с. 3). У Шекспира Есенин ценил также то, что больше всего ценил у него Пушкин — «достоинства большой народности» (Пушкин А. С. О народности в литературе. — Пушкин, VII, 39).
...
Характер исполнения белового автографа «Страны Негодяев» (см. выше, с. 541–542) также показывает, как ценил сам автор эту поэму, какое придавал ей значение.
Есенин охотно выступал с чтением «Страны Негодяев» во время зарубежной поездки и по приезде в Россию. 1 июня 1922 г. в Берлине (Блютнерзал) состоялся нашумевший литературный вечер под названием «Нам хочется Вам нежно сказать» (название почти дословно повторяет строку из стихотворения Есенина «Исповедь хулигана» — ноябрь
1920), который называли также «Вечером четырех негодяев» («негодяи» — А. Н. Толстой, С. А. Есенин, А. Б. Кусиков и А. Ветлугин; см. воспоминания Г. Д. Гребенщикова 1926 г. — РЗЕ, 1, 99). «Оригинальная программа» этого вечера была опубликована в нескольких номерах Нак. (см. напр., 1922, 25 мая, № 49).
...
В отличие от корреспондента Нак., который отметил, что публика «восторженно приветствовала гениального крестьянина в дурно сшитом смокинге и огненного черкеса и едкого кандидата прав», Т. Варшер писала о «скучающей публике» и «усердно аплодирующей руками в белых перчатках» Айседоре Дункан (1922, 10 июня, № 127).
...
У Есенина представлена своего рода «мышеловка» наизнанку: театрализованное представление с переодеванием устраивает тот, кого хотят поймать в мышеловку — Номах переодевается китайцем и уходит от преследователей, а золото, за которым охотится агент ЧК, уносит повстанец Барсук, переодевшийся в костюм стекольщика.
rvb.ru/20vek/esenin/pss7/vol3/notes/205.html
Поэма "Чёрный человек" ilibrary.ru/text/1296/p.1/index.html
Моя задача как исследователя это разоблачение штампов и фейков, касающихся русского народа.
Это произведение "Чёрный человек" перешло в общественное достояние. Произведение написано автором, умершим более семидесяти лет назад, и опубликовано прижизненно, либо посмертно, но с момента публикации также прошло более семидесяти лет. Оно может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.
Также автора этих строк заинтересовало мнение Прилепина о причинах смерти Есенина в "Англетере", беглый просмотр после вопроса в поисковике показал следующую картину.
"Поэтому я в книге "Есенин" просто взял и разобрал все эти бесконечные “версии” его убийства, показывая их полную абсурдность просто с точки зрения здравого смысла".
Кроме того, Есенин не только тонкий лирик, но и автор масштабных революционных поэм «Пугачёв» и «Страна негодяев», которые, как ни странно, так или иначе связаны с проблемами Донбасса и всего там происходящего.
В Петербурге состоялась презентация книги «Есенин» широко известного сегодня литератора Захара Прилепина. ... Словом, никаких вразумительных объяснений этих важнейших свидетельств возможного убийства Прилепин не приводит.
Писатель, заместитель худрука МХАТа им. Горького Захар Прилепин рассказал в беседе с NEWS.ru, что убило Сергея Есенина (1895–1925). Он заявил, что в уходе поэта из жизни виноваты не большевики, не алкоголизм и не женщины, одну из которых — танцовщицу Айседору Дункан — Прилепин считает причастной к тому, что Есенин увлёкся чрезмерным употреблением спиртного, а некая заданность судьбы.
"Нет, никакие большевики его, конечно, не убивали".
По мнению Прилепина, на психическом состоянии поэта сильно сказалось знакомство с Айседорой Дункан. Американская танцовщица имела безграничный доступ к алкогольным напиткам. Есенин, всегда «нацеленный на трагедию», стремительно спился, что и привело к ожидаемому финалу.
Захар Прилепин в штыки воспринял главную версию фильма об убийстве поэта. Писатель посвятил четыре довольно агрессивных поста, в которых доказывает, что версия об убийстве Есенина – ложная, а режиссёр использует её ради зрелищности и кассы:
- Мне пишут в комментариях к двум постам о предстоящем фильме про попытку побега Есенина в Финляндию и последующее убийство поэта чекистами, чтоб я написал режиссёру - Климу Шепенко (примечание: ошибка в фамилии режиссёра, которую делает Прилепин).
Рассказываю. Ещё полгода назад, когда появились первые новости о том, что такой фильм готовятся снимать, я тут же попросил помощников написать Климу: так, мол, и так, я Захар Прилепин, я двадцать лет занимаюсь Есениным, я прочитал всю основную литературу о нём, и все версии его смерти, я все их самым подробным образом изучил, рассмотрел и расписал в деталях в своей книге. И я готов выступать вашим консультантом на совершенно безвозмездной основе. Чтоб вы не совершили обидных ошибок.
Мне в ответ Клим сообщает (цитирую по памяти, но письмо это есть): Захар, я вашу книгу прочитал, в целом, подозреваю, что вы правы, но снимать буду про убийство.
Собственно, это всё".
Достоверную информацию об обстоятельствах и планировании убийства Есенина можно найти в книге Виктора Кузнецова "Есенин. Тайна смерти. Казнь после убийства".
МАРТОВСКИЕ ИДЫ
15 марта 44 года до н. э. был убит Гай Юлий Цезарь в результате заговора
Группа сенаторов во главе с Брутом и Кассием опасалась власти Цезаря и возможности того, что он может провозгласить себя царём.
Цезарь не подготовил себе преемника, и его гибель привела к новому витку гражданской войны.
—
Гай Юлий Цезарь (12 июля 100 года до н. э. — 15 марта 44 года до н. э.) — древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель. Своим завоеванием Галлии Цезарь расширил римскую державу до берегов северной Атлантики и подчинил римскому влиянию территорию современной Франции, а также начал вторжение на Британские острова.
В начале 49 года до н. э. начал гражданскую войну из-за разногласий с сенаторами. За четыре года сторонники сената, сгруппировавшиеся вокруг Помпея, были разбиты Цезарем в Италии, Испании (дважды), Греции и Африке, также им были разбиты войска правителей Египта и Понта.
Добившись полной победы над противниками, сконцентрировал в своих руках власть консула и чрезвычайные полномочия диктатора, провёл ряд реформ во всех сферах жизни общества.
Помимо политической и военной деятельности, Цезарь известен и как литератор. Из-за простоты и ясности стиля, его сочинения считаются классикой древнеримской литературы и используются при обучении латыни.
«Юлий Цезарь» (англ. Julius Caesar) — трагедия Шекспира (1599), изображающая заговор против Юлия Цезаря и его убийство; в ней действует также большое количество исторических персонажей того времени. В пьесе Брут присоединяется к заговору Кассия с целью убить Юлия Цезаря, чтобы он не стал тираном. Правая рука Цезаря Антоний разжигает вражду против заговорщиков, и Рим оказывается втянут в драматическую гражданскую войну.
Хотя заглавный персонаж — Цезарь, он не играет большой роли в пьесе, появляется всего несколько раз и гибнет в начале 3 акта. Центральная фигура (и самая длинная роль) — главный заговорщик Брут, в котором борются такие чувства, как честь, патриотизм и дружба. Среди знаменитых цитат из трагедии — предсмертные слова Цезаря «Et tu, Brute» («И ты, Брут?») (в античных источниках они звучат иначе и возникли ещё у английских предшественников Шекспира), а также монолог Антония «Friends, Romans, countrymen, lend me your ears…» — речь на похоронах Цезаря.
Единственным известным источником Шекспира были «Сравнительные жизнеописания» Плутарха в английском переводе Томаса Норта (текст издавался в 1579 и 1595 гг., причём переводился не с греческого оригинала, а с французского издания Ж. Амио). Шекспир повторяет ряд ошибок перевода Норта. Кроме того, в пьесе довольно много анахронизмов. Герои носят шляпы и дублеты, а также используют часы с боем, не существовавшие в Древнем Риме.
Непосредственным продолжением «Юлия Цезаря» является трагедия «Антоний и Клеопатра».
Пьеса начинается с двух трибунов, видящих, как простые римляне празднуют триумфальное возвращение Юлия Цезаря после победы над сыновьями его военного соперника Помпея. Трибуны, оскорбляя римлян за перемену лояльности от Помпея к Цезарю, пытаются положить конец празднеству и разогнать простолюдинов, отвечающих им на оскорбления. Во время праздника Луперкалий Цезарь проводит победный парад, и прорицатель предупреждает его: «Берегись мартовских ид», но тот игнорирует эти слова. Тем временем Кассий пытается убедить Брута присоединиться к заговору с целью убить Цезаря. Хотя дружественный Цезарю Брут и не решается убить его, он соглашается, что Цезарь несколько злоупотребляет своей властью. Затем они узнают от Каски, что Марк Антоний трижды предлагал Цезарю римскую корону. Каска говорит им, что всякий раз Цезарь отказывался от неё со всё возрастающим нежеланием, надеясь, что наблюдающая толпа будет настаивать на принятии короны. Он описывает, как толпа аплодировала Цезарю за отказ от короны, и как это расстроило Цезаря. Накануне мартовских ид заговорщики встречаются и раскрывают факт подделки писем поддержки от римского народа для того чтобы соблазнить Брута присоединиться к ним. Брут читает письма и после долгих нравственных сомнений решает присоединиться к заговору, полагая, что Цезаря следует убить, чтобы тот не сделал ничего против народа Рима, если когда-либо он будет коронован.
Проигнорировав прорицателя, а также предчувствия своей жены Кальпурнии, Цезарь отправляется в Сенат. Заговорщики обращаются к нему с подложной петицией от имени изгнанного брата Метелла Цимбра. Поскольку Цезарь ожидаемо отклоняет петицию, Каска и другие внезапно наносят ему удар ножом; Брут последний. В этот момент Цезарь произносит знаменитую фразу «Et tu, Brute?». ("И ты, Брут?", т.е. «Ты тоже, Брут?»), заканчивая «Тогда умри, Цезарь!» (Then fall, Caesar!).
Заговорщики дают ясно понять, что совершили убийство на благо Рима, для того чтобы помешать самодержцу. Они доказывают это тем, что не пытаются скрыться с места происшествия. Брут произносит речь в защиту своих действий, и в текущий момент римляне на его стороне. Однако Антоний произносит тонкую и красноречивую речь над трупом Цезаря...
Так он ловко настраивает общественное мнение против убийц, манипулируя эмоциями простых людей, в отличие от рационального тона речи Брута, однако в его риторической речи и жестах есть методичность: он напоминает им о том добре, которое Цезарь принёс Риму, его симпатии к бедным и его отказе от короны во время Луперкалий, тем самым поставив под сомнение притязания Брута на амбиции Цезаря; он показывает римлянам окровавленное безжизненное тело Цезаря, дабы они пролили слёзы и посочувствовали павшему герою; и он читает завещание Цезаря, по которому каждый римский гражданин должен получить 75 драхм. Антоний, даже заявляя о своих намерениях против этого, поднимает римлян для изгнания заговорщиков из Рима. Посреди насилия и беспорядков невинного поэта Цинну путают с заговорщиком Луцием Цинной, и он попадает в плен к римлянам, которые и убивают его за такие «оскорбления» (offenses), как его плохие стихи.
Затем Брут нападает на Кассия за то, что тот якобы запятнал благородный акт цареубийства, принимая взятки.
В битве при Филиппах Кассий и Брут, зная, что они, вероятно, оба умрут, улыбаются друг другу последней улыбкой и держатся за руки. Во время битвы Кассий приказал слуге убить его, узнав о пленении лучшего друга Титиния. После того, как Титиний, который на самом деле не был схвачен, видит труп Кассия, он совершает самоубийство. Однако Брут побеждает на этом этапе, однако его победа не является окончательной. На следующий день Брут вновь сражается с тяжёлым сердцем. Он просит друзей убить его, но друзья отказываются. Он проигрывает и совершает самоубийство, падая на собственный меч, который держит для него верный солдат.
Пьеса заканчивается данью уважения Антония – Бруту, он говорит, что Брут остался «благороднейшим из всех римлянином», потому что он был единственным заговорщиком, который действовал на благо Рима. Затем появляется небольшой намёк на трения между Антонием и Октавием, характерные для другой римской пьесы Шекспира, «Антоний и Клеопатра».
Основным источником пьесы является перевод Томасом Нортом «Жизнеописаний» Плутарха.
«Юлий Цезарь» был первоначально опубликован в Первом фолио 1623 г., однако Томас Платтер Младший упомянул в своём дневнике про представление в сентябре 1599 г. Пьеса не упоминается в числе шекспировских пьес, опубликованном Фрэнсисом Мересом в 1598 г. Основываясь на двух этих моментах, а также на ряде современных указаний и предположению, что пьеса похожа на «Гамлета» по словарному запасу и на «Генриха V» и «Как вам это понравится» по стихотворному размеру, учёные-шекспироведы предложили считать 1599 г. временем вероятной публикации.
Текст Юлия Цезаря в Первом фолио – это единственный авторитетный текст пьесы. Текст фолио отличается качеством и последовательностью; учёные считают, что он был набран из театрального сборника театральных подсказок.
В пьесе много анахроничных элементов елизаветинской эпохи. Персонажи упоминают предметы типа дублетов (большие тяжелые куртки), которых не было в Древнем Риме. Упоминается, что Цезарь был одет в елизаветинский камзол вместо римской тоги. В какой-то момент слышно, как бьют часы, и Брут отмечает это словами «Считай часы».
На основе Википедии
Записки о Галльской войне (лат. Commentarii de Bello Gallico) — сочинение Гая Юлия Цезаря, в восьми книгах которого он в присущей ему точной, сжатой и энергичной манере описал своё завоевание Галлии в 58–50 гг. до н. э., а также две переправы через Рейн и высадку в Британии.
Точная дата написания неизвестна. Последнюю книгу после смерти Цезаря дописал Авл Гирций, предпослав ей своё послание Бальбу. Цезарь ведёт повествование в третьем лице, упоминая бесценные географические и этнографические свойства Галлии, Германии и Британии (например, наиболее подробное описание друидов).
В Древнем Риме сочинение Цезаря считалось образцом лаконичной, суховатой аттической прозы, оказав решающее влияние на становление стиля Тацита и ряда других историков. Традиционно является первым произведением классической латыни, которое читают на уроках этого языка (в элементарном курсе древнегреческого подобное место занимает «Анабасис» Ксенофонта).
Авл Ги;рций (лат. Aulus Hirtius; умер 21 апреля 43 года до н. э. под Мутиной) — римский военачальник и политический деятель, консул 43 года до н. э., писатель. Со времён завоевания Галлии был одним из ближайших доверенных лиц Гая Юлия Цезаря. Во время гражданской войны участвовал в нескольких кампаниях, управлял провинцией Трансальпийская Галлия. Заранее был назначен консулом на 43 год до н. э. После убийства Цезаря в марте 44 года до н. э. Гирций выступал за примирение противоборствующих группировок, но постепенно склонялся к союзу с республиканцами и сенатским большинством. Во время консулата возглавил вместе с Октавианом и своим коллегой Гаем Вибием Пансой армию сената, действовавшую против Марка Антония в рамках Мутинской войны. Одержал победу при Галльском форуме, но в сражении под Мутиной погиб.
Близкие отношения связывали Гирция с Марком Туллием Цицероном, который учил его ораторскому искусству. Гирций является автором памфлета «Антикатон» (не сохранился) и последней книги «Записок о Галльской войне», основная часть которых написана Цезарем.
Первые упоминания об Авле Гирции в сохранившихся источниках относятся ко второй половине 50-х годов до н. э. В период между 54 и 52 годами до н. э., а потом в 51/50 году до н. э. Авл находился в Галлии, в окружении Гая Юлия Цезаря. В связи с этим он никогда не упоминается как военачальник; предположительно он возглавлял канцелярию проконсула, будучи его ближайшим доверенным лицом и другом. Об уровне доверия говорит тот факт, что именно Гирций в декабре 50 года до н. э. был отправлен в Рим, чтобы предпринять последнюю попытку избежать гражданской войны между Цезарем и Гнеем Помпеем Великим. Он должен был встретиться с последним, но накануне встречи без предупреждения и извинений уехал из Рима. Это означало, что война неизбежна.
Известно, что в апреле 49 года до н. э. Гирций находился вместе с Цезарем на пути в Испанию, а в 47 году до н. э. — в Антиохии. Таким образом, он участвовал в испанском походе и войне с Фарнаком Понтийским, а вот в египетской и африканской кампаниях, по его собственному признанию, не участвовал. Существует гипотеза (не общепринятая), что в 48 году до н. э. Гирций занимал должность народного трибуна. В 46 году до н. э. он совершенно точно был претором и, по-видимому, в этом качестве выдвинул по поручению Цезаря законопроект об ограничении политических прав помпеянцев, получивших прощение. Эта инициатива стала законом.
После претуры Гирций был наместником Трансальпийской Галлии. Известно, что он был провозглашён императором в связи с победой над германцами (возможно, эта победа была одержана кем-то из его легатов). Между претурой и наместничеством (то есть между 31 декабря 46 года до н. э. и 18 апреля 45 года до н. э.) Гирций успел принять участие во втором испанском походе Цезаря; один из источников Светония сообщает, будто именно в Испании предложил Гирцию свою невинность юный Гай Октавий (впоследствии Октавиан Август), но это могло произойти только после войны.
Цезарь наградил Гирция за преданность членством в жреческой коллегии авгуров(предположительно с 45 года до н. э.) и консулатом на 43 год до н. э.
Википедия
В ПЕТЕРБУРГЕ
Понимаю, конечно, что творческая конкуренция предполагает известную полемичность, конфликтность, но всё же призвал бы коллег по театральному Петербургу к корректности. Не секрет, что существующие творческие разногласия между нашим народным театром и камерным музыкальным театром, который возглавляет Погребенко, являются производными диалектичного сосуществования двух стихий: антрепризного и репертуарного театров. Твёрдо отстаиваю необходимость для петербурга имеено репертуарного театра, тем не менее, оставляю выбор за зрителями, в конечном счёте именно их выбор является решающим. Хотят они смотреть лёгкий жанр, водевили, оперетты, что же пусть смотрят, у такого сорта театральной продукции есть свой зритель. Не хотел бы, чтобы творческая полемика с Погребенко воспринималась как диалог Бивиса и Батхеда, предлагаю, что называется, на время "прекратить дуэли" и присоединиться музыкальному театру Погребенко к инициативе "Театр против ковида" нашего уличного театра, в рамках которой автор этих строк готов сыграть роль Председателя Вальсингама в постановке "Пира во время чумы" в труппе, составленной из актёров разных театров, на Дворцовой площади.
Публикация в официальном паблике театра Погребенко.
Наш ответ многоНЕуважаемому господину Отброскову ...
Лёгкость и тепло:
ценности водевиля в современной жизни
Да, водевиль есть вещь, а прочее всё гиль..
А.С.Грибоедов
Цитата Грибоедова — не просто характеристика жанров, а истинное лицо его взгляда на искусство, культуру и человеческую душу.
Это — глубокое философское высказывание, в котором заложено его отношение к природе искусства, ценностям человеческой культуры и внутренним духовным ориентирам.
В ней содержится критика претенциозных, поверхностных и пустых проявлений творчества, а также утверждение ценности искренних, простых и доступных форм искусства, способных тронуть сердце каждого человека. Чтобы понять всю глубину и актуальность этой фразы, важно рассмотреть её в историческом и культурном контексте, а также проследить, как эти идеи актуальны в современную эпоху.
Александр Сергеевич Грибоедов жил и творил в начале XIX века, когда Россия переживала эпоху поиска национальной идентичности, становления культуры и театра. В то время жанр водевиля был очень популярен, он представлял собой лёгкие, сатирические сценки с юмором и иронией. Эти спектакли были доступны массовой аудитории, они дарили людям возможность отвлечься, посмеяться и почувствовать единство.
В начале XIX века Россия переживала эпоху просветительских идей, борьбы за развитие образования, культуры и умудрённых форм народного творчества. Вскоре после победы над Наполеоном в 1812 году, — страна искала свои новые ценности, ориентиры и способы самовыражения.
В то время жанр водевиля приобрёл популярность. Он представлял собой лёгкие сатирические сценки, наполненные юмором, иронией и легкой сатирой. Эти спектакли были доступны широкой публике — они быстро распространялись, создавались для развлечения народа, они were яркие, эмоциональные, живые и доступны каждому. Это были простые, доступные формы, способные вызвать улыбки, посмеяться над недостатками человеческой натуры и разрешить людям отвлечься от повседневных забот.
Водевиль как раз и символизировал связь народной культуры с искусством, его ценность заключалась в искренности, простоте и доступности.
Водевиль — это несложная форма развлечения, он рождает улыбки, смех и тепло души. Он понятен всем — и взрослым, и детям, потому что основан на жизненных ситуациях и человеческих порывах. В отличие от сложных драм или теорий, водевиль достигает сердца.
Это жанр сатирический, позволяющий высмеять недостатки общества, остро подмечая мелочи и недостатки человеческой натуры. Именно через смех и юмор происходит очищение и осознание.
Водевиль — это праздник, возможность почувствовать искренние эмоции, забыть о проблемах и суете.
Это праздник души, возможность забыть о проблемах и сложностях, почувствовать искренние эмоции, теплоту и светлые чувства. Водевиль даёт человеку энергию, вдохновение, он способен сделать жизнь ярче и насыщеннее.
Противопоставляя водевиль «прочему», Грибоедов говорит о ценности простых истин, искренних чувств, душевной честности, которые часто исчезали в сложных и претенциозных формах искусства. В его понимании, истинное искусство — это то, что «вещь», способное тронуть сердце, дать радость и объединить людей.
Под «прочим» Грибоедов, скорее всего, подразумевал сложные, претенциозные постановки, которые зачастую не вызывают искренних чувств. Они могут быть академичными, «умными», но лишенными душевной теплоты. Чаще всего они предназначены только для иллюзии интеллектуальной превосходствы.
Многие театральные постановки того времени, как и сейчас, создаются по образцам академической строгости и претензий на глубокий смысл. Однако, как показывает практика, зачастую они лишены живого чувства, искренности и человеческого тепла.
Грибоедов критиковал именно такие формы, считая их «гилью» — пустой, бездушной лепниной, которая не способна трогать сердце.
Многие современные формы искусства, в отличие от водевиля, теряют связь с человеческими чувствами, превращаются в формы «показухи» или сложных технических эффектов. Это — «гиль», потому что не дают настоящего отклика в сердце зрителя.
Они превращаются просто в шоу, технические постановки или интеллектуальные игры, которые не вызывают настоящего отклика и не наполняют сердце теплом и живым
Многие развлечения и обсуждения, претендующие на «высокое», зачастую бывают поверхностными и беззубыми, они не несут пользы, не помогают развиваться и не радуют душу.
Часто «высокое искусство» создаётся как маска для пустоты, претендующее на глубокий смысл, который зачастую оказывается не более чем иллюзией, за которой скрывается бедность идей и душевной жизни. Люди начинают считать такие постановки «лучшей культурой», в то время как они на самом деле созданы ради показухи и внешнего вида.
В настоящее время — это может быть избыточное использование спецэффектов, псевдосложных сценариев, бездушные шоу, поверхностные диалоги, претендующие на высокое, однако не вызывающие внутренних переживаний, — это всё и есть «гиль». Всё это лишено искренности и духовной ценности, оставаясь лишь шумной оболочкой.
Настоящее искусство — это несложная форма выражения, в которой чувствуется искренность и душевное тепло. Водевиль создается из любви к людям и к жизни.
Водевиль — это форма, созданная из любви к людям, к жизни. Он честный, он наполнен искренними чувствами, он служит объединению и радости.
Этот жанр пропитан чувственностью — смехом, радостью и теплотой. Он способен вдохновлять, наполнять сердце светом и оживлять душу.
Истинное искусство помогает соединить сердце художника и зрителя, стимулирует сопереживание и понимание, способствует духовному развитию людей.
В современном мире, где развлечения таят в себе зачастую поверхностность и пустоту, Грибоедов напоминает нам о необходимости ценить искренние проявления искусства. Само понятие «водевиль» актуально как символ честности и простоты.
В эпоху современных технологий, быстрого обмена информацией, глобализации и перенасыщения контентом очень важно помнить и ценить именно искренние проявления культуры. В этом контексте, идея о «водевиле» как о символе честности и простоты становится особенно актуальной.
Обычно, то, что вызывает настоящий отклик и оставляет след в душе — это не всё «изысканное» и претенциозное, а простое, честное и теплое.
Современные формы развлечений часто — это только картинки, спецэффекты и звуки, которые заполняют визуальное и звуковое пространство, но не задействуют сердце зрителя. Грибоедов напоминает нам, что настоящее искусство — это то, что способно вызвать внутренний отклик, изменить внутренний мир человека.
Важно научиться отличать истинное искусство от ширпотреба, понимать, что действительно ценно — это не только эффект, но и духовное содержание.
В эпоху интернета и быстрого обмена информацией важно помнить: настоящее искусство — это то, что способно вызвать у человека настоящие чувства, изменить его внутренний мир.
Грибоедов учит нас, что ценности должны быть простыми и честными. В противном случае, всё остальное — «гиль», лишённое смысла, пустое и вредное.
Цитата «Да, водевиль есть вещь, а прочее всё гиль» — это не только характеристика театральных жанров, но и философское предостережение о важности искренности в жизни, о ценности честных чувств, простоты и душевности.
Водевиль — это вещь, потому что он способен объединять людей, радовать их и вдохновлять. Всё остальное — «гиль», лишенное настоящего смысла и тепла, — лишь иллюзия.
Цитата Грибоедова — это не только суждение о жанрах, но и философский урок о человеке и искусстве. В ней говорится о важности искренности, простоты и эмоционального контакта. .
Эта мысль помогает понять, что в нашей жизни важны искренность, честность и простота.
Именно они — фундамент настоящего счастья, истинной культуры и духовной наполненности. В эпоху цифровых технологий, когда обилие информации и развлечений может увести человека в поверхностность, эта цитата напоминает нам о необходимости ценить тепло, сердце и душевность во всём.
7 мая 2025 года
НА СМЕРТЬ АТАМАНА
Не готов согласиться с публично высказанным мнением Погребенко по поводу смерти атамана Калинина-Соколенко, всё же атаман выступал за перенос памятника чижику-пыжику с набережной реки Фонтанки куда-нибудь в район Зимней канавки.
Зимняя канавка — канал в Центральном районе Санкт-Петербурга, соединяющий Неву и Мойку в районе Зимнего дворца.
Вчера, 29 июня 2025 года, наш любимый и, без сомнения, самый неугомонный человек в Санкт-Петербурге — Александр Юрьевич Калинин-Соколенко — решил, что ему уже достаточно было бороться за справедливость, и, наверное, подумал: «А не пора ли мне отправиться в отпуск, где не нужно ни бороться, ни объяснять, ни слушать эти бесконечные споры». И, честно говоря, кто его винит? Может, сердце просто сказало: «Довольно, хватит, пора отдохнуть». Или, может, оно просто устало от того, что его постоянно используют как живой пример для всех, кто хочет быть казаком и политиком одновременно. Или, может, оно просто решило, что пора ему стать частью космического корабля, который отправляется на Марс, чтобы там наконец-то найти свою истинную казачью душу.
Александр Юрьевич был с 2010 года представителем МОПД «Единство» и «Союза Казаков России и Зарубежья» — то есть, он был таким казаком-экспертом по объединению людей, которые любят петь казачьи песни и одновременно спорить о том, кто больше любит петь казачьи песни. Настоящий мастер компромисса — или, как он любил говорить, «держать казачий пыл и политическую холодность в одном флаконе». И, честно говоря, он был единственным человеком, который мог убедить казаков, что политика — это не только битье в барабан, но и немного ума. А ещё он умел делать так, чтобы даже его тосты на казачьих вечеринках звучали как заклинания из древних книг — и при этом никто не понимал, почему все вдруг начинают танцевать с барабанами и кричать «Ура!».
Он был человеком, который мог объединить казаков, политиков и тех, кто просто хотел послушать его истории о том, как он чуть не стал президентом казачьего совета, но в итоге остался просто хорошим парнем с большим сердцем и ещё большим чувством юмора. И, знаете, его чувство юмора было настолько острым, что иногда казалось, что он шутит даже в своих мыслях — и это, пожалуй, было его секретным оружием. Он мог сказать что угодно, и все такие: «Ну, он же казак, у него же чувство юмора как у настоящего казака — острое и немного опасное». А ещё он однажды заявил, что собирается открыть казачий ресторан на Луне, потому что «там меньше бюрократии и больше космических казаков».
Данные организации выражают искренние соболезнования родным и близким Александра Юрьевича, а также всем, кто его знал, любил и, возможно, иногда даже боялся его остроумных замечаний. Светлая память о человеке, который мог сделать из любой политической дискуссии настоящее шоу — и при этом не потерять лицо, а скорее, оставить его где-то в углу, чтобы потом посмеяться над этим. Или, может быть, он просто решил, что пора ему стать космическим казаком и отправиться на поиски новых галактик, где его шутки будут восприниматься как священные заклинания.
Если хотите узнать больше, звоните его жене Анастасии Петровне Соколенко-Калининой по номеру ... Она знает всё — и умеет рассказывать так, что даже его самые дерзкие шутки кажутся трогательными. Или, по крайней мере, так она говорит, когда пьёт чай с космическими марсианами.
ТОВАРИЩ КАРАМОРА
#европа #россия #москва #петербург #театр #пирвовремячумы #председательвальсингам
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который обвинял актёра, собирается обратиться с жалобой на имя председателя Верховного суда
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Верховный суд России оставил без изменения решение нижестоящих инстанций, удовлетворивших иск актёра Данилы Козловского о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, который обвинял артиста в дискредитации армии. Об этом сообщили ТАСС в суде.
"Суд оставил решение без изменения", - сообщили в Верховном суде.
Ранее Бородин направлял в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации Вооружённых сил России, утверждая, что актёр уехал в США и высказывался против специальной военной операции. Сам Козловский опроверг эти сведения, заявив, что не покидал страну, не имеет второго гражданства и продолжает работать в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.
Суд первой инстанции частично удовлетворил иск актёра, обязав ответчика удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и выплатить Козловскому компенсацию в размере 1 рубля.
Бородин, чья жалоба теперь отклонена Верховным судом, заявил в своем Telegram-канале, что намерен обратиться с жалобой на имя председателя Верховного суда.Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который обвинял актёра, собирается обратиться с жалобой на имя председателя Верховного суда.
БАТУМ
Замысел историко-биографической пьесы о Сталине Булгаков обдумывал с
1935 года, когда в печати появились сведения о раннем периоде деятельности
Сталина в Закавказье и постоянных политических преследованиях со стороны
властей. 7 февраля 1936 года Е. С. Булгакова записала в своём дневнике:
"...Миша окончательно решил писать пьесу о Сталине" (ГБЛ, ф. 562, к. 28, ед.
хр. 25). В конце 1935 - начале 1936 года, когда несколько спала огромная
волна репрессий, связанных с "кировским" делом, в обществе и среди умеренной
части политического руководства страной ещё сохранялись надежды на
демократический поворот, и Сталин умело воспользовался этими ожиданиями,
возглавив новую Конституционную комиссию, с деятельностью которой были
связаны определённые демократические обещания сверху и напрасные иллюзии
снизу.
Летом 1936 года Н. И. Бухарин напечатал одну из своих последних
политических статей, в которой прозорливо заметил: "Сложная сеть
декоративного обмана (в словах и в действиях) составляет чрезвычайно
существенную черту фашистских режимов всех марок и оттенков" (Известия,
1936, 6 июля). Искусством декоративного обмана к середине 1930-х годов Сталин
овладел в совершенстве, и в расставленную им сеть запутались многие крупные
умы - не только внутри страны, но и в кругах прогрессивной общественности на
Западе.
18 февраля 1936 года Булгаков разговаривал с директором МХАТа и сказал,
что "единственная тема, которая его интересует для пьесы, это тема о
Сталине" (ГБЛ, ф. 562, к. 2, ед. хр. 25). Трудно сказать, какой именно сюжет
о вожде обдумывал тогда Булгаков, но его прежние исторические пьесы как раз
в это время были снова подвергнуты официальному осуждению. На сцене МХАТа
погибал "Мольер". В Театре сатиры в это время готовилась к выпуску новая
комедия Булгакова "Иван Васильевич", её ждала такая же печальная участь.
12 мая 1936 года Е. С. Булгакова записала, что Михаил Афанасьевич
"сидит над письмом к Сталину". Текст письма Булгакова к Сталину 1936 года
пока неизвестен; неясно, было ли это письмо дописано, отправлено или
уничтожено автором, но причины для нового обращения наверх у него были:
после исключения "Мольера" из репертуара МХАТа Булгаков решил уйти из
театра, в который он поступил благодаря личному вмешательству Сталина.
Теперь он должен был по крайней мере объяснить причины своего отказа от этой
милости, прежде чем перейти на предложенную штатную должность либреттиста в
Большой театр СССР.
Писать пьесу о Сталине в 1936 году Булгаков не стал. 1937 год также не
прибавил ни желания, ни возможности заняться вплотную этим замыслом. В
начале 1938 года Булгакова побудили взяться за новое письмо к Сталину уже не
личные дела, а чрезвычайные обстоятельства, связанные с судьбой его близкого
друга Н. Р. Эрдмана, репрессированного в 1934 году и отбывшего трёхлетнюю
ссылку в Сибири. В один из самых тяжёлых для страны моментов, незадолго до
открытого процесса над Бухариным и Рыковым, когда потрясённая террором
Москва окоченела от страха, Булгаков рискнул заступиться за друга перед
Сталиным. В письме к нему от 4 февраля 1938 года Булгаков просил, в
частности, о том, чтобы Эрдману "была дана возможность вернуться в Москву,
беспрепятственно трудиться в литературе, выйдя из состояния одиночества и
душевного угнетения".
Решающий толчок к возобновлению замысла пьесы о Сталине был дан визитом
друзей Булгакова из Художественного театра - П. А. Маркова и В. Я.
Виленкина, которые посетили Булгаковых 9 сентября 1938 года. На следующий
день Е. С. Булгакова записала в своём дневнике: "Пришли после десяти и
просидели до пяти утра. Вначале - убийственно трудный для них вечер. Они
пришли просить Мишу написать пьесу для МХАТа.
- Я никогда не пойду на это, мне это невыгодно делать, "Это опасно для
меня. Я знаю всё наперед, что произойдёт. Меня травят, - я даже знаю кто -
драматурги, журналисты... Потом Миша сказал им всё, что он думает о МХАТе в
отношении его, - все вины, все хамства. Прибавил - но теперь уже всё это
прошлое, я забыл и простил. Но писать не буду.
Всё это продолжалось не меньше двух часов. И когда около часу мы пошли
ужинать, Марков был чёрно - мрачен.
За ужином разговор как-то перешёл на обще-мхатовские темы, и тут
настроение у них поднялось. Дружно возмущались Егоровым.
А потом опять о пьесе.
"Театр гибнет - МХАТ, конечно. Пьесы нет. Театр показывает только
старый репертуар. Он умирает, и единственное, что может его спасти и
возродить, это современная замечательная пьеса; Марков это назвал "Бег" на
современную тему, т. е. в смысле значительности этой вещи - "самой любимой в
театре".
"И, конечно, такую пьесу может дать только Булгаков", - говорил долго,
волнуясь, по-видимому, искренно.
"Ты ведь хотел писать пьесу на тему о Сталине?". Миша ответил, что очень
трудно с материалами, нужны - а где достать?
Они предлагали и материалы достать через театр, и чтобы Немирович
написал письмо Иосифу Виссарионовичу с просьбой о материале.
Миша сказал, - это очень трудно, хотя многое мне уже мерещится из этой
пьесы. От письма Немировича отказался. Пока нет пьесы на столе, говорить и
просить не о чем" (ГБЛ, ф. 562, к. 28, ед. хр. 27, л. 5-6).
И в своих обращениях к Сталину, и в замысле пьесы о начале его
восхождения Булгаков исходил из факта, осознанного далеко не сразу и далеко
не всеми его современниками, что в лице Сталина сложился новый абсолютизм,
не менее полный, чем во времена Людовика XIV или Ивана Грозного, и, конечно,
гораздо более всевластный и всепроникающий, чем в старые феодальные времена.
По иронии истории этот факт, ещё в зародыше замеченный Лениным на пятом году
революции, в полной мере обнаружился через полтора десятка лет, к 20-летию
Октября. Демократическая конституция 1936 года в момент её провозглашения
оказалась лишь ширмой возродившегося через репрессии абсолютизма.
Выступая перед железнодорожниками Тифлиса в 1926 году, Сталин указал на
три "боевых крещенья", которые он прошёл в революции, прежде чем стал тем,
кто он есть: "От звания ученика (Тифлис), через звание подмастерья (Баку) к
званию одного из мастеров нашей революции (Ленинград) - вот какова,
товарищи, школа моего революционного ученичества" (Сталин И. В. Соч., т. 8.
М., 1948, с. 175).
Звание "одного из мастеров революции", за которым Сталин ещё в 1926
году должен был скрывать свои честолюбивые притязания на абсолютную и
безраздельную власть, уже через десять лет, к 1936 году, совершенно не
устраивало всевластного "вождя". Да оно и фактически не соответствовало
реальному положению диктатора, осуществившего после XVII съезда партии
необъявленный государственный переворот. Направленный против всех реальных и
потенциальных противников Сталина, которые, как и он, ещё совсем недавно
принадлежали к высшей партийно-государственной когорте "мастеров революции",
этот разгром старого ленинского ядра в партии и высшего комсостава Красной
Армии утвердил сталинскую диктатуру на многие годы.
Особенность сталинского "термидора" 1930-х годов заключалась в том, что
он был проведён "сверху" с помощью новой партийной бюрократии, поддержавшей
Сталина, и карательных органов ОГПУ-НКВД при нейтрализации армии, а затем и
прямом терроре против неё. Этот колоссальный по своим масштабам переворот
совершался под лозунгами укрепления диктатуры пролетариата и победы
социализма в СССР над его последними классовыми врагами. Он сопровождался
изощрённой социальной демагогией и прямым обманом всех слоев советского
общества снизу доверху.
Предложение от руководства МХАТа написать пьесу О Сталине, при всей его
рискованности, оставалось для Булгакова едва ли не единственной возможностью
вернуться к литературному труду на правах исполняемого драматурга и
публикуемого автора. Искушение было большим, но Булгаков не был бы
Булгаковым, если бы взялся исполнить этот заказ в качестве холодной платы за
отнятое у него право беспрепятственно трудиться и печататься. На пути
приспособленчества никакой удачи, даже чисто внешней, деловой, для него не
могло быть - это автор "Багрового острова" и "Мольера" понимал лучше, чем
кто-либо другой из его современников.
"В отношении к генсекретарю возможно только одно - правда, и
серьёзная", -утверждал Булгаков ещё в 1931 году в письме к В.В. Вересаеву. И
он остался на той же позиции в конце 1938 года, когда проблема литературного
изображения Сталина в качестве героя пьесы встала перед ним практически.
Решение Булгакова не было проявлением малодушия или обдуманной сделкой с
совестью, как это иногда пытаются доказать. Проблема всерьёз интересовала
его. Сталин был адресатом нескольких важнейших личных писем Булгакова; свой
единственный разговор с писателем по телефону в 1930 году Сталин, по словам
Булгакова, провёл "сильно, ясно, государственно и элегантно". Второго
обещанного разговора Булгаков так и не дождался до конца жизни. И стремление
разгадать психологию, завязку характера, а может быть, и тайну возвышения
Сталина не оставляло его в течение многих лет.
Интуиция драматурга подсказала Булгакову наименее стандартный выбор из
возможных в обстановке официальных восхвалений и сложившихся литературных
канонов изображения вождя. Обдумывая сюжет из биографии своего героя,
Булгаков обратился совсем не к тем временам, когда Иосиф Джугашвили стал уже
Иосифом Сталиным, заметной фигурой в партии большевиков, одним из
влиятельных политиков центрального большевистского штаба, - а затем и
единоличным хозяином нового государства.
Ограничив время действия своей пьесы ранним тифлисским и батумским
периодом из жизни Сталина (1898-1904), то есть периодом "ученичества" по его
собственному определению, Булгаков написал произведение о молодом
революционере начала века, об инакомыслящем, исключённом из духовной
семинарии за крамольные взгляды, об организаторе антиправительственной
демонстрации и политическом заключённом батумской тюрьмы, поднявшем бунт
против жестокостей тюремного режима.
Но почему же тогда именно этот человек, вознесённый на вершину
политической власти революционной волной, безжалостно устранив основных
соперников, обрёк на позорную смерть почти всех членов первого ленинского
правительства, взявшего в свои руки управление Советской Россией после
Октября 1917 года?
Почему жестокость советских тюрем и лагерей времен Ягоды, Ежова и Берии
превзошла всё, что знала история самодержавной России за многие времена,
начиная с Ивана Грозного и кончая Николаем II? Почему можно отправить в
Сибирь в политическую ссылку, сроком на три года отнюдь не политического
бунтовщика, каким был, например, в 1902 году Иосиф Джугашвили, известного
драматурга и литератора Николая Эрдмана, имевшего неосторожность сказать
нечто в присутствии осведомителей, при которых говорить что-либо вообще не
следует?
Эти и многие другие вопросы не вмещались в сюжет булгаковской пьесы о
молодом Сталине, но их с возрастающей непреложностью ставило то страшное
время, когда создавалась эта странная биографическая пьеса, предназначенная
для юбилейного спектакля МХАТа к 60-летию Сталина. Сюжет "Батума" оказался в
прямом соседстве с проблемами, о которых в конце 1930-х годов было очень
опасно говорить, но о которых нельзя было не думать.
Ответ самого Булгакова на опасные вопросы, невольно возникавшие при
знакомстве с мужественным арестантом батумской тюрьмы и удачливым беглецом
из сибирской ссылки, не лежал на поверхности пьесы, а был заключён в
конкретных подробностях воссозданной им драматической ситуации и в том
резком контрасте, который являли собой молодой Coco из Батума и сегодняшний
Сталин в Кремле.
16 января 1939 года Е. С. Булгакова отметила в дневнике: "Миша взялся
после долгого перерыва за пьесу о Сталине. Только что прочла первую (по
пьесе - вторую) картину. Понравилось ужасно! Все персонажи живые". Через
день, 18 января:
"И вчера и сегодня Миша пишет пьесу, выдумывает при этом и для будущих
картин положения, образы, изучает материалы" (ГБЛ, ф. 562, к. 28, ед. хр.
28).
В начале работы над рукописью у Булгакова быстро сложился основной план
всей пьесы: батумская демонстрация и её расстрел становится центральным
событием (картина шестая "Батума"), ему предшествуют обстоятельства
появления Сталина в Батуме в конце 1901 года, организация на основе рабочих
кружков Батумского социал-демократического комитета; пожар, а затем
забастовка на заводе Ротшильда, действия военного губернатора по подавлению
забастовки и аресту ее руководителей. Этот акт со стороны властей и привёл в
марте 1902 года к политическому возмущению батумских рабочих. Развитием
политической линии пьесы явились последующие картины ареста Сталина на
конспиративной квартире, сцены его пребывания в батумской тюрьме, где
вспыхивает бунт политических заключенных. Прологом этих событий стала
картина исключения ученика шестого класса Иосифа Джугашвили из духовной
семинарии в Тифлисе, относящаяся по времени к 1898 году, а эпилогом всей
хроники - возвращение Сталина в Батум зимой 1904 года после побега из
сибирской ссылки.
Первоначальное название пьесы - "Пастырь" - Булгаков почерпнул из
перечня партийных кличек Сталина, записанных в его рабочей тетради: Давид,
Коба, Нижерадзе, Чижиков, Иванович, Coco, Пастырь (под двумя последними
кличками Сталин как раз и работал в Батуме).
Один из вариантов названия пьесы, записанный в тетради рукою Е.С.
Булгаковой, - "Дело было в Батуме" - ближе всего к окончательному,
локальному названию "Батум". Это последнее, самое сдержанное, не заключает в
себе никакого оценочного момента и характеризует лишь время и место
действия, подчёркивая установку автора на строгую историческую достоверность
основного драматического происшествия.
В работе над сюжетом "Батума" Булгаков опирался на опыт своих прежних
историко-биографических пьес "Кабала святош" и "Александр Пушкин", при
создании которых он - широко использовал мемуарные свидетельства и
исторические документы. Для пьесы о Сталине требовалась не менее прочная
документальная основа, которой Булгаков, конечно, не располагал в
необходимом объёме. Тем не менее каждая картина пьесы основана на реальном,
исторически засвидетельствованном факте, а уже в рамках действительного
события создаётся вымышленная жанровая или политическая сцена, диалоги и
поступки лиц, раскрывающие смысл и характер события, его связь с
предшествующим и последующим звеном драматического действия.
Одним из важнейших документальных источников пьесы "Батум" стала
большая книга "Батумская демонстрация 1902 года", выпущенная в марте 1937
года Партиздатом ЦК ВКП(б) с предисловием Л. Берия.
Книга была издана в Москве молнией за рекордно короткий срок: сдана в
производство 10 марта, подписана к печати 15-17 марта, выпущена в свет 20
марта 1937 года. Совершенно очевиден культовый характер книги, имевшей своей
главной целью прославление Сталина и провозглашение его особо выдающейся
роли в организации рабочего движения на Кавказе. Как свидетельствует
экземпляр, сохранившийся в архиве Булгакова, он внимательнейшим образом
проработал книгу "Батумская демонстрация 1902 года" и оставил в ней
множество помет и подчёркиваний.
Первый раздел книги - "Ленинская "Искра" о революционном движении
батумских рабочих" - не содержит ни единого упоминания о Сталине, но дает
достаточно объективную хронику батумских событий с февраля по октябрь 1902
года. Здесь перепечатаны статьи и заметки "Искры" "Забастовка рабочих на
заводах Манташева и Ротшильда в Батуми", "Батумский процесс", "Годовщина
расстрела батумских рабочих" и др. В числе руководителей рабочих "Искра"
назвала Михаила Харимьянца и Теофила Гогиберидзе - оба они вошли в круг
действующих лиц пьесы "Батум".
Практически все действующие лица пьесы, представляющие администрацию
военного губернатора, жандармское отделение и военный гарнизон, брошенный
против забастовщиков, были взяты Булгаковым из хроникальных заметок "Искры".
В их числе: кутаисский военный генерал-губернатор Смагин (в списке
действующих лиц - военный губернатор), жандармский полковник Зейдлиц (у
Булгакова - Трейниц), полицеймейстер Ловен (в черновой редакции пьесы
действует под своей фамилией, в окончательном тексте - полицеймейстер),
переводчик Какива (у Булгакова - Кякива) и т. д.
Как один из участников и организаторов мартовской политической
демонстрации рабочих Батума, Сталин проходил по судебному процессу 1902 года
и был приговорён к ссылке в Восточную Сибирь на три года. Официальными
документами этого судебного политического процесса, кроме приговора,
Булгаков не располагал, и он мог опираться в данном случае лишь на
воспоминания и свидетельства немногих живых участников и очевидцев тех
далеких событий.
В распоряжении драматурга оказалось достаточно много подробностей и
свидетельств, взаимно дополнявших и корректировавших друг друга. Рабочие,
окружающие Сталина в пьесе "Батум", в большинстве случаев действуют под
своими собственными фамилиями и именами. Это прежде всего Сильвестр
Ломджария (в пьесе - Сильвестр), Порфирий Ломджария (в пьесе - Порфирий),
Михаил Габуния (в пьесе - Миха), Теофил Гогиберидзе (в пьесе - Теофил), Котэ
Каландаров (в пьесе - Котэ), Коция Канделаки (в пьесе - Канделаки),
Сильвестр Тодрия (в пьесе - Тодрия), Дариспан Дарахвелидзе (в пьесе -
Дариспан), Михаил Харимьянц (в пьесе - Хиримьянц), Наталья
Киртадзе-Сихарулидзе (в пьесе - Наташа).
Булгаков превратил основных мемуаристов из книги 1937 года в
действующих лиц своей пьесы, сохранив за ними те конкретные роли, которые
они играли в батумских событиях. По сути же драматург сочинил заново каждое
действующее лицо на основе реальных свидетельств, почерпнутых из их
сообщений. И при этом каждому эпизодическому персонажу из среды рабочих
отвел ровно столько места, сколько необходимо для развития действия пьесы и
конкретизации характера ее главного сквозного героя - молодого Сталина.
На мрачном фоне ежовщины, ужаснувшей людей конца 1930-х годов
масштабами подавления личности, Булгаков в пьесе "Батум" решился поставить
Сталина в положение бесправного политического заключённого, вступающего в
неравную борьбу против тюремного произвола и грубого (по меркам начала XX
века) злоупотребления властью, характерного для всякого полицейского
государства, а для русской самодержавной традиции в особенности.
Безупречное поведение "ученика революции" в этих обстоятельствах могло
бы послужить примером того, как надо отвечать на жестокость, насилие и
издевательство над достоинством человека со стороны репрессивной
государственной машины. Вопрос заключался в том, как будет воспринят и понят
прямой исторический урок тридцать пять лет спустя, когда социальные роли
переменились и бывший бесправный арестант, "узник совести", сам сосредоточил
в своих руках необъятную власть, заняв высшую точку громадной
партийно-государственной пирамиды.
При таком взгляде на единовластие в его старой, царистской, и новой,
псевдосоциалистической, форме в сюжете "Батума" можно обнаружить ещё один
пласт содержания, объективно заложенного в пьесе, но проясняющегося лишь на
контрасте "батумской" и "московской" эпох биографии Сталина. Этот контраст
обнаруживает, что Сталин был не только "учеником революции", тех батумских и
тифлисских рабочих, среди которых он проповедовал радикальные
антимонархические и большевистские взгляды, но прежде всего выучеником
репрессивного аппарата русского самодержавия, с которым он имел дело на
практике и от которого он усвоил на собственном опыте азы беззакония,
жестокости, провокаторства, нравственного цинизма, привычку полагаться в
борьбе с политическими и личными противниками только на беспощадную и грубую
силу.
Изучая книгу "Батумская демонстрация 1902 года", Булгаков обратил
внимание на одну существенную подробность, имеющую прямое отношение ко
времени действия его пьесы. Автор заметки "Организатор революционных боёв
батумских рабочих" Доментий Вадачкория, вспоминая о Сталине, сообщил
следующий факт: "Помню рассказ товарища Coco о его побеге из ссылки. Перед
побегом товарищ Coco сфабриковал удостоверение на имя агента при одном из
сибирских исправников. В поезде к нему пристал какой-то подозрительный
субъект-шпион. Чтобы избавиться от этого субъекта, товарищ Coco сошёл на
одной из станции, предъявил жандарму свое удостоверение и потребовал от него
арестовать эту "подозрительную" личность. Жандарм задержал этого субъекта, а
тем временем поезд отошёл, увозя товарища Coco..." (Батумская демонстрация
1902 года. М., 1937, с. 140).
Это поразительное сообщение в официальной книге 1937 года - к тому же
со слов самого Сталина! - наводило на далеко идущие размышления, и Булгаков
резко отчеркнул на полях это место красно-синим карандашом. Сообщение
нуждалось в проверке и всестороннем анализе.
Что же означало это признание, кроме восторга по поводу необыкновенной
находчивости товарища Coco, так ловко освободившегося от докучливого
внимания "подозрительной личности"?
А означало оно, что, пробыв в первой сибирской ссылке чуть больше
месяца, Сталин успешно бежал из неё в январе 1904 года с удостоверением
агента охранки одного из сибирских исправников.
Существенный вопрос заключается в том, был ли полицейский документ на
имя И. Джугашвили, лежавший в его кармане, действительно сфабрикован или это
был подлинный документ, который его владелец при необходимости мог
использовать в деле, нисколько не опасаясь возможного разоблачения?
Первая версия, что Сталин был лжеагент одного из сибирских исправников
и пользовался агентурным удостоверением, собственноручно сфабрикованным
(версия, открыто заявленная в официальном издании 1937 года Партиздата ЦК
ВКП(б)), наталкивается на серьёзную техническую преграду: как мог молодой
арестант из Батума, доставленный под военным конвоем в глухой сибирский
посёлок Иркутской губернии и находившийся под строгим надзором полиции,
"сфабриковать" секретнейший полицейский документ - личное агентурное
удостоверение на своё имя, тогда как каждый бланк такого удостоверения
находился на особом строгом счету и был доступен лишь для высших чинов
губернского жандармского управления?
Не вернее ли предположить, что, если молодой Сталин действительно
пускал в ход своё агентурное удостоверение и даже, пользуясь им, мог
отдавать приказы дежурным жандармам на железной дороге, то это удостоверение
было не "сфабрикованное", а настоящее, подлинное, которое в особых случаях
выдавалось арестантам, вступавшим в тайное соглашение с охранкой и
переходившим к ней на постоянную службу в качестве осведомителей.
Примеры такого перехода из революционного подполья в подполье
полицейское, увы, случались не раз. Эрозия политического провокаторства
глубоко проникала в революционные партии, достигая порой самых высших этажей
центрального руководства, - достаточно вспомнить фигуру Азефа среди эсеров
или Малиновского у большевиков, долго и "успешно" работавших на обе стороны
- и на революцию и на охранку.
Подозрения по поводу связей Сталина с царской охранкой не раз возникали
среди политкаторжан и высказывались в печати за рубежом - повод для
подозрений давали повторявшиеся и неизменно удачные побеги Сталина из ссылки
и крупные провалы подпольных организаций, с которыми он был связан. И всё же
прямых документов и доводов, подтверждающих подозрения такого рода,
недоставало.
С выходом книги "Батумская демонстрация 1902 года" версия о возможном
политическом провокаторстве Сталина, вопреки намерениям составителей этой
книги, получила новые косвенные подтверждения. Невозможно предположить, что
сообщение Д. Вадачкория о "сфабрикованном" агентурном удостоверении Сталина,
с которым он вернулся из ссылки, появилось в книге случайно, по авторскому
недомыслию или редакционной оплошности. Такого рода подробности из биографии
Сталина в советской печати 1937 года "случайно" не сообщались.
Сомнительная версия о "сфабрикованном" удостоверении И. Джугашвили,
ловко разыгравшего при побеге из ссылки роль тайного агента перед жандармом
на какой-то станции, понадобилась только для того, чтобы блокировать
повторявшиеся утверждения о действительном сотрудничестве Сталина с царской
охранкой.
Новейшие архивные разыскания проливают дополнительный свет на эту
сомнительную версию, выдвинутую в бериевском издании 1937 года, то есть
санкционированную Сталиным лично по немаловажным для него мотивам. Историк
3. Серебрякова обнаружила в фонде Серго Орджоникидзе в Центральном партийном
архиве ИМЛ при ЦК КПСС копию донесения о том, что "Коба" (подпольная кличка
Сталина) обменялся с секретной агентурой охранного отделения сведениями о
последних событиях партийной жизни. Оригинал этого же документа,
относящегося к 1912 году, указывает на особые отношения Сталина с
большевиком-провокатором Малиновским. Документ этот много десятилетий
пролежал в Центральном государственном архиве Октябрьской революции. По
заключению 3. Серебряковой, этот документ, который "каким-то чудом
сохранился и ныне обнаружен, да ещё в двух архивных фондах, и даже частично
опубликован... даёт основание считать доказанной связь Сталина с царской
охранкой" (Серебрякова З. Сталин и царская охранка. - Совершенно секретно,
1990, э 7, с. 21).
Доказательства связи относятся к 1912 году-времени депутатства
Малиновского в IV Государственной думе от большевистской
социал-демократической фракции. Однако начало связи с охранкой восходит,
очевидно, к более раннему, "батумскому" этапу биографии Сталина, когда он с
удостоверением от сибирского исправника первый раз и вполне успешно бежал из
иркутской ссылки с помощью своих настоящих покровителей.
При изучении книги "Батумская демонстрация 1902 года" этот эпизод попал
в поле зрения Булгакова и вызвал его обострённое внимание, но в тексте пьесы
версия бериевского издания опущена, а сам факт побега Сталина из ссылки
попадает на внесценическую часть действия, в паузу между последней, девятой
картиной (перевод из кутаисской тюрьмы) и эпилогом - неожиданным появлением
Сталина в Батуме после побега.
Хотел Булгаков того или нет, но в фокусе его пьесы оказалась одна из
самых загадочных и непроясненных страниц биографии молодого Сталина-история
"пастыря" до грехопадения; из кутаисской тюрьмы в Батумский замок, а затем в
ссылку уходит в последнем действии пьесы один человек, а в эпилоге
появляется уже другой, и никто не может точно сказать, какой моральной ценой
оплачено его возвращение. Одного этого точного "попадания" в тёмное место
сталинской биографии было совершенно достаточно, чтобы запретить исполнение
пьесы в театре без каких-либо официальных разъяснений причин такого запрета.
Но даже и независимо от того, кому служил молодой Сталин в подполье, истоки
политической традиции, им воспринятой, достаточно выпукло представлены в
центральных картинах последней булгаковской пьесы.
Сталин обнаружил необыкновенную восприимчивость к практическим урокам
жандармского полковника Трейница, заучив до конца своих дней основные приёмы
борьбы за власть и использования завоеванной власти, без которых не может
существовать никакая самодержавно-государственная пирамида. А как способный
и мстительный ученик, он пошёл неизмеримо дальше своих невольных учителей из
состава военной, жандармской, гражданской и духовной администрации царской
России.
Его символическая угроза Трейницу в конце восьмой, "тюремной", картины
- это, как доказала история, угроза удесятерённого контроля
социализированной государственной машины над жизнью и смертью каждого
человека. Это угроза такого чудовищного разрастания личной власти диктатора,
соединившего в одних руках все функции "диктатуры пролетариата", по
сравнению с которой вся прежняя система царской военно-полицейской власти в
лице карателя батумских рабочих ротного капитана Антадзе, тюремных
надзирателей, начальника кутаисской тюрьмы, полицеймейстера, жандармского
полковника Трейница, губернатора, министра юстиции и, наконец, самого царя
Николая II, подписавшего приговор о трёхлетней ссылке Джугашвили в Сибирь, -
это лишь жалкая фикция абсолютизма, растерявшего свои главные атрибуты и уже
не способного предотвратить своё собственное падение.
Бросив вызов одряхлевшей системе власти, Сталин возродил затем в
гиперболических формах самые худшие её качества. Генетические истоки этого
феномена русской истории, ставшего явным к концу 1930-х годов, представлены
в "Батуме" в лицах и положениях с полной отчётливостью, пусть даже и в
сочувственном духе по отношению к молодому бунтарю.
11 июня 1939 года пьесу Булгакова слушали братья Эрдманы, художник и
драматург, их мнение было для автора особенно важным. "Пришла домой, - пишет
Е. С. Булгакова, - Борис Эрдман сидит с Мишей, а потом подошёл и Николай
Робертович. Миша прочитал им три картины и рассказал всю пьесу. Они считают,
что удача грандиозная. Нравится форма вещи, нравится роль героя" (ГБЛ, ф.
562, к. 28, ед. хр. 25).
В течение месяца, до 12 июля 1939 года, были переписаны с переделками и
новыми подробностями вторая, третья и шестая картины пьесы. Вместе с первой
редакцией эпилога (картина десятая), где Сталин внезапно, после побега из
ссылки, снова возвращается в дом Сильвестра, эти переписанные заново картины
перешли во вторую рукописную тетрадь пьесы "Батум".
В дневнике Е. С. Булгаковой 12 июля 1939 года сделана краткая запись:
"Чтение в Комитете". Чтение состоялось накануне, 11 июля, в узком кругу, в
присутствии председателя ^ Комитета по делам искусств М.Б. Храпченко и
нескольких человек из МХАТа. Читать Булгакову пришлось по тетрадям,
перепечатать пьесу набело к этому дню он не успел. Булгаков писал 14 июля
1939 года В. Я. Виленкину:
"Результаты этого чтения в Комитете могу признать, по-видимому, не
рискуя ошибиться, благоприятными (вполне)."
После чтения Григорий Михайлович (Г. М. Калишьян, исполняющий
обязанности директора МХАТа. - А. Н.) просил меня ускорить работу по правке
и переписке настолько, чтобы сдать пьесу МХАТу непременно к 1-му августа. А
сегодня (у нас было свидание) он просил перенести срок сдачи на 25 июля. У
меня осталось 10 дней очень усиленной работы. Надеюсь, что, при полном
напряжении сил, 25-го вручу ему пьесу... Устав, отодвигаю тетрадь, думаю -
какова будет участь пьесы. На нее положено много труда" (Воспоминания о
Михаиле Булгакове, с. 303-304).
24 июля 1939 года пьеса "Батум" была перепечатана набело и представлена
в МХАТ. В театре началась интенсивная подготовительная работа к спектаклю.
14 августа Булгаков вместе с небольшой постановочной группой выехал в Грузию
для изучения материалов на месте, в Батуми и Кутаиси. Однако уже через
несколько часов специальной телеграммой мхатовская бригада была возвращена в
Москву. Булгаков вместе с Еленой Сергеевной сошли с поезда в Туле и
вернулись в Москву на случайной машине. С этого дня писатель тяжело заболел
и уже не смог оправиться от удара до самой смерти.
По указанию из секретариата Сталина вся работа над постановкой "Батума"
была прекращена. Никаких специальных разъяснений в связи с этим неожиданным
запретом не последовало. По свидетельству Е. С. Булгаковой, 10 октября 1939
года. посетив МХАТ, Сталин в разговоре с В. И. Немировичем-Данченко обронил
загадочную фразу, что пьесу "Батум" он считает очень хорошей, но что её
нельзя ставить. Иначе говоря, при всех литературных достоинствах пьесы,
Сталин не считал её постановку сколько-нибудь полезной для себя. Он уловил в
содержании "Батума" опасный для себя элемент иронии истории, не замеченный и
не оцененный другими читателями и слушателями этой добросовестной юбилейной
пьесы.
При жизни Булгакова пьеса "Батум" не публиковалась и не исполнялась на
сцене.
Впервые напечатана за рубежом в сб.: Неизданный Булгаков. Под ред. Э.
Проффер. Анн-Арбор, 1977, с. 137-210. Эта первопубликация осуществлена по
дефектной копии, без указания архивных источников и содержит многочисленные
искажения и ошибки в тексте,
Первая публикация в СССР - журн. "Современная драматургия", 1988, э 5,
с. 220-243 (вступ. статья М. Чудаковой).
В архиве Булгакова сохранилась черновая рукопись пьесы под названием
"Пастырь", начатая 10 сентября 1938 года и законченная в январе 1939-го
(ГБЛ, ф. 562, к. 14, ед.хр.7, 8).
В июле 1939 года Булгаков закончил работу над текстом рукописи. Вся
пьеса с существенными поправками, сокращениями и дополнениями была
перепечатана под диктовку автора набело. Этот экземпляр машинописи может
рассматриваться как основной авторский экземпляр пьесы "Батум", аутентичный
официальным экземплярам, переданным в дирекцию МХАТа и в Главрепертком.
В настоящем томе "Батум" печатается по этому экземпляру (ГБЛ, ф. 562,
к. 14, ед. хр. 9), сверенному с машинописными копиями пьесы, имеющимися в
Музее МХАТа и ЦГАЛИ.
Собр. соч. в 5 т. Т.3. Пьесы. М.: Худож. лит., 1992.
OCR Гуцев В.Н.
Пьеса в четырех действиях
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Сталин.
Ректор семинарии.
Инспектор семинарии.
Одноклассник Сталина.
Варсонофий, служитель.
Сильвестр, рабочий.
Наташа, его дочь.
Порфирий, его сын.
Миха \
Теофил |
Канделаки |
Геронтий |
Дариспан } рабочие
Климов |
Котэ |
Хиримьянц |
Тодрия /
Приказчик с завода.
Военный губернатор.
Адъютант губернатора.
Трейниц, жандармский полковник.
Ваншейдт, управляющий заводом.
Полицеймейстер.
Кякива, переводчик.
Околоточный.
Реджеб.
Вано, гимназист.
Уголовный.
Начальник тюрьмы.
1-й тюремный надзиратель.
2-й тюремный надзиратель.
Николай II.
Министр юстиции.
Флигель-адъютант.
Городовой.
Женщина в толпе.
Воспитанники 6-го класса семинарии, преподаватели
семинарии, батумские рабочие, городовые, стражники,
жандармы, уголовные в тюрьме, тюремные надзиратели,
женщины-заключенные в тюрьме, два казака и курьер при
губернаторе.
Действие происходит: в прологе - в 1898 году, а в
остальных картинах - в годы 1901-1904.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
КАРТИНА ПЕРВАЯ - ПРОЛОГ
Большой зал Тифлисской духовной семинарии. Писанное
маслом во весь рост изображение Николая II и два поясных
портрета каких-то духовных лиц в клобуках и в орденах.
Громадный стол, покрытый зеленым сукном. В зале никого
нет. За закрытыми дверями глухо слышатся возгласы
священника (в семинарской церкви кончается обедня).
Неясно доносятся слова: "...истинный бог наш молитвами
пречистыя своея матери, молитвами отца нашего
архиепископа Иоанна Златоуста... помилует и спасет нас,
яко благ и человеколюбец". В это время дверь,
противоположная церковной, открывается, и в зал входит
Сталин - молодой человек лет 19-ти, в семинарской форме.
Садится, прислушивается.
Затем послышался церковный хор, поющий заключительное
многолетие. Через некоторое время дверь, из-за которой
слышалась обедня, распахивается, и возле нее
вытягивается служитель Варсонофий, человек всегда
несколько выпивший. Входит инспектор семинарии, а за ним
в порядке человек двадцать воспитанников VI класса.
Инспектор выстраивает их, а Сталин поднимается со стула
и становится отдельно. Затем в зал входит ректор
семинарии, за ним члены правления семинарий и
преподаватели и вслед за ректором размещаются за столом.
Ректор. Достопочтеннейшие и глубочайше уважаемые господа члены правления и
господа преподаватели! Престрашное дело совершилось в родимой нашей
семинарии.
В то время когда все верноподданные сыны родины тесно прильнули к
подножию монаршего престола царя-помазанника, неустанно пекущегося о
благе обширнейшей в мире державы, нашлись среди разноплеменных
обитателей отечества преступники, сеющие злые семена в нашей стране!
Народные развратители и лжепророки, стремясь подорвать мощь
государства, распространяют повсюду ядовитые мнимо научные
социал-демократические теории, которые, подобно мельчайшим струям злого
духа, проникают во все поры нашей народной жизни.
Эти очумелые люди со звенящим кимвалом своих пустых идей врываются и в
хижины простолюдинов, и в славные дворцы, заражая своим зловредным
антигосударственным учением многих окружающих.
И вот один из таких преступников обнаружился в среде воспитанников
нашей семинарии!
Как же поступить с ним?
Подобно тому как искуснейший хирург соглашается на отнятие зараженного
члена тела, даже если бы это была драгоценная нога или бесценная рука,
общество человеческое анафематствует опасного развратителя и говорит:
да изыдет этот человек! (Становится менее красноречив, но суров и
неуклонен.) Постановлением правления Тифлисской духовной семинарии
воспитанник шестого класса Иосиф Джугашвили исключается из нее за
принадлежность к противоправительственным кружкам, без права
поступления в иное учебное заведение.
Нам, как христианам, остается только помолиться о возвращении его на
истинный путь и вместе с тем обратить горячие мольбы к небесному царю
царей, дабы тихое, как говорил святой апостол, и безмолвное житие
поживем во всяком благочестии и чистоте, сие бо есть добро и приятно
перед Спасителем нашим...
Сталин. Аминь!
Молчание.
Ректор. Это что же такое?
Сталин. Я сказал "аминь" машинально, потому что привык, что всякая речь
кончается этим словом.
Ректор. Мы ожидали от него выражения сердечного сокрушения и душевного
раскаяния, и вместо этого непристойная выходка. (Инспектору.)
Освободите зал от воспитанников, Мелитон Лукич. Господ членов правления
прошу покинуть зал. Мелитон Лукич, вручите уволенному его билет.
Все покидают зал, кроме Сталина и инспектора.
Инспектор. Получите билет и распишитесь.
Сталин. Он называется волчий, если я не ошибаюсь?
Инспектор. Оставьте ваши выходки, пишите имя и фамилию.
Сталин расписывается и получает билет.
Инспектор (удаляясь). Лучше подумали бы о том, что вас ждет в дальнейшем.
Дадут знать о вас полиции... (Закрывает за собою дверь.)
Сталин, оставшись один, закуривает.
Одноклассник (осторожно заглянув, входит). Вот история! С аминем-то, а? Он
до того побагровел, что я думал, - тут его за столом сейчас кондрашка и
хлопнет! Однако что ж ты теперь делать-то будешь? Да... положение твое,
будем прямо говорить, довольно сложное. Жаль мне тебя!
Сталин. Как-нибудь проживем.
Одноклассник. Как-нибудь-то оно, конечно, как-нибудь... а вот, например,
деньги у тебя есть?
Сталин (пошарив в карманах, изумляется). Что такое? Нету денег!
Одноклассник. Я могу дать тебе рубль взаймы. (Выбирает из кармана мелочь.)
Как только сможешь, отдай.
Сталин. Ну что там... У тебя у самого нет. Что по гривенникам собирать
будем, как на паперти... У меня есть другой, более серьезный план.
Одноклассник. Какой там план! Ты где обедать будешь и ночевать теперь, вот
что любопытно?
Сталин. Обед-это не важно. Насчет обеда у меня твердая надежда на одно
место. Тут есть более существенный вопрос... (Шарит в карманах.)
Одноклассник. Что это ты все по карманам хлопаешь?
Сталин. Не понимаю, куда рубль девался!.. Ах да, ведь я его только что
истратил с большой пользой. Понимаешь, пошел купить папирос,
возвращаюсь на эту церемонию, и под самыми колоннами цыганка
встречается. "Дай, погадаю, дай, погадаю!" Прямо не пропускает в дверь.
Ну, я согласился. Очень хорошо гадает. Все, оказывается, исполнится,
как я задумал. Решительно сбудется все. Путешествовать, говорит, будешь
много. А в конце даже комплимент сказала - большой ты будешь человек!
Безусловно, стоит заплатить рубль.
Одноклассник. Нет, брат ты мой! Загубил ты свой рубль зря. Все наврала тебе
цыганка. Судя по сегодняшнему, далеко не так славно все это получится,
как ты задумал. Да и путешествия-то, знаешь, они разного типа бывают...
Да, жаль мне тебя, Иосиф, по-товарищески тебе говорю.
Сталин. За это спасибо. Да, кстати, вот о каком одолжении я тебя попрошу.
Обстоятельства складываются так, что с Арчилом мне уж увидеться не
придется. Так вот, пожалуйста, передай ему от меня письмо, но в
собственные руки и по секрету.
Одноклассник. Хорошо, давай его сюда.
Сталин. А сам можешь прочитать, если хочешь. Письмо открытое.
Одноклассник (заглянув в листки). Забирай обратно свое письмо!
(Оглядываясь.) Слушай, Иосиф, серьезно говорю тебе, брось это, в Сибири
очутишься!
Сталин. Что же ты, согласился - и вдруг отказываешься?
Одноклассник. Ну-ну-ну! Ты это оставь, пожалуйста! Что это значит -
отказываешься? Ты говорил - письмо, а это... прокламация!
Сталин. Не все ли тебе равно, что передавать - прокламацию или письмо?
Прокламацию даже интереснее, она содержательнее.
Одноклассник. Да ну тебя совсем! Я отнюдь не намерен на улицу с волчьим
паспортом вылететь. Я, брат, в университет собираюсь.
Сталин. Это ты хорошо задумал. А вот насчет этого - не понимаю, какой риск
для тебя? По коридору пройти и отдать в руки. И ничего говорить ему не
надо. Только скажи - от Иосифа, - и все. И он ничего говорить тебе не
будет, только скажет - мерси.
Одноклассник. Бессмыслица это все, все эти ваши бредни!
Сталин. А если так, то постой, погоди, погоди! Тогда выслушай меня. Я давно
знаю тебя. Интересно, что можно сказать о тебе? Подумаем. Первое: что
ты - человек порядочный. Загибай один палец. И, конечно, если бы это
было не так, я не стал бы тебя просить. Второе: ты - человек,
безусловно, развитой, я бы сказал даже, на редкость развитой. Не
красней, пожалуйста, я искренно говорю. И, наконец, последний палец,
третий: ты - начитанный человек, что очень ценно. Итак, неужели же ты,
при этих перечисленных мною блестящих твоих качествах, не понимаешь,
что долг каждого честного человека бороться с тем гнусным явлением,
благодаря которому задавлена и живет под гнетом и в бесправии
многомиллионная страна? Как имя этому явлению? Ему имя - самодержавие.
Вот в конце этого листка и стоят простые, но значительные слова -
"долой самодержавие". В чем же дело?
Одноклассник. Аминь! А передавать листки не буду
Сталин. Так. В этой беседе выяснилось еще одно твое качество. Ты,
оказывается, человек упорный. Кроме того, ты, может быть, подумал, что
я тебя агитирую? Боже спаси! Зачем мне это надо? Я прошу тебя выслушать
совсем другое. Я забыл сказать, что ты - хороший товарищ. Как же ты не
можешь сообразить, что я с Арчилом видеться ни в коем случае не должен.
А дело, между тем, спешное. Их ведь только что отпечатали, скажу тебе
по секрету. Что же тебе стоят помочь твоим товарищам?
Одноклассник. Сколько их, говори?
Сталин. Десять штук всего. Да они тебя не обременят. Они на тонкой бумаге
отпечатаны. Посмотри, какой шрифт хороший.
Одноклассник. Вот принесло меня к тебе прощаться! Ну, так и быть, давай.
Арчил-то меня не подведет?
Сталин. Мне веришь?
Одноклассник. Верю.
Сталин. Головой отвечаю за Арчила. Режь. Да ты не беспокойся, я уж сказал,
что через тебя передам, он знает.
Одноклассник. Ну уж это, брат ты мой, чересчур!
Сталин. Ничего особенного. По почте, ты сам понимаешь, я их послать не могу.
Ясное дело, надо их передавать через какого-нибудь товарища, политикой
не занимающегося и, кроме того, честного. Я и наметил передать через
тебя.
Одноклассник. Однако ты... ты уж, знаешь ли...
Сталин. Ну, а теперь позволь мне сказать тебе на прощанье краткую
благодарственную речь.
Одноклассник. Не нужно мне больше твоих речей!
Сталин. Ах, ты думаешь, что я тебе еще пачку всучу? Нет, зачем, же, надо
меру знать. А вот что я хотел тебе сказать. Шесть лет мы протирали свои
брюки на одной парте, и вот настало время расстаться...
Послышались шаги за дверью.
Уходи! Прощай.
Одноклассник убегает. Входит Варсонофий, в руках у него
пальто и узелок.
Варсонофий. Извольте получить ваше пальто, господин Джугашвили. В кармане
карандаш. Прошу проверить, все цело.
Сталин. Зачем проверять, я вам доверяю.
Варсонофий. С вас бы на полбутылки, господин Джугашвили, по случаю
праздничного дня и вашего печального события. Теперь вы вольный казак,
все пути перед вами закрыты. Надо бы выпить.
Сталин. С удовольствием бы, но, понимаете, такой курьез... ни копейки денег!
Варсонофий. Папиросочки нет ли?
Сталин. Папироску - пожалуйста.
Варсонофий. Покорнейше благодарю. И, господин Джугашвили, извините, велено
вам передать, чтобы вы помещение семинарии немедленно покинули. Отец
ректор уж очень злобствует на вас.
Сталин (надев пальто). Прощайте, Варсонофий.
Варсонофий. Как это вы его аминем резанули? А? Двадцать два года служу, но
такого случая при мне не было. Ну, зато, натурально, и вам теперь
аминь. Куда ж с такой бумагой, как вам выдали, вы сунетесь?
Сталин (вынув билет). Стало быть, это вредоносная бумага?
Варсонофий. Хуже не выдумаешь.
Сталин. В таком случае надо ее разорвать немедленно. (Рвет билет.)
Варсонофий. Что это вы делаете?!
Сталин. Помилуйте, какой же сумасшедший сам на себя такую бумагу будет
показывать? Надо будет раздобыть хорошую бумагу.
Варсонофий. Уходите, от греха. (Удаляется.)
Сталин один. Окидывает взглядом стены. Потом швыряет
клочки билета и выходит.
Темно.
ВТОРАЯ КАРТИНА
Прошло три года. Батум. Ненастный ноябрьский вечер.
Слышен с моря шум. Комната в домике Сильвестра. Стол,
над ним висячая лампа. Часы с гирями. Буфет. Кушетка.
Над кушеткой на стене ковер, на нем оружие. В печке
огонь. У огня Наташа. Снаружи послышался стук. Стучат
условно - три раза раздельно, потом коротко, дробно.
Наташа (выходит. Послышался ее голос). Кто там?
Сильвестр (его голос слышен глухо). Это я.
Наташа (впускает Сильвестра. Удивлена, что тот один). А где же?..
Сильвестр (шепотом). Одна?
Наташа. Одна, одна... Но, понимаешь, отец, как на зло, весь вечер народ идет
к нам. Сейчас только выпроводила соседку. Пришла соли попросить и
застряла.
Сильвестр. А Порфирий?
Наташа. Еще не приходил.
Сильвестр. Ага... Гм... Порфирий... Порфирия пока в тайну не посвящай... Он
сам с ним переговорит.
Наташа. Что ж мы от Порфирия будем прятаться? Он свой человек.
Сильвестр. Я понимаю, что свой! Мой сын, значит - свой. Я ему вполне
доверяю. Но он горячий, как тигр, и неопытный. Пускай он с ним сам
говорит.
Наташа (шепотом). А где же он?
Сильвестр. Дожидается в садике. Нужно дело делать чисто: нету его у нас и не
было. Значит, днем он совсем не будет выходить из дому, а только ночью.
Соседям скажи, что эту комнату сдавать не будем, скажи, что Порфирий в
нее переехал.
Наташа. Ну, понятное дело.
Сильвестр. Дверь не закрывай, я сейчас его приведу.
Выходит, через некоторое время возвращается. Вслед за
Сильвестром идет Сталин. Голова его обмотана башлыком,
башлык надвинут на лицо.
Входи, товарищ Coco. Вот это моя дочка Наташа, про которую я тебе уже
говорил.
Наташа. Пожалуйста, погостите у нас.
Сталин. Не хотелось бы вас стеснять, но, понимаете, некоторая неудача на
первых же шагах в Батуме. К Канделаки на Пушкинскую, во двор, вчера
переехал околоточный. Боюсь, что мы с ним друг другу будем мешать...
Ну, я к вам ненадолго, дней на пять, а потом опять на другую
квартиру...
Наташа. Вы нас не стесните.
Сильвестр. Пожалуйста, живи, сколько надо. Проходи, Coco, в эту комнату и
сиди там, пока я тебя сам не выпущу, потому что может прийти кто-нибудь
посторонний. Вернется с работы сын мой, Порфирий, я тебя с ним
познакомлю. (Ведет Сталина в темную комнату.) Осторожнее, тут ширма...
окно на задвижку, имей в виду, не закрыто, на всякий случай... хотя
ничего такого я не жду.
Сталин (в темной комнате). Хорошо, хорошо...
Сильвестр (выходя из темной комнаты, дверь, ведущую в нее, оставляет
приоткрытой). Наташа, приготовь нам поесть. А я пойду за другими.
Постучу, как условились.
Наташа. Хорошо. (Закрывает за Сильвестром наружную дверь, возвращается к
печке, мешает угли и затем выходит из комнаты.)
В темной комнате на мгновение вспыхнула спичка, погасла.
Потом снаружи стук. Наташа проходит к наружной двери.
Кто тут?
Порфирий (глухо). Я.
Входит Порфирий, за ним Наташа. Лицо у Порфирия убитое.
Он швыряет в угол шапку.
Наташа. Ты что это?
Порфирий. Ничего.
Наташа. Что с тобой случилось?
Порфирий. Ничего.
Наташа. А что ж ты так неприятно отвечаешь? А?
Порфирий. Ну, оштрафовали!
Наташа. Бедный! На сколько?
Порфирий. На пять рублей! Нож сломал.
Наташа. Ай-яй-яй!
Порфирий. А чем я виноват? Жесть не выскакивает, стал выковыривать ее, а под
нож, чтоб мне руку не отхватило, подложил брусок. Что ж, руку, что ли,
отдавать? Нож соскочил на брусок и сломался.
Наташа. Ведь это тебе дней десять даром работать придется? Э, бедняга! Ну,
не грусти.
Порфирий. Я? Я не грущу. Пусть они подавятся моими деньгами! (Пауза.) Меня
сегодня механик по лицу ударил! Вот чего я не прощу!
Наташа. Ну, ничего, ничего...
Порфирий. Оставь ты меня!
Наташа. Я ведь к тебе по-человечески, с сочувствием...
Порфирий. Не нужно мне человеческого сочувствия!
Наташа. Ну что ж... (Уходит.)
Порфирий некоторое время ходит по комнате, что-то
бормочет, потом берет книжку, садится к столу.
Раскрывает книгу, но лицо его внезапно искажается.
Порфирий. Пойду завтра убью механика.
Сталин (из темной комнаты). А зачем?
Порфирий. А?..
Сталин (выходит). Зачем убьешь механика?
Порфирий. Кто вы такой... такой?
Сталин. Зачем, говорю, убьешь механика? Какой в том толк?
Порфирий. Да кто вы такой?!
Сталин. Нет, ты ответь мне. Ну, хорошо, ты его убьешь. Чем ты его убьешь?
Порфирий. Зубилом!.. Да вы кто такой?
Сталин. Ага, ты ему голову проломишь. Я тебе заранее могу сказать, сколько
это тебе будет стоить. С заранее обдуманным намерением...
Порфирий. Каким таким намерением?
Сталин. Обязательно с намерением. Ты сегодня задумал, чтобы завтра идти
убивать. Я слышал.
Порфирий. Чего вы слышали? Я вас не боюсь! Идите, говорите!
Сталин. Постой! Какой ты человек, прямо как порох! Слушай: двадцать лет тебе
это будет стоить каторги. Ах да, ты, впрочем, несовершеннолетний. Одну
треть скинут. И что же получится? Потеряна молодая рабочая жизнь
навсегда, потерян человек! Но цех без механика не останется, и завтра
же там будет другой механик, такая же собака, как и ваш теперешний, и
так же будет рукоприкладствовать. Нет, это ложное решение! Оставь его.
Порфирий. Вы в квартиру к нам как попали?
Сталин. А твой отец меня пригласил. Он мой друг. Не скажу - друг детства,
потому что я познакомился с ним недавно, но мы с ним очень крепко
сошлись.
Порфирий. Отчего же вы в темноте сидели?
Сталин. Почему же не посидеть, если он меня попросил там посидеть, его
подождать?
Порфирий. А Наташа вас видела?
Сталин. Видела. Она в кухне сейчас, ужин готовит, а я здесь сижу. Все в
полном порядке.
Порфирий. А как вас зовут?
Сталин. По-разному. Coco меня зовут. А кроме того, ваши, батумские,
почему-то прозвали меня Пастырем. А за что, не знаю. Может быть,
потому, что я учился в духовной семинарии, а может быть, и по каким-то
другим причинам. А ты можешь меня называть как хочешь, мне это
безразлично. Да, так вот механик. Я понимаю, он нанес тебе душевную
рану. Ну, а другие рабочие не страдают оттого, что их бьют? Разве у них
не отнимают неправедно кровные деньги, как отняли сегодня у тебя? Нет,
Порфирий! Ваш холоп механик тут вовсе не самая главная пружина, зубилом
ты ничего не сделаешь. Тут, Порфирий, надо весь этот порядок
уничтожить.
Порфирий. А!.. Порядок? Гм... Понимаю. Вы революционер?
Сталин. Конечно. Ну, а почему ты смотришь на меня с таким удивлением? Я ведь
не один революционер на свете. А твой отец? А Наташа?
Порфирий. Вот какие дела!... То-то они все время шепчутся...
Сталин. А как же им не шептаться? Они должны быть осторожны! Ты, понимаешь,
человек молодой, пылкий... Да, кстати, ты эти свои манеры брось! Зубило
и прочее... Ты же всем можешь принести величайший вред! Но теперь они
шептаться не будут, потому что я тебя в это дело посвятил.
Порфирий. Предупреждаю, что в наш двор стал захаживать городовой. Один раз -
говорит, пришел подсмотреть, почему двор так замусорен. Другой раз
спрашивал, кто в гостях сидит? Предупреждаю: полиция следит за двором.
Сталин. Конечно! Ты прав. Очень хорошо, что у тебя острый глаз.
Порфирий. Какой такой мусор? Я сразу догадался.
Сталин. Правильно, при чем тут мусор! И знаешь, о чем мы тебя попросим...
сюда сейчас кое-кто придет, а покараулить некому. Так уж, пожалуйста,
во дворе подежурь. А завтра вечером я тебя приглашаю, соберется
небольшой кружок, побеседуем... и тут ты в кой-каких вопросах
поразберешься.
Порфирий. Постойте! (Прислушивается.) Нет, это мне послышалось. (Пауза.)
Нет, а все-таки не удастся вам... У царя полиция, жандармы, войска,
стражники...
Сталин, ...прокуроры, следователи, министры, тюремные надзиратели,
гвардия... И все это будет сметено!
Порфирий. Нет.
Сталин. Ты до этого часу доживешь.
Порфирий. Нет! Вот он, знак! (Указывает на свой висок.) Так и умру в
рабстве!
Сталин. Долго ты еще будешь про эти побои говорить? Я тебе говорю, все это
отольется и вспомнится! Доживешь!
Порфирий. Я не доживу.
Сталин. Да что такое! Я же тебе не на картах гадаю, а утверждаю это на
основании тех научных данных, которые добыты большими учеными! Ты о них
даже не слыхал.
Порфирий. Я понимаю, что вы образованный... но как-то веры у меня мало.
Сталин. Ах ты, боже! Доживешь!
Порфирий. Нет!
В дверях появляется изумленная Наташа с подносом, на
котором еда.
Наташа. А вы... вышли?
Сталин. Да, мы уж познакомились.
Послышался стук.
Наташа. Отец.
Ставит поднос на стол, выходит, потом возвращается. За
нею входят Сильвестр, Миха, Теофил и Канделаки.
Сильвестр. Ах, ты вышел уже?
Сталин. Надоело в темноте сидеть.
Сильвестр. Ну, познакомьтесь, вот наши: Миха с Манташева, Теофил -
ротшильдовский. С Канделаки тебя знакомить не требуется... А это -
товарищ Coco из Тифлиса. (Наташе, расставляющей еду на столе.) Бутылку
вина достань.
Сталин (Порфирию). Вот мы теперь тебя и попросим. Ты там погляди...
Порфирий. Хорошо, хорошо. (Выходит.)
Сильвестр (Сталину). Ты ему все сказал?
Сталин. Ему можно.
Миха. Порфирию? Конечно, можно.
Теофил. Порфирий - честный юноша.
Сильвестр. Садитесь, друзья! Налейте, чтобы в стаканах было вино.
Канделаки. Безобидная компания... сидим...
Сильвестр. Ну, Coco, начинай.
Наташа шевелит догорающие угли.
Сталин. Товарищи! Я послан тифлисским комитетом Российской
социал-демократической рабочей партии...
Наташа закрывает печку, свет начинает уходить.
Сталин. ...для того, чтобы организовать и поднять батумских рабочих на
борьбу...
Темно.
КАРТИНА ТРЕТЬЯ
Прошло около месяца. Ночь. И та же комната, но
празднично убранная и освещенная. Сдвинутые и накрытые
столы, на них вино, еда. Деревцо орешника, убранное
яблоками и конфетами. За столами человек двадцать
пять. Среди них Наташа, Сильвестр, Миха, Теофил, Котэ,
Геронтий, Дариспан, Герасим, Мгеладзе, Тодрия и Климов.
Все смотрят на стенные часы, ожидая, когда они начнут
бить. Стрелка стоит у 12-ти.
Миха. Вот он, Новый год, подлетает к Батуму на крыльях звездной ночи! Сейчас
он накроет своим плащом и Варцхану, болото Чаоба и наш городок!
В это время снаружи донеслось глухо хоровое пение:
"Мравалжамиер"...
Сильвестр. Он уже пришел в соседний дом!
Миха. Погоди, я не давал тебе слова! Их часы впереди.
Теофил (часам). Ну что же вы? Тащитесь скорей!
Миха. Погоди, не пугай их!
В это время часы начинают бить.
Раз!
Наташа. Два! Три!
Котэ. Четыре!
Присоединяются новые голоса, считают. "Одиннадцать...
двенадцать!"
Миха (по-грузински). С Новым годом!
Климов. С Новым годом, товарищи!
Все запели "Мравалжамиер".
Миха. Слово даю себе. Оно будет краткое. Что дала нам вереница прошлых
старых лет - мы хорошо знаем. Пусть они уйдут в вечность! А мы сдвинем
чаши, пожелаем, чтобы новый, 1902-й принес нам наше долгожданное
счастье!
Сильвестр. Товарищи, кто пойдет сменить Порфирия? Давайте по очереди.
Котэ. Я иду.
Выходит, через некоторое время входит Порфирий.
Наташа. Садись сюда!
Теофил. Вина ему!
Порфирий. С Новым годом, товарищи!
Входит Хиримьянц.
Хиримьянц. Поспели вовремя! (Снимает пальто.)
За Хиримьянцем появляются Канделаки и Сталин.
Канделаки. Приветствую товарищей!
Сталин. Привет всем!
Наташа. Coco, иди садись, вот твое место! Канделаки, садись рядом со мной!
Теофил. А Хиримьянца устроим здесь, на кушетке?
Порфирий. Дай мне слово.
Миха. Не даю тебе слова.
Порфирий. Не понимаю, почему? (Поднимая бокал.) Твое здоровье, Coco!
Миха. Это мое слово! Здоровье товарища Coco! Слово для новогоднего тоста
предоставляется ему.
Сталин. Ночь впереди, мы скажем много слов. (Сильвестру.) Все в сборе?
Сильвестр. Манташев... Ротшильд... Типография... Табачная... Нобель...
Биниаит-оглы... Все в сборе.
Миха. Товарищи, внимание! Хочется, чтобы все соседи знали, как весело и
шумно у Сильвестра встречали Новый год. Поэтому, когда я подниму руку,
пусть нам поет Наташа. Ее голос как шелковая ткань. Когда же я подниму
обе руки, мы грянем все. (Поднимает руку.)
Наташа тронула струны, запела негромко.
Миха. Конференцию представителей рабочих батумских социал-демократических
кружков объявляю открытой. Слово предоставляется Константину.
Канделаки. Товарищи, мы будем кратки, у нас только один вопрос: выборы
руководящего центра нашей организации.
Миха. Слово по этому вопросу предоставляется товарищу Coco.
Сталин. В этот центр должны войти надежнейшие и лучшие товарищи. Этот центр
будет называться комитетом батумской организации Российской
социал-демократической рабочей партии. Мы знаем уже все и твердо все
это запомним, какого он будет направления. Он будет ленинского
направления. Под этим знаком и знаменем мы начнем нашу борьбу! Вот все,
что я хотел сказать.
Миха (машет Наташе рукой, чтобы она умолкла, потом поднимает обе руки). Ваше
здоровье!
Все коротко пропели "Мравалжамиер".
Константин, говори.
Поднимает одну руку - Наташа начинает петь другую песню.
Канделаки. Вот список тех, кого товарищи на заводах наметили в комитет. Он
всем присутствующим известен?
Голоса: "Всем! Всем!"
Товарищи предлагают, чтобы возглавил этот список товарищ Coco! Кто за
то, чтобы эти лица, перечисленные в списке, вошли в состав комитета?
Поднимите руки...
Все поднимают руки.
Мне остается только закончить словами: да здравствует...
Порфирий (перебивает). Да здравствует батумский комитет!
Миха, махнув Наташе, поднимает обе руки. Все поют
"Мравалжамиер".
Миха. Ну, а теперь. Coco, скажи нам что-нибудь!
Сталин. Почему же непременно я? Я, товарищи, сегодня выступал в кружках
четыре раза. А здесь нас, за столом, двадцать пять человек, и каждый из
них оратор, я в этом убедился. Вот, например, я вижу, Порфирий
порывается произнести речь, которая у него, по-видимому, уже готова.
Миха. Нет, я, как тамада, против этого! Потом Порфирий!
Многие голоса: "Потом Порфирий!"
Сталин. Ну что же... По поводу Нового года можно сказать и в пятый раз.
Хотя, собственно, я и не приготовился. Существует такая сказка, что
однажды в рождественскую ночь черт украл месяц и спрятал его в карман.
И вот мне пришло в голову, что настанет время, когда кто-нибудь сочинит
- только не сказку, а быль. О том, что некогда черный дракон похитил
солнце у всего человечества. И что нашлись люди, которые пошли, чтобы
отбить у дракона это солнце, и отбили его. И сказали ему: "Теперь стой
здесь в высоте и свети вечно! Мы тебя не выпустим больше!" Что же я
хотел сказать еще? Выпьем за здоровье этих людей!.. Ваше здоровье,
товарищи!
Порфирий. Твое здоровье. Coco!
Все: "Твое здоровье!"
Тамада лишил меня моего существенного права произнести тост. А теперь я
требую его.
Миха. Говори, но кратко.
Порфирий (обращаясь к Сталину). Я хочу тебе сказать, что я никогда не забуду
твой первый разговор со мной, и прибавить, что я не хочу умирать в
постели! Все!
Миха. В первый раз, сколько я тебя ни слышал, ты сказал хорошо. Сядь,
Порфирий.
Сталин. Доживешь?
Порфирий. Безусловно!
Сталин. Твое здоровье!
Порфирий запел "Хасан-Бегура", другие голоса к нему
начинают присоединяться. В это время вбегает Котэ.
Котэ. Зарево! Где-то пожар!
Миха. Что? Пожар?
Наташа бросается к окну, отодвигает занавеску. В окне
дальнее зарево.
Наташа. Смотрите!
Многие бросаются к окнами
Климов. Постой-ка... Это где же?
Выбегает, за ним бросается Порфирий.
Миха. Постойте, это в стороне Ротшильда? Ну да.
Теофил. Там и есть!
Канделаки. Сильвестр, да это, кажется, у вас!
Сильвестр. Что ты говоришь! Быть не может, неужели!
Хиримьянц. Да там, там! Ротшильд горит!
Тодрия. Что, Ротшильд?
Вбегают Климов и Порфирий.
Климов. Вот те с новым годом, с новым счастьем! Вот те
Каспийско-черноморское нефтепромышленное... Оно горит! Братцы, это
Ротшильд горит!
Многие голоса: "Ротшильд? Ротшильд?"
Порфирий. Горит кровопийское гнездо! Туда ему и дорога!
Климов. Что ты плетешь? Что ж мы есть-то будем теперь?
Миха. Надо помогать тушить.
Наташа. Как же не тушить?
Теофил. Тушить?
Сталин. Конечно, тушить. Всеми мерами тушить. Но только слушай, Сильвестр:
нужно потребовать от управляющего вознаграждение за тушение огня.
Сильвестр. Верно, товарищи!
В это время послышался конский топот во дворе.
Вот он, уже тут!
Приказчик (вбегает). Братцы, что ж вы? Не видите, что ли?! Лесной склад на
нашем заводе горит! Бросится огонь дальше, все слизнет! Братцы! Летите
на завод помогать!
Сильвестр. Платить будут?
Приказчик. Обязательно! Будут платить щедрой рукой! Что же вы сидите,
братцы? Аль не жалко завода?
Тодрия. Мы - типографские.
Приказчик. Независимо! Независимо! Всем будут платить! Помогайте!
Сталин (приказчику). Мы список составим. Всем уплатят по списку?
Приказчик. Икону сниму, всем, конечно!
Сильвестр. Поспешим, товарищи!
Приказчик. Скорее, братцы! (Убегает.)
Рабочие начинают выбегать. Сталин надевает пальто, идет
к двери.
Наташа. Что ж, Coco, ты приказчику прямо в лицо показался?
Сталин. Он сейчас в таком состоянии, что ничего не видит и не понимает. Он
сейчас сам себя в зеркале не узнает.
Наташа. Куда ты?
Сталин. На пожар, тушить.
Наташа. Да нельзя тебе туда. Coco! Ведь там вся полиция будет!
Сталин (указав в окно, где зарево уже стоит до полнеба). Неужели ты думаешь,
что им сейчас до меня? (Выходит.)
Занавес
Конец первого действия
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ
Прошло два месяца. Начало марта.
Кабинет кутаисского военного генерал-губернатора.
Губернатор сидит за письменным столом и читает "Новое
время". И, судя по всему, прочитанным недоволен.
Адъютант (входит). Телеграмма, ваше превосходительство.
Губернатор. Нуте-с...
Адъютант (читает). "Кутаисскому военному губернатору. Секретно. Доношу о
небывало беспокойном поведении рабочих на заводе Ротшильда. Подпись.
Полицеймейстер города Батума".
Губернатор. Пожалуйста! Опять!.. Ах да... ведь это на другом заводе тогда
было? У меня все путается в голове из-за этих батумских сюрпризов.
Адъютант. Тогда было на манташевском.
Губернатор. Безобразие... (Перечитывает телеграмму.) И притом какая манера
телеграфировать! Вот я, например, сижу перед вами, вообразите - Соломон
Мудрый, ничего не разберу! Что это значит - "беспокойное поведение"?
Беспокойное поведение может принимать различные формы, что подтвердит
вам любой врач. Можно, например, вскрикивать и заламывать руки. Но
если, предположим, я вас укушу или, скажем, начну бить стекла в
кабинете, то это будет уж совсем другой вид беспокойного поведения. Как
вы полагаете?
Адъютант. Я полагаю, ваше превосходительство, что они хотят устроить
забастовку.
Губернатор. Безобразие! Тогда так и надо телеграфировать: они хотят... и...
это... устроить... эту... А то он своими телеграммами только сеет во
мне тревогу. Он нервирует. И что случилось с Батумом? Было
очаровательное место, тихое, безопасное, а теперь черт знает что там
началось! "Небывало беспокойное..." Темно, воля ваша, темно. Пишет вот
вроде этого журналиста. (Подчеркивает ногтем место в газете.) "Время,
которое мы переживаем, исполнено глубочайшего смысла". И все!
Спрашивается, какого смысла? Что это за смысл? (Смотрит на стенную
карту.) Прямо на карту не могу смотреть... Как увижу "Батум", так и
хочется, простите за выражение, плюнуть! Нервы напряжены, ну буквально
как струны.
Адъютант. Что прикажете ответить полицеймейстеру, ваше превосходительство?
Губернатор. Прежде всего, чтобы он телеграфировал внятно. Внятно-с.
Адъютант. Подробности?
Губернатор. Ну да... э... нет, нет! Только, бога ради, без этого слова! Я
его хорошо знаю: он накатает мне страниц семь самых омерзительных
подробностей. А просто - внятно. Что там и как.
Адъютант. Слушаю. (Выходит.)
Губернатор (над газетой). Но какого смысла? Вот в чем весь вопрос и штука!
Адъютант (входит). Телеграмма, ваше превосходительство.
Губернатор. Пожалуйста.
Адъютант (читает). "Вайнштед уволил на Ротшильде 375 человек. Подпись:
полицеймейстер города Батума".
Губернатор. Сколько?
Адъютант. 375.
Губернатор. Гм... И опять - не угодно ли! Уволил! Почему уволил? Зачем? Ведь
он целую, так сказать, роту уволил. Позвольте, этот Вайнштейн... это...
э... управляющий?
Адъютант. Так точно. Вайнштед.
Губернатор. Это безразлично. А важна, опять таки, причина увольнения и смысл
его. Смысл! Запросить.
Адъютант. Слушаю. (Выходит и через короткое время возвращается.) Срочные,
ваше превосходительство.
Губернатор. Да, да. Содержание.
Адъютант (читает). "Вследствие падения спроса на керосин жестянках на заводе
Ротшильда Вайнштейном уволено 390 человек. Подпись: корпуса жандармов
ротмистр Бобровский".
Губернатор. По крайней мере, ясная телеграмма. Толковая. Неприятная, но
отчетливая телеграмма. Но, позвольте, тут уж кто-то другой, какой-то
Вайнштейн?
Адъютант. Это тот же самый, просто в одной из телеграмм ошибка.
Губернатор. Но в какой из телеграмм?
Адъютант. Затрудняюсь сказать, ваше превосходительство.
Губернатор. Ну конечно, это все равно. А важно вот что... гм... "Падения"...
Полицеймейстер телеграфирует - 375 человек, а ротмистр - уже 390...
Впрочем, и это не важно, а важно... э... Вторую телеграмму, пожалуйста.
Адъютант (читает). "На Сидеридисе неспокойно. Умоляю обратить внимание.
Подпись: Сидеридис".
Губернатор. Так. Прежде всего, кто этот, как его?..
Адъютант. Сидеридис, ваше превосходительство.
Губернатор. Ах да, завод.
Адъютант. Так точно, керосин.
Губернатор. И обратите внимание на стиль: "Сидеридис", "на Сидеридисе"... И
опять это противное слово "неспокойно". Что это за пошлую манеру они
взяли так телеграфировать! Не всякая краткость хороша. "Умоляю"! Вместо
того чтобы умолять, он бы лучше толком сообщил, что там такое.
Запросить объяснения.
Адъютант. А на телеграмму Бобровского?
Губернатор. А что же на телеграмму Бобровского? Что-с? "Падения". Что же я
тут-то могу поделать? Не закупать же мне у него керосин! Законы
экономики и... э... К сведению.
Адъютант. Слушаю. (Выходит и вскоре возвращается.) Помощник начальника
жандармского управления полковник Трейниц.
Губернатор. Да, да, да, пожалуйста. (Входящему Трейницу.) Очень рад вас
видеть, Владимир Эдуардович.
Трейниц. Здравия желаю, ваше превосходительство.
Губернатор. Прошу садиться, полковник. Я пригласил вас специально, чтобы
серьезно побеседовать насчет Батума. В течение самого короткого времени
этот прелестнейший, можно сказать, уголок земного шара превратился черт
знает во что!
Трейниц. Да, в Батуме нехорошо.
Губернатор. Ну, вот видите! Сегодня меня буквально завалили телеграммами,
одна неприятнее другой. Вдруг начал вопить этот... э... Сидеридис. Это
какое-то непрерывное напряжение. Я уж говорил, нервы как струны.
Вибрация... Нужно уяснить причины батумских явлений. Ведь они имеют
какой-нибудь корень.
Трейниц. Как же. Мне лично корни батумских явлений уже ясны.
Губернатор. Ну, вот видите, как хорошо. Так в чем же там суть?
Трейниц. По моим сведениям, в Батуме сейчас работает целая группа агитаторов
во главе с Пастырем.
Губернатор. Пастырем? А это еще кто? Пастырь...
Трейниц. Это - некий Иосиф Джугашвили.
Губернатор. Джугашвили... Кто же он такой?
Трейниц. Года три тому назад его, ваше превосходительство, исключили из
Тифлисской семинарии за неблагонадежность. После этого он в течение
некоторого времени работал в Тифлисе же, в обсерватории. Очень скоро
сказались первые плоды его деятельности, в том числе организация
социал-демократического кружка на заводе Карапетова, забастовки на
конке и в железнодорожных мастерских и, наконец, прошлогодняя
первомайская демонстрация. Впрочем, всего не перечислишь.
Губернатор. Я не могу понять, простите, как же тифлисский... этот... розыск
не ликвидировал этого музыканта сразу?
Трейниц. Почему музыканта, ваше превосходительство?
Губернатор. Вы сказали, служил в консерватории?
Трейниц. В обсерватории.
Губернатор. Да, да. Но это безразлично. А как же они так? Э... не
обезвредили?..
Трейниц. Они потеряли его, ваше превосходительство.
Губернатор. Ай-яй-яй! Да как же так? Ведь они должны же были...
Трейниц. Ну, формально они сделали что полагается. В том числе бесплодный
обыск. Они отнеслись неряшливо к этому лицу, плохо взяли его в
проследку, н он ушел в подполье.
Губернатор. Ай-яй-яй!
Трейниц. Да вот, не угодно ли. На мою телеграмму о приметах они отвечают
буквально (вынимает из портфеля листок, читает): "Джугашвили.
Телосложение среднее. Голова обыкновенная. Голос баритональный. На
левом ухе родинка". Все.
Губернатор. Ну, скажите! У меня тоже обыкновенная голова. Да, позвольте!
Ведь у меня тоже родинка на левом ухе! Ну да! (Подходит к зеркалу.)
Положительно, это я!
Трейниц. Ну, не совсем так, ваше превосходительство. Дальше телеграфирую:
"Сообщите впечатление, которое производит его наружность". Ответ:
"Наружность упомянутого лица никакого впечатления не производит".
Губернатор. Действительно, это... э... Я не понимаю, что нужно для того,
чтобы, ну, скажем, я произвел на них впечатление? Неужели же нужно,
чтобы у меня из ноздрей хлестало пламя? Но, однако, придется заняться
этим... э... семинаристом серьезно.
Трейниц. Он теперь уже не семинарист. Он, ваше превосходительство, член
тифлисского комитета РСДРП.
Губернатор. Виноват?..
Трейниц. Российской социал-демократической рабочей партии.
Губернатор. Так это, стало быть, э... важное лицо?
Трейниц. Да, это очень опасный человек. Предупреждаю вас, ваше
превосходительство, что движение в Батуме теперь пойдет на подъем.
Губернатор. Что же вы намерены предпринять?
Трейниц. В два двадцать пять я уезжаю в Батум.
Губернатор. Очень, очень хорошо. Желаю вам полного успеха.
Трейниц. Честь имею кланяться, ваше превосходительство. (Выходит.)
Губернатор подходит к зеркалу, рассматривает ухо.
Скрипнула дверь.
Губернатор (вздрогнув). Телеграмма?
Адъютант. Никак нет, ваше превосходительство. К вам господин Вайншед.
Губернатор. Тот самый? Сам приехал? Что такое? Пожалуйста.
Адъютант (в дверь). Прошу вас. (Пропускает входящего и скрывается.)
В руках у вошедшего измятый котелок. Вошедший в пальто.
Ваншейдт. Ваше превосходительство. (Кланяется.)
Губернатор. Прошу садиться. Вы из Батума?
Ваншейдт. Из Батума.
Губернатор. Вы... э... управляющий ротшильдовским заводом? Э... этого...
Черноморско-каспийского?
Ваншейдт. Управляющий.
Губернатор. Да, простите, как, собственно, точно ваша фамилия? Вайнштейн или
Вайнштедт?
Ваншейдт. Ваншейдт, ваше превосходительство.
Губернатор. Тэ дэ?
Ваншейдт. Дэ тэ.
Губернатор. Ну, вот видите... это уж совсем по-новому! Но что же вы так
официально... э... в верхней одежде? Не угодно ли вам снять пальто?
Ваншейдт. У меня, ваше превосходительство, рукав в пиджаке с корнем вырван.
Я ведь прямо с завода, на квартиру даже не заезжал, кинулся в поезд и к
вам. (Идет к вешалке в углу, снимает пальто, вешает его, кладет па
полочку котелок.)
Губернатор. Что же случилось? На вас лица нет.
Ваншейдт. Ваше превосходительство, ужас! Что у нас на заводе творится, это
прямо нельзя описать! Пришлось уволить триста восемьдесят девять
человек.
Губернатор. Триста восемьдесят девять? Большое количество! Я полагаю, что
это вследствие падения спроса?
Ваншейдт (удивленный проницательностью губернатора). Вы угадали, ваше
превосходительство. И они после этого устроили настоящий ад!
Губернатор. Чего же они хотят?
Ваншейдт. Они, конечно, хотят, чтобы их обратно приняли.
Губернатор. Так, так...
Ваншейдт. Но этого мало. Они такие требования выставили...
Губернатор. Агитаторы, конечно, работали?
Ваншейдт. Тучи агитаторов, нельзя себе представить, что там делается!
Губернатор. Вы пробовали повлиять на них?
Ваншейдт. Пробовал, ваше превосходительство.
Губернатор. И что же?
Ваншейдт. Они меня кровопийцей назвали.
Губернатор. Что же вы?..
Ваншейдт, Не на дуэль же мне их вызвать, ваше превосходительство. Я еле из
конторы выскочил. Ведь они меня уж за пиджак хватали.
Губернатор. Что такое! Это чудовищно... Вы в список этих уволенных, я
надеюсь, поместили самых беспокойных?
Ваншейдт. Само собой разумеется. Я захватил список с собой. (Роется в
карманах, вытаскивает листок.) Ну уж это прямо чудеса! Как же это
так?.. Извольте поглядеть.
Губернатор. Но позвольте... ведь это прокламация?..
Ваншейдт. Конечно, прокламация.
Губернатор. Какая наглость!
Ваншейдт. А где же список? (Идет к вешалке, шарит в карманах пальто.)
Пожалуйста, ваше превосходительство еще одна.
Губернатор. Hо каким же образом... э... это к Вам попало?
Ваншейдт. Не знаю. Прошу на завод войска.
Губернатор. Гм... Сколько ж вам нужно войск на завод?
Ваншейдт. Два батальона.
Губернатор. Помилуйте, господин Ванштейн! У вас сколько в Батуме заводов?
Ваншейдт. Восемь керосиновых.
Губернатор. Ну вот-с! Ведь это, господин Ванштедт... язык арифметики
неумолим... потребуется шестнадцать батальонов! А шестнадцать
батальонов - это дивизия! И если к ней придать, как это полагается,
конный дивизион артиллерии... а госпиталя, интендантство!.. Это... э...
Я понимаю серьезность вашего положения и, конечно, дам вам стражников.
Ваншейдт. Сколько дадите, ваше превосходительство?
Губернатор. Пять человек.
Ваншейдт. Дайте сорок.
Губернатор. Ну, шесть.
Ваншейдт. Тридцать пять.
Губернатор. Помилуйте, господин Ваншейт... ну семь.
Ваншейдт. Пятнадцать.
Губернатор. Господин Вайнштейн, это странно, мы как будто торгуемся...
Адъютант (входя). Срочная, ваше превосходительство.
Губернатор. Читайте.
Адъютант (читает). "Кутаисскому военному губернатору. Копия - жандармское
управление, полковнику Трейницу. Секретно. Срочно. Батуме забастовал
ротшильдовский завод. Стали все цеха. Тысяча пятьсот человек. Ожидаю
беспорядков. Ротмистр Бобровский".
Губернатор. Что?!
Ваншейдт. Вот, ваше превосходительство!
Губернатор. Сколько времени?
Адъютант. Половина третьего.
Губернатор. Ушел! Телефонируйте сейчас же на вокзал, чтобы дали паровоз,
салон. Я еду в Батум. И... это... ко мне на квартиру чтобы... это...
чемодан!
Адъютант. Слушаю. (Бежит к дверям.)
Ваншейдт. Я с вами, ваше превосходительство.
Губернатор. Что? Ах, да, да.
Чья-то рука в самых дверях подает адъютанту телеграмму.
Адъютант. Срочная!
Губернатор. Ну, ну?
Адъютант (читает). "Панаиота побили на Сидеридисе. Подпись: Сидеридис".
Губернатор (взревел). Что же это такое?! Я вас спрашиваю! Это еще что? Какой
Панаиот? Что это значит? Почему побили? Телеграфируйте этому
Сидеридису, чтобы он сию минуту перестал телеграфировать мне глупости!
Кто этот Панаиот?!
Ваншейдт. Панаиот, ваше превосходительство, это главный приказчик у
Сидеридиса.
Губернатор. Так, черт же их... так и телеграфируй - почему его побили?!
Шинель мне!
Курьер бросается к вешалке, Ваншейдт также.
Губернатор (всовывая руки в рукава). Зачем побили? Ведь если побили, значит,
есть в этом избиении какой-то смысл! Подкладка, цель, смысл!
Поспешно выходит, за ним бросается Ваншейдт.
Темно.
КАРТИНА ПЯТАЯ
Через сутки. Мартовский день. Наполовину выгоревший цех
на заводе в Батуме. Чувствуется, что и цех и двор залиты
громаднейшей толпой (ее самое не видно). Цепь городовых
не подпускает ее к какому-то помосту, на котором стоят
Трейниц, полицеймейстер, Ваншейдт и Кякива. Слышен
ровный гул толпы. Входит губернатор в сопровождении двух
казаков.
Губернатор. Здравствуйте, господа! Полицеймейстер. Здравия желаю, ваше
превосходительство.
Губернатор. Это что же? Целая толпа, как я вижу?
Полицеймейстер вздыхает.
Губернатор. Безобразие! Здравствуйте, рабочие! (Молчание.) Безобразие!
(Обращает свое внимание на Кякиву.) Это кто такой?
Трейниц. Переводчик при жандармском управлении, ваше превосходительство.
Кякива. Кякива, ваше превосходительство.
Губернатор. Безобра... а, хорошо. Вы им... ты им... э... любезнейший,
будете, будешь переводить. (Толпе.) Ну-с, выпустите вперед главных!
Толпа закричала на русском, грузинском языках: "У нас
нету главных!.. Нету у нас никаких главных!.. Все
одинаково терпим!.. Все мы здесь главные!.. Все!.."
Кякива. Они, ваше превосходительство, говорят, что нету главных, все
одинаково, говорят...
Губернатор. Что это значит - одинаково? Кякива (кричит по-русски). Что
значит - одинаково?
Губернатор. Не могут же объясняться сразу две тысячи человек! Пусть вперед
выпустят того, кто изложит их желания! (Полицеймейстеру.) Всегда надо
пробовать подействовать мерами кротости.
Полицеймейстер вздыхает. Выходят Геронтий, Порфирий и
Климов.
Губернатор. Ну, вот так-то лучше. Потолкуем, разберемся в ваших нуждах.
(Геронтию.) Ну, говори, что у вас тут, чем это вы недовольны?
Геронтий. Очень тяжко живем. Мучаемся.
Кякива. Он говорит, мучаются.
Губернатор. Понимаю я.
Толпа: "Нету житья!.. Плохо живем!.. Мучаемся!.."
Полицеймейстер. Тише вы! Один будет говорить!
Геронтий. Человек не может работать по шестнадцать часов в сутки. Поэтому
рабочие выставляют такие требования: рабочий день не должен превышать
десяти часов.
Губернатор. Гм...
Геронтий. Накануне воскресных и праздничных дней работу заканчивать в четыре
часа пополудни. Без разбору не штрафовать. Штраф не должен превышать
трети жалования. (По-грузински повторяет эти слова.)
Толпа: "Замучили штрафами!"
Климов. Штрафами последнюю рубаху снимают!
Ваншейдт. Это, ваше превосходительство, неправда.
Климов. Как это-неправда?
Толпа: "Как это неправда? Догола раздевают рабочего!
Живодерствуют!"
Полицеймейстер. Тише!
Губернатор. Дальше!
Геронтий. Всем поденным прибавить по двадцать копеек. Рабочим, которые возят
пустые банки, прибавить на каждую тысячу банок одну копейку.
Заготовщикам ручек прибавить десять копеек с тысячи. В лесопильном
прибавить двадцать копеек на каждую тысячу ящиков.
Ваншейдт (полицеймейстеру). Нет, вы все это слышите!
Полицеймейстер вздыхает.
Геронтий. И требуем мы еще, чтобы всех уволенных до последнего человека
приняли бы обратно.
Ваншейдт (полицеймейстеру). Нет, вы прислушайтесь!
Геронтий. И еще мы требуем, чтобы с нами не поступали как со скотом, чтобы
не избивали рабочих. Бьют рабочих на заводе.
Губернатор (Ваншейдту). То есть как?..
Ваншейдт. Я никогда не видел! Этого не может быть... клевета...
Порфирий. Не может быть?..
Климов. А вы посмотрите!
Из толпы выбегает рабочий-грузин, сбрасывает башлык с
головы, показывает лицо в кровоподтеках и ссадинах,
что-то выкрикивает по-грузински, потом кричит по-русски:
"Палкой, палкой!"
Губернатор (Ваншейдту). Э?..
Ваншейдт. В первый раз вижу... может быть, он что-нибудь украл?
Климов. Он щепок взял на растопку! Цена этой растопки на базаре меньше
копейки! И его били сторожа, как ломовую лошадь! Все свидетели! Весь
цех видел! Били!
Толпа вскричала страшно: "Били! Истязали! Насмерть
забивали! Все свидетели!"
Ваншейдт. Я же, ваше превосходительство, не могу отвечать за сторожа...
сторожа уволю...
Полицеймейстер. Замолчать!
Послышался полицейский свисток. Толпа стихает.
Губернатор (Геронтию). Все?
Порфирий (выступая вперед и стараясь держаться как можно спокойнее и
деловитее). Нет, еще не все. Есть еще одно, последнее требование: когда
мы работаем, мы получаем полную плату. Но если на заводе временно не
будет для всех работы, то чтобы устроили две смены и чтобы неработающая
смена получала половину платы.
Губернатор. Что? Я спрашиваю: что такое? Я ослышался или ты угорел? Э...
(Кякиве.) Переведи ему.
Кякива укоризненно вертит пальцами перед лбом, показывая
Порфирию, что тот угорел.
Губернатор. Где же это видано?.. Чтобы рабочий не работал, а деньги получал?
Я просто... э... не понимаю... (Трейницу.) Где же тут здравый смысл?
Порфирий, поворачиваясь к толпе, говорит раздельно и
внятно по-грузински. На лице у него выражение полного
удовлетворения, видно, что все козыри у него на руках.
Толпа в ответ весело прогудела.
Губернатор (Кякиве). Переведи.
Кякива (конфузясь). Он, я извиняюсь, ваше превосходительство, говорит про
ваших лошадей...
Губернатор. Ничего не понимаю! При чем здесь лошади?
Кякива. Он, я извиняюсь, ваше превосходительство, говорит, что, когда вы на
лошадях ездите, кормите их, а когда они в конюшне стоят, то ведь тоже
кормите. А иначе, говорит, они околеют и вам не на чем будет ездить. А
разве, говорит, человек не достоин того, чтобы его все время кормили?
Разве он хуже лошади? Это он говорит!
Полное молчание.
Трейниц (полицеймейстеру). Ага. Ну, понятно, чья это выдумка. Не будет добра
в Батуме.
Губернатор. Это... это что-то совершенно нелогичное... Возрази ему... то
есть переведи... Лошади - лошадями, а люди - это совсем другой, так
сказать, предмет. (Порфирию, укоризненно.) Драгоценнейший дружок!..
Переводи!
Кякива (Порфирию). Драгоценнейший дружок!
Губернатор. Что ты, черт тебя возьми, разве так переводят?!
Кякива. Он понимает, ваше превосходительство! "Драгоценнейший дружок" так и
будет на всех языках - драгоценнейший дружок!
Губернатор. Пошел вон!
Кякива скрывается за спиной губернатора.
Что такое? (Трейницу.) Я не совсем понимаю, полковник... это какой-то
идиот! Неужели жандармское управление не могло найти другого? Это же
попугай!
Трейниц (сухо). До сих пор он, ваше превосходительство, работал толково.
Губернатор. Не понимаю-с! (Рабочим.) Нет, друзья мои, это невиданно и
неслыханно!
Климов. А Путиловский?
Губернатор. Что Путиловский?
Климов. Когда Путиловский сгорел, покуда новые цеха отстроили, рабочие
получали половину жалованья.
Губернатор. Это... э... Путиловский - это Путиловский... а тут это
совершенно невозможно. Да-с! Нет, друзья мои, я вижу, что какие-то
злонамеренные люди вас смутили, пользуясь вашей доверчивостью... и...
требования ваши чрезмерны и нелепы. Насчет избитого будет произведено
строжайшее расследование, и, всеконечно, виновный понесет заслуженную
кару... а требования ваши... нет... Куда он девался, черт его возьми?
(Кякиве.) Что ты стоишь как истукан? Переводи.
Кякива кричит толпе по-грузински. Толпа отвечает
по-русски и по-грузински: "Не станем на работу, если
требования не будут выполнены!"
Губернатор. Что это они?
Кякива. Они не хотят.
Губернатор. Друзья мои! Как отец обращаюсь к вам, и притом отец родной:
прекратите забастовку и станьте на работу! Любя вас всей душой и жалея,
говорю.
Кякива переводит эти слова. Толпа отвечает: "Не исполнят
требования - не станем на работу!" Гул.
Губернатор. Что они?
Кякива. Они не хотят.
Губернатор. Ах, так? Упорствовать? Ну, так вот что: предупреждаю, что, если
завтра, когда дадут гудок, не станете на работу, я вас... по этапу... в
Сибирь!
Кякива (кричит рабочим,). Сибирь!
Климов. Сибирью грозите?
Порфирий. Не пугайте, не станем!
Геронтий. Не станем на работу!
Губернатор. Ах вот что! Бунт? (Полицеймейстеру.) Арестовать этих трех
подстрекателей! Я вам покажу!
Полицеймейстер (городовым). Берите этих трех!
Климов. Вон оно что! Вон оно как! Товарищи, полюбуйтесь на отца на родного,
губернатора! Выманил вперед, а теперь брать!
Геронтий (по-грузински). Обманул нас! Порфирий. Берите... Берите...
Рабочие: "Обманул губернатор!" Выбегает несколько
человек, кричат: "Берите и нас вместе с ними!"
Губернатор. Стражников сюда!
Выбегают несколько человек стражников, бросаются на
помощь городовым.
Трейниц (полицеймейстеру). Берите и этих, которые выбежали. Ничего.
Толпа возмущенно кричит. Послышался свист в толпе, ему
отвечает свисток одного из городовых.
Губернатор. Вы у меня в Сибири опомнитесь! (Полицеймейстеру.) Лошадей мне!
Темно.
КАРТИНА ШЕСТАЯ
Серенькое мартовское утро. Широкая улица в Батуме перед
зданием пересыльных казарм. Забор с воротами. Груды
щебня. На улице полицеймейстер и шеренга городовых.
Полицеймейстер бледен, взволнован, глядит то вдаль, то
на казармы. Из-за забора казарм слышен говор и гул. А
издали слышится приближающийся шум громаднейшей толпы.
Городовые испуганы, волнуются. Простучали подкатившие
фаэтоны. Выходит Трейниц. С ним - двое жандармов и
Кякива.
Трейниц (глядя вдаль). Ого! Слились? Сколько же это их?
Полицеймейстер (глухо). Тысяч пять, а то и все шесть.
Трейниц. Ого!
Полицеймейстер (тревожно). А что же его превосходительство?
Трейниц. Едет. (Глядит вдаль.) Ну, все как полагается... флаги... так,
так... и, кажется, чужие есть? Интересно... (Кякиве.) Кто впереди? Не
различишь?
Кякива. Не могу разобрать.
Полицеймейстер. С флагом, кажется, ротшильдовский...
Трейниц. Так.
Толпа слышна все ближе и ближе. В ней поют. Слышны
слова: "...нам не нужно златого кумира, ненавистен нам
царский чертог..." На "Марсельезу" накатывает другая
песня.
И "Марсельеза"... (Вглядывается.) А вот там, рядом с флагом... блуза,
пальто, шарф... Ведь это, пожалуй, чужой?
Полицеймейстер. Трудно сказать...
Трейниц. Да, чужой, чужой. Полковник, надо будет, как только приблизятся,
оторвать передовых и взять их.
Полицеймейстер. Трудно. С одними городовыми не справиться. Плотно идут. Надо
войска.
Трейниц. Нет, до войск надо. Надо, полковник.
Полицеймейстер (городовым). Как подойдут, отрезать переднюю шеренгу, взять
этих, у флага.
Городовой (с сомнением). Слушаю.
Кякива (Трейницу). Чужой, чужой, вижу теперь.
Трейниц. Ну конечно.
Послышался стук коляски, конский топот, входит
губернатор, с ним два казака.
Губернатор (остолбенев при виде надвигающейся толпы). Что же это такое?
Полицеймейстер. Войска бы, ваше превосходительство.
Губернатор. Надо было раньше разрезать их! Э... Как же это допустили?
Полицеймейстер. Ваше превосходительство, шесть тысяч...
Губернатор (казаку). Лети к капитану Антадзе, скажи, чтобы спешно выводил
роту сюда, к казармам!
Казак убегает. Толпа подходит с тяжким гулом. Впереди:
Хиримьянц с красным флагом, Теофил, Наташа, Миха. Сталин
рядом с Хиримьянцем. За ними стеной рабочие, среди них
есть женщины.
Сталин (обращаясь к окнам казарм). Здравствуйте, товарищи!
Теофил. Здравствуйте! Мы пришли!
Рабочие: "Мы пришли за вами!" Из окон казарм подошедших
увидели, из двора казарм их услышали. Двор отвечает
подошедшим криками: "Пришли! Товарищи! Глядите, пришли!
Освободите нас! Освободите!"
Трейниц (Кякиве). Он? Как думаешь?
Губернатор (толпе). Что это? Бунт? Убрать флаги! Остановиться!
Сталин. Мы больше никуда и не идем. Мы пришли. Освобождайте арестованных
рабочих!
Хиримьянц. Не уйдем без этого!
Рабочие: "Выпустите арестованных". В казармах крики:
"Освободите нас!"
Губернатор. Убрать флаги! Разойтись!
Трейниц (губернатору). Ваше превосходительство, попрошу вас немного назад...
Губернатор отступает, Трейниц обращается к
полицеймейстеру.
Ну-ка, попробуйте...
Полицеймейстер (городовым). Ну-ка, вперед, берите передних...
Городовые и двое жандармов врезываются в толпу.
Теофил. Куда?! Ах, драться?
Сталин. Не бойтесь их!.
Толпа наваливается на городовых, мнет их.
Теофил. Не бейте их! Не бейте! Только гоните их!
Крик в толпе: "Бей их, проклятых!"
Миха. Что ты делаешь?!
Покатились две полицейские фуражки, с одного из
городовых сорвали шашку.
Теофил. Вон отсюда!
Городовые побежали.
Сталин. Вы ничего не сделаете с нами! Освободите арестованных!
В казармах гул.
Губернатор (в смятении отступая). Всех перестреляю!
В это время ветхие ворота казарм начинают трясти
изнутри, а издали послышался приближающийся грохот
барабанов, а затем солдатская песня:
"Барабан наш громко бьет,
Царский воин шибко идет..."
Приближение войска взволновало толпу. Послышались крики:
"Войско идет! Ой, войско идет!" Выбежавшая из толпы
женщина кричит Сильвестру по-грузински: "Ой, войско!
Стрелять будет!"
Сильвестр (кричит по-грузински). Не посмеют стрелять в безоружных!
Крик в толпе: "Стрелять будут!"
Миха. Не будут стрелять! Стойте крепко!
Рота поет:
"Шел я речкой, камышом,
Видел милку нагишом!.."
Сталин. Товарищи! Нельзя бежать! Стойте тесно, стеной!
Рота поет:
"Шел я с милкою в лесу,
Милку дернул за косу!.."
Иначе солдаты навалятся, озвереют! Прикладами покалечат! Пропадет
народ!
Губернатор оборачивается в сторону войск, машет рукой,
что-то показывает. Вдали послышались глухо слова:
"Рота... стой!" Тотчас песню как будто обрубили. Донесся
глухо голос: "Горнист!.." Тогда тоскливо запел вдали
рожок. Кякива срывается с места и убегает.
Трейниц (губернатору). Ваше превосходительство! Что вы делаете?! Ведь вы на
линии!.. Сюда, сюда!.. (Убегает вместе с губернатором.)
Полицеймейстер (смертельно побледнев, метнулся). Эй! Эй! Эй! Городовые!..
(Убегает вместе с городовыми.)
Вторично спел рожок.
Наташа (вырвавшись из ряда). Солдаты, что вы делаете? Не смейте стрелять!
Сталин. Не смейте стрелять!
Теофил. Не смейте стрелять!
В это время ворота казарм начинают трещать. Отскакивает
скобка, ворота то приоткрываются, то закрываются. В них
видна спина околоточного без фуражки. Околоточный с
кем-то борется. Мелькнули еще две спины городовых, потом
лицо Порфирия. Околоточного выталкивают на улицу. В
это время в третий раз спел рожок, глухо долетели слова:
"Первая шеренга!.." Околоточный оборачивается в ту
сторону, откуда слышится рожок, бросается к забору, как
бы прилипает к нему. Выбегает рабочий вслед за
околоточным, кричит: "Товарищи!", бежит к флагу. За ним
выбегают Порфирий, еще двое рабочих, за ними Климов и
Геронтий.
Порфирий. Да здравст...
В это мгновенье ударил первый залп вдали. Порфирий
падает на колено. Геронтий падает, схватившись за плечо.
Наташа, закрываясь рукой как будто от резкого света,
бежит к забору, прижимается к нему, рядом с
околоточным. Падает ничком и остается неподвижен рабочий
рядом с Хиримьянцем. Выпадает из рук Хиримьянца флаг с
перебитым древком.
Порфирий (поднимается, кричит тем, что показались в воротах). Назад! Назад!
(Хромая, отходит к флагу, грозит кулаком, кричит.) Да сгорит ваше
право! Сгорит в аду!
Ударил второй залп, упал рабочий рядом с Теофилом.
Климов (схватываясь за грудь). Ах, это мне?.. Ну, бей, бей, еще!..
В толпе послышался истерический женский крик: "Убивают!"
Климов падает и затихает.
Сталин. Так?.. Так?.. (Разрывает на себе ворот, делает несколько шагов
вперед.) Собаки!.. Негодяи!.. (Наклоняется, поднимает камень, хочет
швырнуть его, но бросает его, грозит кулаком, потом наклоняется к
убитому Климову.)
Хиримьянц, Теофил, Миха схватывают камни, швыряют их.
Сталин (обернувшись к ним, кричит). Не надо! Назад!
Сильвестр (Порфирию). Берись за меня. (Выводит Порфирия.)
Ударил третий залп повыше. Толпа побежала. Сталин
оставляет Климова, наклоняется к Геронтию.
Геронтий. Воды дай...
Сталин. Берись этой рукой за шею... Берись! (Поднимает Геронтия, выводит
его, кричит Теофилу, который наклонился над убитым рабочим.) Не трогай
мертвых! Их поднимут! Уходите скорее!
Хиримьянц, Теофил, Миха скрываются. Вдали пропел рожок,
послышался глухо, далеко голос: "Рота!.. Рота,
кругом..." Сцена опустела, остаются лежащие неподвижно
Климов и двое рабочих.
Околоточный (отделяется от забора, крестится, бормочет). Господи Иисусе...
господи...
Наташа (приближается к нему медленно, вцепляется в грудь, рвет с плеч
погоны, хватает за горло). Ах ты... ах ты, палач...
Околоточный. Что ты?.. Что ты?.. Пусти! Я не убивал... я не убивал, я не
убивал... это капитан Антадзе убивал! А я... пусти!
В это время вбегают Сталин и Сильвестр.
Сильвестр. Наташа, что ты!.. Скорей!
Сталин. Бери ее силой!
Схватывают Наташу и увлекают ее со сцены. Околоточный,
крадучись под забором, удаляется. Послышался вдали
выкрик: "Марш!", грохнули барабаны, рота запела,
удаляясь:
"Барабан наш громко бьет,
Царский воин шибко идет!..
Жить солдату тяжело,
Между прочим, ничего!.."
Занавес
Конец второго действия
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
КАРТИНА СЕДЬМАЯ
Батум. Апрельская ночь. В квартире рабочего Дариспана.
За столиком сидит Сталин. Лампа с зеленым абажуром.
Рядом со Сталиным висит на стуле пальто, лежит фуражка.
Перед Сталиным - книга, он читает, делает пометки
карандашом. Где-то послышался стук, Сталин поднимает
голову, прислушивается.
Дариспан (в дверях). Это Константин. (Скрывается.)
Входит Канделаки.
Сталин. Выкопали?
Канделаки. Выкопали и отвезли. Там не найдут. (Садится.) Но, понимаешь,
Coco, я, клянусь богом, в жизни не видел таких беспокойных людей, как
эти жандармы. Такие вредные люди, что прямо невозможно работать. Мне
сейчас Качахмадзе рассказал, что они у него вчера на кладбище побывали.
Говорил, чтобы в течение некоторого времени на кладбище никто носу не
показывал бы. Они уж его на заметку взяли. Прямо деваться некуда. Такую
суету в жизни вызвали, что немыслимо.
Сталин. Надо и в их положение входить, и им посочувствовать. Жалованье
получают, пускай работают.
Пауза.
Канделаки. Coco! У меня мрачные мысли появились. Какое-то нехорошее
предчувствие.
Сталин. Да ведь предчувствия иногда обманывают. Они не всегда верные. А что
такое?
Канделаки. Эту квартиру, по-моему. Coco, надо менять. Томит меня
предчувствие, что они нитку к ней нашли. За типографию теперь я
спокоен. А вот квартира мне эта не нравится. Они теперь не успокоятся,
они за тобой, как за зверем, будут идти.
Сталин. Завтра утром выдумаем что-нибудь. Куда же сейчас, ночью? Еще хуже
можно попасться.
Пауза.
Канделаки. Да, не нравится... ох, не нравится мне Кединский переулок!.. Ну,
я пойду в кухню поесть, а то я проголодался. (Выходит.)
Где-то стук, потом глухие голоса.
Дариспан (в дверях). Там этот старик пришел, Реджеб, очень хочет с тобой
поговорить. Говорит, на минутку.
Сталин. Ну конечно, зови.
Дариспан уходит. Входит Реджеб.
Здравствуй, Реджеб.
Реджеб. Здравствуй. Я к тебе пришел.
Сталин. Садись, будь гостем.
Реджеб садится. Молчит.
Что скажешь приятного?
Реджеб молчит, вздыхает.
Ты что же, помолчать со мной пришел?
Молчание.
Ну, помолчим еще.
Молчание. Сталин начинает читать.
Ты так, старик, вздыхаешь, что я заплакать могу. Скажи хоть одно слово,
зачем меня мучаешь? Ты для чего пришел? Какое горе тебя терзает?
Реджеб. Я вчера важный сон видел.
Сталин. Какой сон?
Реджеб. Понимаешь, будто бы к нам в Зеленый Мыс приехал царь Николай.
Сталин. На дачу?
Реджеб. Конечно, на дачу. И, понимаешь, стал купаться. Снял мундир, брюки,
сапоги, все положил на берегу, намылился, и полез в море. А мы с тобой
сидим на берегу и смотрим. И ты говоришь: "А он хорошо плавает!" А я
говорю: "А как он голый пойдет, если кто-нибудь его мундир украдет?
Солдат нету..." А он, понимаешь, поплыл и утонул. И мы с тобой
побежали, кричим всем: "Царь потонул! Царь потонул!" И весь народ
обрадовался.
Сталин. Хороший сон. Так ты для того из Махинджаури шел в Батум, чтобы мне
сон рассказать?
Реджеб. Нарочно для этого шел.
Сталин. Хороший сон, но, что бы он такое значил, я не понимаю.
Реджеб. Значит, что царя не будет и ты всю Абхазию освободишь.
Молчание.
Я тебе скажу, что никакого сна я не видел.
Сталин. Я знаю, что ты не видел.
Реджеб. Я потому сон рассказывать стал, что не знаю, что тебе сказать. Сижу,
а выговорить не могу. Меня к тебе наши старики послали, чтобы ты одну
тайну открыл.
Сталин. Какую?
Реджеб. Слушай меня. Coco. Я - старик, и ты на меня не обижайся. Все тебя
уважают, говорят: модзгвари. Мы, абхазцы, - бедные и знаем, что ты нам
хочешь помочь. Но мы узнали, что ты по ночам печатаешь. Ведь печатаешь?
Сталин. Да.
Реджеб. А когда ты их в ход пустишь?
Сталин. Что?
Реджеб. Фальшивые деньги. Наши старики долго ломали головы: что человек
тайно печатает? Один старик, самый умный, догадался - фальшивые деньги.
И мы смутились. Говорят, хороший человек, но, понимаешь, мы ему деньги
помогать печатать не можем. Мы это не понимаем. Меня послали к тебе.
Говорят: узнай, зачем печатает? Что, он будет раздавать их народу?
Когда будет раздавать? По сколько?
Сталин. Да, дела... Коция!
Канделаки (входит). Что?
Сталин. При тебе есть хоть одна прокламация?
Канделаки. Одна есть.
Сталин. Дай-ка мне ее.
Канделаки дает листок Сталину, уходит.
Вот видишь: эти листки печатаем. Краски нет, это не деньги. А печатаем
вот зачем: народу живется очень худо, и, чтобы его поднять против царя,
нужно, чтобы все знали, что худо. Но если я начну по дворам ходить и
говорить - худо живется, худо живется, - меня, понимаешь ли, в цепи
закуют. А это мы раздаем, и тогда все знают. А деньги мы не печатаем,
это народу не поможет.
Реджеб (внезапно поднимаясь). До свиданья. Прости, что я тебе заниматься
помешал.
Сталин. Нет, ты погоди. Ты, пожалуйста, покажи эту бумажку вашим и объясни.
Реджеб. Хорошо, хорошо.
Сталин. Только осторожно.
Реджеб. Да понимаю я! (Идет к дверям.) Ц... ц.. Аллах, аллах...
(Останавливается.) Одно жалко, Что ты не мусульманин.
Сталин. А почему?
Реджеб. Ты прими нашу веру обязательно, я тебе советую. Примешь - я за тебя
выдам семь красавиц. Ты человек бедный, ты даже таких не видел. Одна
лучше другой, семь звезд!
Сталин. Как же мне жениться, когда у меня даже квартиры нет.
Реджеб. Потом, когда все устроишь, тогда женим. Прими мусульманство.
Сталин. Подумать надо.
Реджеб. Обязательно подумай. Прощай. (Идет.) Ц... ц.. фальшивые деньги...
ай, как неприятно! (Выходит.)
Сталин читает.
Канделаки (входит). Этот гимназист пришел, Вано, которого ты звал.
Сталин. Ага...
Канделаки (в дверях). Вот товарищ Coco. Входи. (Скрывается.)
Входит Вано в штатском пальто.
Вано. Я думал, что вы пожилой.
Сталин. Я тебя тоже не знал, но догадался, что ты молодой, потому что
сказали, что ты гимназист. Ты в шестом классе?
Вано. В шестом.
Сталин. Садись, закуривай. Я тоже был в шестом классе, но у нас, в
семинарии, другое разделение... Кроме того, в силу некоторых причин, я
не кончил курса. Работает кружок?
Вано. Работает.
Сталин. Сколько вас человек?
Вано. Двенадцать человек. Старшие классы.
Сталин. Ну конечно, не приготовишки, те от занятий политикой упорно
отлынивают. У вас месаме-дасисты работали?
Вано. Да. Но мы хотим с вами объединиться для борьбы.
Сталин. Правильно. Ты читал статью Ноя в "Квали"?
Вано. Читал.
Сталин. Ну, скажи сам, к чему будут годны люди, которых они воспитывают
такой литературой? Интеллигентные чернокнижники. Ты знаешь, они ко мне
прислали гонца. И он меня уговаривал, чтобы я уехал из Батума. Они
говорят, что здесь, в Батуме, невозможно вести борьбу и нелегальную
работу. А когда я спросил, почему? - он говорит: рабочие, говорит,
темные, а кроме того, улицы хорошо освещены, прямые, все, говорит,
видно как на ладони! До чего должен дойти человек, чтобы такую вещь
сказать. Выходит, не боритесь, потому что рабочие темные, а улицы
светлые! Впрочем, тебе нечего доказывать...
Дариспан (внезапно появляясь). Пастырь, беги!
Канделаки (вбегает). Туда, туда!
Послышался упорный стук с одной стороны, а потом
застучали и в другом месте.
И здесь уже!
Сталин (глянув в окно). Поздно. (Обращаясь к Вано.)
И ты еще... ах, бедняга! И нужно было, как на грех, тебе сегодня...
Вано. Я не боюсь. Лампу потушить, и в темноте...
Сталин. Что ты? Не трогай! Ну, слушай: прежде всего, не волнуйся, сиди
спокойно и держи себя вежливо. Меня ты не знаешь, я - безработный,
уроков ищу, вот тебя Канделаки и привел...
Стук становится громче, послышались глухие голоса.
Дариспан. Ну что же, открывать?
Сталин. Открывай.
Дариспан выходит, открывает. Громче застучали с другой
стороны, туда идет Канделаки, открывает там. Со стороны
кухни появляются околоточный, городовые, полицеймейстер.
Полицеймейстер. Останьтесь так, на местах.
С другого хода - два жандарма, Трейниц и Кякива.
Трейниц (околоточному). Сколько комнат в квартире?
Околоточный. Три комнаты, галерейка и погреб.
Трейниц. Так. (Дариспану, Канделаки, Сталину и Вано.) Прошу вывернуть
карманы.
Дариспан. Я не понимаю, почему...
Трейниц. Прошу вывернуть карманы.
Сталин, Канделаки, Вано показывают свои карманы. Жандарм
шарит в карманах сталинского пальто.
(Обращаясь к полицеймейстеру.) Прошу, полковник, приступить к обыску. В
особенности погреб.
Околоточный с двумя городовыми выходит, за ними один из
жандармов. Полицеймейстер выходит с двумя городовыми в
соседнюю комнату. Начинается обыск повсюду. Трейниц с
несколькими городовыми и жандармом остается в комнате.
Также и Кякива. Трейниц садится за стол.
Прошу всех сесть.
Сталин, Канделаки, Вано и Дариспан садятся, возле них
четверо городовых. Жандарм становится позади Сталина.
Кто хозяин квартиры?
Дариспан. Я. А что это значит, что в карманах шарят? Кто здесь что украл?
Кякива говорит что-то по-грузински Дариспану. Тот
отвечает неприязненно по-грузински же.
Трейниц. Переведи, что он сказал.
Сталин. Я могу перевести вам. Он говорит, что не хочет разговаривать с этим
человеком. (Указывает на Кякиву.) Это ему неприятно.
Трейниц (пристально смотрит на Сталина, но ничего ему не говорит и
обращается к Дариспану). Кто такой?
Дариспан. Паяльщик на заводе Манташева.
Трейниц. Имя как?
Дариспан. Дариспан.
Кякива. Да, он Дариспан.
Трейниц. Паспорт?
Дариспан вынимает из ящика стола паспорт, кладет на
стол. Трейниц обращается к Канделаки.
Ваше имя?
Канделаки. Константин Канделаки.
Трейниц. Ваш паспорт, пожалуйста.
Канделаки. Я потерял паспорт.
Трейниц. Напрасно, напрасно... (Обращается к Вано.) А вы, молодой человек?
Вано. Я - Вано Рамишвили.
Трейниц. Чем занимаетесь?
Вано. Ученик шестого класса Батумской гимназии.
Трейниц. Скажите! Никак нельзя этого подумать, глядя на ваше пальто. Что же,
вам, надо полагать, не нравится императорская форма, присвоенная
воспитанникам средних учебных заведений? Или выгнали?
Вано. Нет, не выгоняли.
Трейниц. Ну, это не уйдет, скоро выгонят. Ваш билет.
Вано подает билет.
По всему видно, что вы делаете большие успехи в науках. Церкви и
отечеству на пользу, родителям же вашим на утешение.
Сталин. Я сперва вас принял за жандармского офицера, но вы, по-видимому,
классный наставник.
Трейниц (внимательно и довольно долго смотрит на Сталина, но ничего не
отвечает и обращается к Вано). Зачем пришли в эту квартиру? Хорошо
знаком с хозяином?
Вано. Нет, я в первый раз здесь.
Полицеймейстер появляется в комнате, ведет обыск.
Трейниц. На огонек, что ли, забежал к незнакомому человеку?
Городовой, шаря в буфете, уронил и разбил тарелку.
Сталин (в это время тихо Канделаки). Выручай мальчишку.
Трейниц (полицеймейстеру). Нельзя ли, полковник, чтобы люди работали
поаккуратнее?
Полицеймейстер (городовому). Орясина! На трое суток. Ты что же? Забыл, что
на обыске?
Трейниц (Вано). Так зачем же сюда попал?
Канделаки. Это я его привел.
Трейниц. Я его спрашивал, а не вас. Зачем привел?
Канделаки (указывая на Сталина). Вот он приехал безработный искать уроков.
Вот я и привел Вано.
Трейниц (глядя на Сталина). Ах, интеллигентный человек? Очень приятно.
Полицеймейстер (городовому). Печку осмотри.
Трейниц (Вано). Почему в цивильном платье?
Вано. Я пальто разорвал под мышкой.
Трейниц. Надо было маме сказать, она бы зашила.
Полицеймейстер (городовому). Пепел есть?
Городовой. Никак нет, ваше высокоблагородие.
Полицеймейстер (Дариспану). Твоя книжка?
Дариспан. Нет. Сталин. Это моя книжка.
Полицеймейстер (читает). "Философия природы. Перевод Чижова. Сочинение
Гегеля". (Кладет книжку Трейницу на стол.)
Трейниц (Сталину). Философией занимаетесь? Смешанное общество в Кединском
переулке мы застали, полковник: манташевский паяльщик, другой без
документа, подозрительный гимназист и философ. (Сталину.) Итак, с кем
имею удовольствие разговаривать?
Сталин (указывая на разгром от обыска). Признаюсь, я этого удовольствия не
испытываю.
Кякива (Трейницу). Господин полковник, покорнейше вас прошу, чтобы я с ним
не разговаривал.
Трейниц. Что это значит?
Кякива. Язык у него такой резкий, он мне что-нибудь скажет, а я человек
тихий...
Трейниц. Это глупости. (Сталину.) Будьте добры, скажите, вы не были девятого
марта у здания Ардаганских казарм в толпе, произведшей беспорядки?
Сталин. Я вообще не был девятого марта в Батуме.
Трейниц. Гм... странно... мне показалось, что я вас видел. Впрочем, возможна
ошибка. (Кякиве.) А ты видел?
Кякива кивает головой.
Вот и он...
Сталин. Позвольте! Зачем же вы так верите с первого слова? Мало ли что ему
могло померещиться? Ведь он же кривой на один глаз!
Кякива (грустно улыбнувшись). Я - кривой...
Трейниц. Так позвольте узнать, кто вы такой?
Сталин. Позвольте мне, в свою очередь, узнать, кто вы такой?
Трейниц. Извольте-с, извольте-с. Помощник начальника Кутаисского губернского
жандармского управления полковник Трейниц. Владимир Эдуардович...
Сталин. Благодарю вас, дело не в фамилии, а я хочу узнать, чем вызвано это
посещение мирной рабочей квартиры, где нет никаких преступников,
полицией и жандармерией ?
Трейниц. Оно вызвано тем, что наружность этих мирных квартир часто бывает
обманчивой. Разрешите спросить, где вы остановились в Батуме?
Сталин. Я здесь остановился.
Трейниц (указывая на Дариспана). У него?
Канделаки. Нет, у меня.
Трейниц. Ах, вы тоже здесь живете? Позвольте, а вы не жили на Пушкинской
улице?
Канделаки. Жил и сюда переехал.
Трейниц. Часто квартиры меняете... (Сталину.) Итак, как ваша фамилия?
Сталин. Нижерадзе.
Трейниц. А имя и отчество?
Сталин. Илья Георгиевич.
Трейниц. Так.
Возвращаются околоточный и городовые, которые делали
обыск в погребе.
Околоточный (полицеймейстеру). Ничего не обнаружено.
Трейниц. Ну, это так и следовало ожидать. (Сталину.) Да, простите, еще один
вопрос... а впрочем, Иосиф Виссарионович, какие тут еще вопросы... Не
надо. По-видимому, от занятий философией вы стали настолько рассеянны,
что забыли свою настоящую фамилию?
Сталин. Ваши многотрудные занятия и вас сделали рассеянным. Оказывается, вы
меня знаете, а спрашиваете, как зовут.
Трейниц. Это шутка.
Сталин. Конечно, шутка. И я тоже пошутил. Какой же я Нижерадзе? Я даже такой
фамилии никогда не слыхал.
Трейниц (полицеймейстеру). У вас все, полковник?
Полицеймейстер. Все.
Трейниц. Все четверо арестованы. (Арестованным.) Предупреждаю на всякий
случай: чтобы в дороге без происшествий, конвой казачий. А они никаких
шуток не признают.
Сталин. Мы тоже вовсе не склонны шутить. Это вы начали шутить.
Трейниц (жандармам). С Джугашвили глаз не спускать! Марш!
Темно.
КАРТИНА ВОСЬМАЯ
Прошло более года. Жаркий летний день. Часть тюремного
двора, в который выходят окна двух одиночек. Вход в
канцелярию. Длинная сводчатая подворотня. Что происходит
в подворотне, - из окон тюрьмы не видно. Во дворе
появляются несколько уголовных с метлами. С уголовными -
первый надзиратель.
Первый надзиратель. Подметайте, сволочи. И чтобы у меня соринки не было, а
то вы все это у меня языком вылижете.
Уголовный. Как паркет будет!
Надзиратель уходит.
Пошел ты к чертовой матери вместе со своим губернатором!
Бросает метлу, садится на скамейку, делает затяжку,
передает окурок другому уголовному, который начал
подметать. Тот затягивается И передает третьему.
Сталин (появляется в окне за решеткой). Здорово.
Уголовный. А! Мое почтение.
Сталин. Какие новости?
Уголовный. Губернатор сегодня будет.
Сталин. Уже знаю.
Уголовный. Ишь ты как!
Сталин. Просьба есть.
Уголовный. Беспокойные вы, господа политические, ей-богу, не можете просто
сидеть. То у вас просьбы, то протесты, то газеты вам подай! А у нас
правило: сел - сиди!
Сталин. За что сидишь?
Уголовный (декламирует).
...А скажи-ка мне, голубчик,
Кто за что же здесь сидит?
Это, барин, трудно помнить,
Есть и вор здесь, и бандит!
Домушники мы, например.
Сталин. Письмо на волю надо передать.
Уголовный. Сегодня какой хохот у нас в камере стоял! Хватились - глядь, а
папиросы кончились! Прямо животики надорвали, до того смешно: курить
хочется, а курить нечего.
Сталин. Лови... (Выбрасывает во двор пачечку.)
Уголовный. Данке зер! Ну-ка, от окна отходи! (Усердно подметает.)
Проходит надзиратель, скрывается.
Письмо в пачке?
Сталин. Ну конечно.
Уголовный (хлопнув кулаком по ладони). Марка, штемпель, пошло ваше письмо.
Сталин. Есть еще вопрос. В женском отделении есть одна, по имени Наташа.
Сидит в одиночной камере, из Батума недавно переведена. Волосы такие
пышные.
Уголовный. Гм... волосы пышные? Понимаем.
Сталин. Тут очень просто понимать: сидит женщина в тюрьме, и все. Так вот,
требуется узнать, как она себя чувствует.
Уголовный. Плакать стала.
Сталин. Плакать? (Пауза.) Ты, я вижу, человек очень ловкий и остроумный...
Уголовный. Не заливай, не заливай, мы не горим.
Сталин. Я не заливаю. А просто я тебя наблюдал из окна. Сейчас женщин
поведут на прогулку, так ты бы ее научил, чтобы она прошлась здесь, а
то она все в том конце, как на зло, ходит. А ты чем-нибудь займи
надзирателя.
Уголовный становится грустен, свистит.
Сталин. Лови. (Бросает пачечку.)
Уголовный. Отходи!
эээПервый надзиратель. А что же вы, бестии, не поливаете?
Проходят три женщины, за ними медленно идет Наташа.
Надзиратель проходит.
Уголовный (с лейкой, перед Наташей). Вы, барышня, здесь погуляйте, у этого
окошка вам будет очень интересно. Там вас ваш главный спрашивал.
Наташа. Какой главный? Никакого я главного не знаю. Отойдите от меня.
Уголовный. Вы в тюрьме в первый раз, а я, надо вам доложить, в пятый.
Домушники наседками не бывают. Наше дело - с фомкой замки проверять.
Идите к тому окну. (Уходит.)
Наташа (ему вслед). Шпион проклятый!
Первый надзиратель (появился, смотрит вдаль). Что же вы, сукины дети,
крыльцо поливаете? Это чтобы губернатор поскользнулся? (Устремляется
вон.)
Наташа присаживается на скамейку.
Сталин (появляется в окне). Что значат, орлица, твои слезы? Неужели тюрьма
надломила тебя?
Наташа. Coco?
Сталин. Не называй.
Наташа. Ты здесь? Ты... Я думала, что ты уже в Сибири... ты... эээ?
Сталин. Второй год пошел, как здесь сижу. А ты, говорят люди, плачешь? А?
Наташа?
Наташа. Плачу, плачу, сознаюсь. Одна сижу, тоска меня затерзала, вот и
плачу.
Сталин. Когда началось?
Наташа. С неделю.
Сталин. Перестань, не плачь, они тебя сжуют... погибнешь... Что хочешь делай
в тюрьме, только не плачь!
Наташа. Я повеситься хотела...
Сталин. Что ты?! Своими руками отдать им свою жизнь? Я не слыхал этих слов,
а ты их не говорила. Слушай меня: тебе осталось терпеть очень немного.
Имей в виду, что и Сильвестра, и Порфирия уже выпустили.
Наташа. Что? Выпустили? Правда?
Сталин. Точно знаю. И тебе, конечно, остались последние дни здесь, в тюрьме.
Они за тобой ничего не могут найти. Но заклинаю - не плачь!
Уголовный (появляется). Эй... эй... эй...
Первый надзиратель (как коршун, влетает за ним). Я тебе покажу! Ты что же,
мне, стерва, дорогу режешь? (Ударяет уголовного, подбегает к Наташе.)
Это что такое? (Бьет Наташу ножнами шашки.)
Уголовный. Эх... сгорели.
Наташа. Не смейте! Не смейте! Он бьет меня!
Сталин (приближает лицо к решетке, взявшись за нее обеими руками). Эй,
товарищи! Слушайте! Передавайте! Женщину тюремщик бьет! Женщину
тюремщик бьет!
Канделаки (появляется в соседнем окне). Протестуйте, товарищи! Женщину бьют!
Женщину бьют! (Стучит металлической кружкой по решетке.)
Крик побежал дальше по тюрьме: "Женщину бьют!"
Уголовный. Ну, теперь пошло!
Первый надзиратель (Сталину). Долой с окна!
Второй надзиратель выбегает, схватывает Наташу за руку.
Наташа. Не трогай меня!
Сталин. Оставь руку, собака!
Канделаки. Смотрите, во дворе женщину истязают! (Выбрасывает в окно свою
кружку.)
Сталин выбрасывает в окно кружку,
Уголовный. Так их, так!..
Первый надзиратель. Слезай, стрелять буду!
Сталин. Стреляй.
Первый надзиратель стреляет в воздух. От этого шум
разрастается, вся тюрьма кричит, грохочет. Из канцелярии
выбегает начальник тюрьмы, за надзиратель.
А ты выстрели в окно.
Наташа. Меня бьют!
Второй надзиратель. Я тебя не трогаю.эээ
Начальник тюрьмы. Прекратить это!
Первый надзиратель (указывая на окно Сталина). Вот, ваше высокоблагородие...
В тюрьме послышались разрозненные голоса: "Отречемся от
старого мира!.."
Начальник тюрьмы. Уводите ее скорее отсюда!
Двое надзирателей тащат Наташу.
Наташа. Помогите!
Начальник тюрьмы (надзирателям). За мной!.. (Убегает в тюрьму с
надзирателями.)
Появляются уголовные, оставшиеся без надзора.
Уголовный. Что ж, подбавим, чтоб веселей было? (Швыряет кружку в подвальное
окно.)
Слышно, как лопнуло стекло.
(Поет, весело приплясывая.)
Царь живет в больших палатах,
И гуляет, и поет!
Уголовные (подхватывают).
Здесь же, в сереньких халатах,
Дохнет в карцерах народ!..
Из подворотни выходит губернатор, адъютант и казак.
Уголовный немедленно выстраивает своих в шеренгу.
Губернатор. Что такое здесь?!
Уголовный. Бунт происходит, ваше высокопревосходительство!
Адъютант (тихо). Действительно...
Губернатор. Телефонируйте в Хоперский полк, вызывайте сотню.
Адъютант убегает в канцелярию.
А это что за люди?
Уголовный. Подметалы, ваше высокопревосходительство! (С чувством,)
Чистота кругом и строго!
Где соринка или вошь?
В каждой камере убогой
Подметалу ты найдешь!
Губернатор (механически). Молодцы! (Опомнившись.) Ты мне стихи какие-то
сказал? Кто вы такие, политические?
Уголовный. Помилуйте, ваше высокопревосходительство, ничего такого за нами
нету. Рецидивисты мы, домушники, ширмагалы, мойщики.
Губернатор. Черт знает что такое!
Уголовный подает засаленную бумагу губернатору.
Губернатор. А это что... э...
Уголовный. Прошение, ваше высокопревосходительство. Курева нет. Припадаем к
вам.
Губернатор. Гм... дай сюда.
Выбегает начальник тюрьмы, столбенеет при виде
губернатора. Тюрьма начинает стихать.
Что у вас происходит в тюрьме?! В тюремном замке поют, полное
безначалие... Меня встречает неизвестный, рапортует почему-то стихами!
Начальник тюрьмы (грозно уголовным). По камерам...
Губернатор. И, должен сказать, единственный человек со светлой головой -
этот рецидивист, толково очертивший положение.
Начальник тюрьмы (смягчаясь). По камерам, по камерам...
Уголовный. Кругом марш!.. (Уводит уголовных.)
В это время выходит из тюрьмы Сталин в сопровождении
двух надзирателей. Тюрьма затихает.
Губернатор. Кто это такой?
Начальник тюрьмы. Иосиф Джугашвили, ваше превосходительство. Из-за него все
и загорелось.
Губернатор. Это что же значит?
Сталин. Надзиратели вызвали беспорядки в тюрьме.
Губернатор. То есть как?! Как же надзиратели могут вызвать беспорядки в
тюремном замке?
В это время появляется Трейниц и становится сзади
губернатора.
Сталин. Они зверски обращаются с заключенными. Тюрьма требует, чтобы
устранили вот этого человека, который сегодня избил заключенную
женщину.
Губернатор. То есть как требуют? Как это тюрьма может требовать? А, Владимир
Эдуардович, здравствуйте. Вот этот самый, Джугашвили.
Трейниц. Я его хорошо знаю. (Тихо губернатору.) Я специально приехал.
Расследование по делу Джугашвили закончено. Самое лучшее было бы
перевести его из этой тюрьмы в батумскую, затем останется только ждать
высочайшего повеления. Что касается надзирателя, то я полагал бы, что
его действительно лучше отстранить и дело разобрать. Это приведет к
успокоению.
Губернатор. Вы полагаете?
Адъютант (подходит). Сотня выехала.
Губернатор (Сталину). Мы и без вас разберем дело надзирателя. (Начальнику
тюрьмы.) Разобрать дело этого надзирателя и отстранить от службы впредь
до выяснения.
Первый надзиратель. Ваше превосходительство...
Губернатор. Молчать.
Сталин. У заключенных есть еще одно требование.
Губернатор. У них не может быть требований, а только прошения.
Сталин. Заключенные требуют, чтобы им была дана возможность купить на свои
деньги тюфяки. Люди спят на холодном полу и от этого болеют и мучаются.
Трейниц (тихо губернатору). Эту претензию можно удовлетворить.
Губернатор. Удовлетворить эту претензию! Разрешить им... э... приобрести на
рынке за свой счет тюфяки.
Сталин. Товарищи! Администрация удовлетворила требования!
Канделаки (в окне). Товарищи, передавайте! Администрация удовлетворила
требования!
Крик передается дальше.
Губернатор. Прошу не делать никаких оповещений.
Трейниц (начальнику тюрьмы). Будьте добры... чтобы вещи его вынесли сюда.
Начальник тюрьмы (надзирателю). Вещи Джугашвили сюда.
Надзиратель убегает.
Губернатор (Сталину). А вас оповещаю: расследование по вашему делу
закончено. Вас Переводят в другой тюремный замок, где вы будете
пребывать до тех пор, пока не получится о вас высочайшего повеления.
Послышался топот подъехавшей к тюрьме конной сотни.
Владимир Эдуардович, вы возьмете на себя осуществить его перевод?
Трейниц. Конечно, ваше превосходительство.
Губернатор. А как быть с казаками?
Трейниц. Я попрошу сотню отпустить, оставив мне один взвод для конвоя
Джугашвили.
Губернатор. Очень хорошо. Ну, я еду. До свиданья, полковник. (Начальнику
тюрьмы.) А вам объявляю строгий выговор. Я застал в замке у вас полное
безобразие. (Удаляется в сопровождении адъютанта.)
Надзиратель выносит сундучок.
Трейниц (Сталину). Извольте следовать. (Начальнику тюрьмы.) Отправьте,
пожалуйста, его к фаэтону.
Начальник тюрьмы делает знак надзирателям. Те выбегают в
подворотню и там становятся цепью под стеной.
Сталин (взяв сундучок). Прощайте, товарищи! Меня переводят!
Канделаки (в окне). Прощай! Прощай! Прощай!
Побежал по тюрьме крик: "Прощай!" Один из надзирателей
вынимает револьвер, становится сзади Сталина.
Трейниц. Опять демонстрируете?
Сталин. Это не демонстрация, мы попрощались. (Идет в подворотню.)
Начальник тюрьмы (тихо). У, демон проклятый... (Уходит в канцелярию).
Когда Сталин равняется с первым надзирателем, лицо того
искажается.
Первый надзиратель. Вот же тебе!.. Вот же тебе за все... (Ударяет ножнами
шашки Сталина.}
Сталин вздрагивает, идет дальше. Второй надзиратель
ударяет Сталина ножнами.
Сталин швыряет свой сундучок. Отлетает крышка. Сталин
поднимает руки и скрещивает их над головой, так, чтобы
оградить ее от ударов. Идет. Каждый из надзирателей, с
которым он равняется, норовит его ударить хоть раз.
Трейниц появляется в начале подворотни, смотрит в небо.
Сталин (доходит до ворот, поворачивается, кричит). Прощайте, товарищи!
Тюрьма молчит.
Первый надзиратель. Отсюда не услышат.
Трейниц. А что же там вещи разроняли? Подберите вещи.
Первый надзиратель подбегает к сундучку, поднимает его,
направляется к воротам. Сталин встречается взглядом с
Трейницем. Долго смотрят друг на друга.
Сталин (поднимает руку, грозит Трейницу). До свиданья!
Занавес
Конец третьего действия
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
КАРТИНА ДЕВЯТАЯ
До открытия занавеса глухо слышна военная музыка,
которая переходит в звон музыкальной шкатулки. Затем он
прекращается, и идет занавес. Летний день. Кабинет
Николая II во дворце в Петергофе. На одном из окон висит
клетка с канарейкой. Музыкальная шкатулка стоит на
маленьком столе недалеко от письменного стола. Николай
II, одетый в малиновую рубаху с полковничьими погонами и
с желтым поясом, плисовые черные шаровары и высокие
сапоги со шпорами, стоит у открытого окна и курит,
поглядывая на взморье. Потом открывает дверь, выходящую
в сад, и садится за письменный стол. Нажимает кнопку
звонка. В дверях, ведущих во внутренние помещения,
показывается флигель-адъютант.
Николай. Пригласите.
Флигель-адъютант. Слушаю, ваше императорское величество. (Выходит.)
Входит министр, кланяется, в руках у министра портфель.
Николай (приподнимаясь министру навстречу). Очень рад вас видеть, Николай
Валерианович, прошу садиться. (Пожимает руку министру.)
Министр садится.
А вы портфель сюда... а то вам будет неудобно. (Указывает на стол.)
Министр кладет портфель на край стола. Николай
предлагает министру папиросы.
Прошу вас, курите.
Министр. Благодарствуйте, ваше величество, я только что курил.
Николай. Как здоровье вашей супруги?
Министр. Благодарствуйте, ваше величество, но, увы, не совсем благополучно.
Николай. Ай-яй-яй! А что такое?
Министр. Последний месяц ее беспокоят какие-то боли вот здесь... в
особенности по ночам...
Николай. Между ребрами?
Министр. Да.
Николай. Я вам могу дать очень хороший совет, Николай Валерианович. У
императрицы были точно такие же боли и совершенно прошли после одного
купанья в Саровском прудике. Да я сам лично, искупавшись, получил
полное физическое и душевное облегчение.
Министр. Это тот самый прудик, в котором купался святой?
Николай. Да.
Министр. Говорят, что были случаи полного исцеления от самых тяжелых
недугов?
Николай. Помилуйте! Я сам на открытии видел, как вереницы людей на костылях
(приподнимается, показывает разбитого человека на костылях) буквально
ползли к прудику и, после погружения в воду, выходили, отбрасывали
костыли и - хоть сейчас в гвардию!
Министр. Мне остается очень пожалеть, что моя жена не могла приехать на
открытие мощей.
Николай. Этому горю можно помочь. Императрица захватила с собой оттуда ведра
четыре этой воды, и мы ее разлили по пузырькам. И если б вы знали,
сколько народу являлось уже к императрице благодарить ее! Я сегодня же
попрошу ее, чтобы она послала вашей супруге пузыречек.
Министр. Чрезвычайно обяжете, ваше величество. Только позвольте спросить,
каким способом лечить этой водой?
Николай. Просто натереть ею больное место, несильно, а потом завязать
старенькой фланелькой. Недурно при этом отслужить и молебен
новоявленному угоднику божию преподобному Серафиму, чудотворцу
Саровскому.
Министр. Сию секунду. Я запишу, ваше величество. (Записывает сказанное
Николаем.) А я ничего этого не знал.
Николай. Не удивительно, что помогает затворник угодник божий. А вот там
же, на открытии, мне представили обыкновенного странника. Василий
босоногий. Никогда сапог не надевает.
Министр. Неужели и зимой?
Николай. Да. Он мне объяснил, что раз уж снял сапоги, то не надо их надевать
никогда. Так вот Владимир Борисович... у него сделались судороги в ноге
там же, в Сарове. Доктора ничем не могли помочь, а выкупаться ему было
нельзя, потому что он был слегка простужен. И вот этот самый Василий,
на моих глазах, исцелил Владимира Борисовича. Велел ему обыкновенные
бутылочные пробки нарезать ломтиками, как режут колбасу, и нанизать на
ниточку. И это ожерелье надеть на голую ногу, предварительно намазав
слюною под коленом. Владимир Борисович пять минут походил с голою
ногой, и все кончилось!
Дунул ветер, шевельнул бумаги на столе. Министр
кашлянул.
Простите, вы боитесь сквозняка? (Поднимается, чтобы закрыть дверь.)
Министр. Нет, ради бога, не беспокойтесь, ваше величество! (Закрывает
дверь.)
Николай. Что же у вас там, в портфеле?
Министр (вынув бумаги). На ваше повеление дело о государственном
преступлении, совершенном крестьянином Горийского уезда Тифлисской
губернии Иосифом Виссарионовичем Джугашвили.
Николай. Вот так-так! Крестьянин!
Министр. Он, ваше величество, крестьянин только по сословию, землепашеством
не занимался. Он проходил курс духовной семинарии в Тифлисе.
Николай. Срам!
Министр. Обвинен в подстрекательстве батумских рабочих к стачкам и в участии
в мартовской демонстрации прошлого года в Батуме.
Николай. Какая же это демонстрация?
Министр (поглядывая в бумаги). Шеститысячная толпа рабочих явилась к зданию
казарм с требованием освобождения арестованных.
Николай. Ай-яй-яй!
Министр. Толпа была рассеяна войсками.
Николай. Были ли убитые?
Министр (глянув в бумаги). Четырнадцать убитых пятьдесят четыре раненых.
Никола Это самое неприятное из всего, что мне доложили. Какая часть
стреляла?
Министр. Рота 7-го кавказского батальона.
Николай. Этого без последствий оставить нельзя. Придется отчислить от
командования командира батальона, и командира роты. Батальон стрелять
не умеет. Шеститысячная толпа - и четырнадцать человек.
Министр. Что угодно будет вашему величеству повелеть относительно
Джугашвили? (Закашлялся.) Преступление, подобное совершенному
Джугашвили, закон карает высылкой в Восточную Сибирь.
Николай. Мягкие законы на святой Руси.
В это время донеслась из Петергофа военная музыка.
Канарейка вдруг оживилась, встопорщилась и пропела
тенором: "...жавный!..", потом повторила: "...жавный
ца...", засвистела и еще раз пропела: "си... жавный!"
Николай. Запела! Целое утро ничего не мог от нее добиться! (Очень
оживившись, подходит к клетке и начинает щелкать пальцами и
дирижировать.)
Канарейка засвистела.
Николай Валерианович, не в службу, а в дружбу... ей надо подыграть на
органчике... будьте так добры, там, на столике... повертите ручку!
Министр подходит к шкатулочке, вертит ручку, шкатулочка
играет. Канарейка начинает петь: "Боже, царя храни!",
свистит, потом опять поет то же самое; "...боже, царя
храни..."
Министр. Поразительно!
Военная музыка уходит.
Что же это за такая чудесная птица?
Николай. Ее презентовал мне один тульский почтовый чиновник. Год учил ее.
Министр. Потрясающее явление!
Николай. Ну, правда, у них там, в Туле, и канарейки какие! (Щелкает
пальцами.)
Канарейка: "...бо... ря... ни... ца...", свистит, потом
опять налаживается: "храни!.. боже, царя храни..." и
наконец, запустив руладу, наотрез отказывается дальше
петь. Министр перестает крутить ручку.
Опять что-то в ней заело!
Министр. Все-таки какое же искусство!
Николай. Среди тульских чиновников вообще попадаются исключительно
талантливые люди.
Министр. Она поет только первую фразу гимна?
Николай. И то слава богу! Так на чем же мы остановились, Николай
Валерианович?
Министр. Срок. Полагается трехлетний.
Николай. Эхе-хе... Ну что же...
Министр. Разрешите формулировать, ваше величество? (Читает по бумаге, правя
карандашом.) "На основании высочайшего повеления, последовавшего сего
числа июля 1903 года по всеподданнейшему докладу министра юстиции,
крестьянин Иосиф Виссарионович Джугашвили, за государственное
преступление, подлежит высылке в Восточную Сибирь под гласный надзор
полиции сроком на три года".
Николай. Утверждаю.
Министр. Разрешите откланяться, ваше величество?
Николай. До свиданья, Николай Валерианович, был очень рад повидать вас.
Министр, кашляя, выходит. Оставшись один, Николай
открывает балконную дверь, садится за стол, нажимает
кнопку. Появляется флигель-адъютант.
Пригласите.
Флигель-адъютант. Слушаю, ваше величество. (Выходит.)
В дверях появляется военный министр Куропаткин,
кланяется.
Темно.
КАРТИНА ДЕСЯТАЯ
...Из темноты - огонь в печке. Опять Батум, опять в
домике Сильвестра. Зимний вечер. С моря слышен шторм.
Порфирий у огня сидит на низенькой скамеечке. Потом
встает (он стал чуть заметно прихрамывать) и начинает
ходить по комнате, что-то обдумывая и сам с собою тихо
разговаривая.
Порфирий (горько усмехнувшись). Она больше Франции... Что ж тут поделаешь...
тунгузы... (Подходит к окну.) Вот так ночка... Черт месяц украл и
спрятал в карман... Да...
Послышался звук отпираемой ключом двери. Входит Наташа.
Ну что, есть что-нибудь?
Наташа (снимая пальто). Ничего нет ни у кого.
Порфирий. Я так и ожидал. (Пауза.) Надо глядеть правде в глаза. Нет вести ни
у кого. И больше никто и никогда от него вестей не получит.
Наташа. Что это значит? Почему?
Порфирий. Потому, Наташа, что он погиб.
Наташа. Что ты говоришь и зачем? Ведь для того, чтобы так сказать, нужно
иметь хоть какое-нибудь основание.
Порфирий. Основание у меня есть. Никто так, как я, не знал этого человека! И
я тебе скажу, что, куда бы его ни послали, за эти два месяца он сумел
бы откуда угодно подать весть о себе. А это молчание означает, что его
нет в живых.
Наташа. Что ты каркаешь, как ворон? Почему непременно он должен был
погибнуть?
Порфирий. Грудь... у него слабая грудь. Они знают, как с кем обойтись: одних
они хоронят, прямо в землю зарывают, а других в снег! А ты не знаешь,
что такое Сибирь. Эта Иркутская губерния больше, чем Франция! Там в
июле бывает иногда иней, а в августе идет снег! Стоило ему там
захворать, и ему конец. Я долго ломал голову над этим молчанием, и я
знаю, что говорю. Впрочем, может быть и еще одно: кто поручится, что
его не застрелили, как Ладо Кецховели, в тюрьме?
Наташа. Все это может быть, но мне больно слушать. Ты стал какой-то
малодушный. Что ты все время предполагаешь только худшее? Надо всегда
надеяться.
Порфирий. Что ты сказала? Я малодушный? Как у тебя повернулся язык? Я
спрашиваю, как у тебя повернулся язык? Кто может отрицать, что во всей
организации среди оставшихся и тех, что погибли, я был одним из самых
боевых! Я не сидел в тюрьме? А? Я не был ранен в первом же бою, чем я
горжусь? Тебя не допрашивал полковник Трейниц? Нет? А меня он
допрашивал шесть раз! Шесть ночей я коверкал фамилию Джугашвили и
твердил одно и то же - не знаю, не знаю, не знаю такого! И разучился на
долгое время мигать глазами, чтобы не выдать себя! И Трейниц ничего от
меня не добился! А ты не знаешь, что это за фигура! Я не меньше, чем
вы, ждал известий оттуда, чтобы узнать, где он точно! Я надеялся...
почему? Потому что составлял план, как его оттуда добыть!
Наташа. Это был безумный план.
Порфирий. Нет! Он безумным стал теперь, когда я всем сердцем чувствую, что
некого оттуда добывать! И сказал я тебе это для того, чтобы мы зря себя
не терзали. Это бесполезно.
Послышался тихий стук в окно.
Кто же это может быть? Отец стучать в окно не станет. (Подходит к окну.)
Наташа. Кто там?
Порфирий. Такая тьма, не разберу...
Наташа (глядя в окно). Солдат не солдат... Чужой...
Порфирий. Ах, чужой... Тогда это нам не надо. Я знаю, какие чужие иногда
попадаются. Опытные люди! Погоди, я спрошу. (Уходит из комнаты.
Послышался глухо его голос.) Что нужно, кто там?
Сталин (очень глухо, неразборчиво, сквозь вой непогоды). Сильвестр еще здесь
живет?
Порфирий (глухо). Но его нету дома. А кто вы такой?
Сталин. А Наташу можно позвать?
Порфирий. Да вы скажите, кто спрашивает?
Сталин. А кто это говорит?
Порфирий. Квартирант.
Сталин. А Порфирия нету дома?
Порфирий. Да вы скажете, кто вы такой, или нет?
Сталин умолкает. Послышались удаляющиеся шаги.
Наташа (смотрит в окно). Постой, постой, постой! Что ты делаешь? (Срывается
с места.)
Порфирий выбегает ей навстречу из передней.
Порфирий. Что такое?
Наташа (убегая в переднюю). Да ты глянь!..
Порфирий подбегает к окну, всматривается. Брякнул
крючок, стукнула дверь в передней. Наташа выбежала из
дому. Ее голос послышался глухо во дворе.
Постой! Остановись, вернись!
Порфирий (некоторое время смотрит в окно, потом пожимает плечами). Не
разберу... (Идет к передней.)
Из передней входят Наташа и Сталин. Сталин в солдатский
шинели и фуражке.
Наташа. Смотри!
Порфирий. Этого не может быть!.. Coco!..
Сталин. Здравствуй, Порфирий. Ты меня поверг в отчаяние своими ответами. Я
подумал, куда же я теперь пойду?
Порфирий. Но, понимаешь... понимаешь, я не узнал твой голос...
Наташа (Сталину). Да снимай шинель!
Порфирий. Нет, постой! Не снимай! Не снимай, пока не скажешь только одно
слово... а то я с ума сойду! Как?!
Сталин. Бежал. (Начинает снимать шинель.)
Порфирий. Из Сибири?! Ну, это... это... я хотел бы, чтобы его увидел только
один человек, полковник Трейниц! Я хотел бы ему его показать! Пусть он
посмотрит! Через месяц бежал! Из Сибири! Что же это такое? Впрочем, у
меня было предчувствие на самом дне души...
Наташа. У тебя было предчувствие? На дне души? Кто его сейчас хоронил,
только что вот? (Сталину.) Он тебя сейчас только похоронил здесь, у
печки... у него, говорит, грудь слабая...
Сталин идет к печке, садится на пол, греет руки у огня.
Сталин. Огонь, огонь... погреться...
Порфирий. Конечно, слабая грудь, а там - какие морозы! Ты же не знаешь
Иркутской губернии, что это такое!
Сталин. У меня совершенно здоровая грудь и кашель прекратился...
Теперь, когда Сталин начинает говорить, становится
понятным, что он безмерно утомлен.
Я, понимаете, провалился в прорубь... там... но подтянулся и вылез... а
там очень холодно, очень холодно... И я сейчас же обледенел... Там все
далеко так, ну, а тут повезло: прошел всего пять верст и увидел
огонек... вошел и прямо лег на пол... а они сняли с меня все и тулупом
покрыли... Я тогда подумал, что теперь я непременно умру, потому что
лучший доктор...
Порфирий. Какой доктор?
Сталин. А?.. В Гори у нас был доктор, старичок, очень хороший...
Порфирий. Ну?
Сталин. Так он мне говорил: ты, говорит, грудь береги... ну, я, конечно,
берегся, только не очень аккуратно... И когда я, значит, провалился...
там... то подумал: вот я сейчас буду умирать. Конечно, думаю, обидно...
в сравнительно молодом возрасте... и заснул, проспал пятнадцать часов,
проснулся, а вижу - ничего нет. И с тех пор ни разу не кашлянул.
Какой-то граничащий с чудом случай... А можно мне у вас ночевать?
Наташа. Что же ты спрашиваешь?
Порфирий. Как же ты спрашиваешь?
Сталин. Наташа, дай мне кусочек чего-нибудь съесть. "
Наташа. Сейчас, сейчас, подогрею суп...
Сталин. Нет, нет, не надо, умоляю! Я не дождусь. Дай чего-нибудь, хоть
корку, а то, ты знаешь, откровенно, двое суток ничего не ел...
Порфирий (бежит к буфету). Сейчас, сейчас, я ему дам... (Вынимает из буфета
хлеб и сыр, наливает в стакан вино.) Пей.
Сталин, съев кусок и глотнув вина, ставит стакан и
тарелку на пол, кладет голову на край кушетки и
замолкает.
Наташа. Coco, ты что? Очнись...
Сталин. Не могу... я последние четверо суток не спал ни одной минуты...
думал, поймать могут... а это было бы непереносимо... на самом конце...
Порфирий. Так ты иди ложись, ложись скорей!
Сталин. Нет, ни за что! Хоть убей, не пойду от огня... пусть тысяча
жандармов придет, не встану... я здесь посижу... (Засыпает.)
Порфирий. Что же с ним делать?
Наташа. Оставь! Оставь его! Отец вернется, вы его тогда сонного перенесете.
Порфирий. Ага... Ну, хорошо...
В это время слышно, как открывают входную дверь.
Вот отец! Только молчи, ничего не говори! Стой здесь!
Сильвестр (входит, всматривается). Что?!
Пауза.
Вернулся?..
Порфирий. Вернулся!
Занавес
Конец
24 июля 1939 года
Гурджиев Г. И. Сценарий балета БОРЬБА МАГОВ (на русском).
Г.И. Гурджиев
БОРЬБА МАГОВ
Сценарий балета
Действие первое
Действие происходит в крупном торговом городе на Востоке.
Рыночная площадь, пересечение множества улиц и переулков; вокруг нее магазины и прилавки со всевозможными товарами – ткани, гончарные изделия, пряности; открытые взору мастерские портных и сапожников.
Справа – ряд прилавков с фруктами; двух- и трехэтажные дома с плоскими крышами и множеством балкончиков – некоторые завешены коврами, другие – стираным бельем.
Слева вдали на крыше чайханы играют дети; две обезьяны карабкаются по карнизам.
За домами видны извилистые улицы, ведущие к домам на склонах гор, мечетям и минаретам, садам, дворцам, христианским церквям, индуистским храмам, пагодам.
Вдали на горе видна башня старой крепости.
В рыночной толпе, снующей по площади и переулкам, можно встретить практически любого жителя Азии в своей национальной одежде: перса с крашеной бородой; одетого во все белое афганца с гордым и смелым выражением лица; балхистанца в белом остроконечном тюрбане и короткой белой безрукавке, из-за его широкого пояса торчат несколько ножей; полуголого индуса из Тамила с бело-красным трезубцем, символом Вишну, на выбритом лбе; хивинца в огромной черной меховой шапке и толстом стеганом халате; бритоголового буддийского монаха в желтом одеянии с молитвенным колесом в руках; армянина в черной чуке с серебряным поясом и черном картузе; тибетца в похожем на китайский костюме, отделанном ценным мехом; а также бухарцев, арабов, кавказцев, турков...
Купцы громко расхваливают свои товары, зазывая покупателей; нищие жалобными голосами выпрашивают милостыню; продавец шербета развлекает толпу забавной песенкой.
Уличный цирюльник, бреющий голову почтенному пожилому ходже, пересказывает городские новости и слухи портному, который обедает рядом в харчевне. По одной из улиц движется похоронная процессия; впереди мулла, за ним на похоронных носилках несут тело, покрытое саваном, следом идут плакальщицы. На другой улице завязывается драка, и все мальчишки бегут туда поглазеть на нее. Справа на шкуре антилопы сидит факир с распростертыми руками и устремленным в одну точку взором. Мимо него, не обращая внимания на толпу, проходит богатый и важный купец. За ним следуют слуги, нагруженные корзинами с покупками. Затем появляются несколько полуголых, покрытых пылью изможденных нищих, только что прибывших из голодных мест. В одной из лавок демонстрируют шали из Кашмира и других мест, вынося и показывая их покупателям.
Напротив чайханы устраивается заклинатель змей, и через мгновение его окружает любопытная толпа. Проходят ослы, навьюченные корзинами. Проходят женщины, одни в чадре, другие – с открытыми лицами. Горбатая старуха останавливается около факира и с благоговейным видом опускает деньги в стоящую рядом чашу для подаяний, сделанную из кокосового ореха. Она дотрагивается до шкуры, на которой сидит факир и уходит прочь, прикладывая руки ко лбу и глазам. Проходит свадебная процессия: впереди нарядно одетые дети, за ними шуты, музыканты и барабанщики. Проходит городской глашатай, крича во всю глотку. С одной из улиц доносятся удары кузнечного молота. Повсюду шум, гам, движение, смех, брань, молитвы, торговля – жизнь кипит вовсю.
Из толпы отделяются двое мужчин. Оба богато одеты. Один из них, Джафар – статный, стройный богатый перс лет тридцати-тридцати пяти. У него чисто выбритое лицо, черные усики, волосы коротко острижены. На нем легкий светло-желтый шелковый кафтан, опоясанный бледно-розовым кушаком, и синие шаровары. Поверх накинут парчовый халат, края которого расшиты серебром; на ногах высокие сапоги из светлой кожи, сверху отделанных золотом и драгоценными камням; на голове узорчатый индийский тюрбан с преобладанием бирюзовых оттенков, на пальцах – кольца с крупными изумрудами и бриллиантами. Второй мужчина – его приближенный друг Россула, одет не менее богато, но небрежно. Невысокий, дородный, хитрый и коварный, он главный помощник своему хозяину во всех любовных похождениях и интригах. Он всегда готов схитрить и очень изворотлив. На голове у него красная тюбетейка, поверх нее – желтый тюрбан; в руке - небольшие красные четки.
Джафар поглядывает на некоторые товары и время от времени останавливается поговорить с какими-то их своих знакомых, но явственно видно, что его ничто не интересует – каждое его движение выдает человека, пресыщенного удовольствиями. К равным себе он относится снисходительно-вежливо, на всех же остальных он взирает с презрением или отвращением. Он уже все пережил, все видел, и то, ради чего другие люди борются и напрягают все свои силы, для него уже не существует.
В этот момент из переулка слева от площади выходят две женщины. Одна из них, Зейнаб – молодая, лет двадцати двух, женщина индо-иранской внешности, выше среднего роста. Она одета в белую тунику с зеленым поясом на талии, ее гладко причесанные волосы с пробором посередине повязаны золотистой лентой, на голову наброшена чадра, однако лицо ее не закрыто. Другая – ее подруга и поверенная ее тайн Хейла, невысокого роста добродушная полная женщина. На ней синее бархатное одеяние и фиолетовая чадра, рот прикрыт платком.
Зейнаб держит свиток пергамента, обернутый шелковым платком. Она проходит по площади, щедро раздавая милостыню нищим. Джафар замечает ее и провожает ее глазами. Ее лицо о чем-то или ком-то напомнило ему при первом взгляде и поэтому он заинтересовался. Он спрашивает Россулу и своих знакомых о ней, но никто ее не знает.
В это время Зейнаб подходит к просящей милостыню женщине, рядом с которой стоит полуодетый мальчик с открытой раной на голой руке. Когда она дает мальчику подаяние, она замечает его рану, наклоняется к женщине и говорит о нем. Глядя на жесты, которые делает Зейнаб, можно понять, что она показывает женщине путь к месту, где мальчика смогут вылечить.
Все это время Джафар не переставал наблюдать за ней. Зейнаб хочет перевязать мальчику рану, но у нее нечем обернуть ее. Она снимает шелковый платок с пергамента и забинтовывает им рану мальчика. Затем она уходит вместе с Хейлой.
Джафар быстро что-то говорит Россуле. Очевидно, что он приказывает ему проследить за Зейнаб и узнать о ней все, что можно. Когда Зейнаб уходит, Россула следует за нею по той же улице. Джафар смотрит ему вслед, а затем медленно идет к женщине-попрошайке и заговаривает с ней. Он смотрит на платок, повязанный Зейнаб вокруг раны мальчика, как на нечто, что принадлежало ей, и, не зная почему, хочет его купить. Он предлагает женщине деньги, но она отказывается. Тогда Джафар бросает ей под ноги целую пригоршню денег и почти силой отбирает у мальчика платок, и затем медленно выходит в центр площади. Удивленная женщина подбирает брошенные монеты и, поднимая руки к небу, благодарит Джафара. Потом она берет мальчика за руку и уходит в сторону, указанную Зейнаб.
Россула возвращается и с безнадежным видом говорит Джафару, что Зейнаб – это не обычная женщина, к которой было бы просто подобраться. Продолжая разговаривать, они уходят по одной из улиц слева.
Наступает вечер. На одной из аллей заметна какая-то суматоха, и вскоре из нее появляется дервиш в окружении толпы людей, в которой множество женщин и детей. В последнее время он прославился по всей стране, и его уважают представители множества разных национальностей. Он произносит священные стихи и в ритм голосу делает движения, напоминающие гимнастику или танец.
Стихи означают:
Бог один для всех,
Но он в трех частях.
Люди сбиваются, потому что он и в семи частях.
В своей полноте он одной глубины, (?)
В своем делении он имеет множество глубин,
А в другой грани он и противоречив.
Он везде и во всех формах.
Когда люди видят его
Зависит от их качеств
Какой части они касаются
Но тот, кто несведущ
Видит часть как целое (и больше ничего)
И не сомневаясь, проповедует о нем
Этим он грешит
Поскольку действует против
Законов, установленных
В заповедях Самого Высшего.
А закон такой:
Я есть истина.
Твое неверие приближает
Тебя ко мне,
Поскольку тот, кто видит меня...
Окончание теряется в громких звуках барабанов, сопровождающих шарлатана, продающего некие снадобья.
Сгущаются сумерки. Один за другим, торговцы начинают собирать свой товар и закрывать лавки. В момент, когда толпа движется интенсивнее всего, опускается занавес.
Действие второе
Школа Белого Мага
Просторная комната, похожая на лабораторию или обсерваторию – тут и там полки, на которых стоят колбы, склянки и предметы фантастического вида, по своим очертаниям напоминающие современные приборы, а также пергаментные свитки и книги.
На заднем плане огромное окно, скрытое занавесями. Слева дверь, ведущая во внутреннюю комнату, справа – дверь на улицу.
В правом углу стоят песочные часы. С левой стороны – несколько низеньких столиков, на которых колбы, склянки и открытые книги.
У окна стоит телескоп странной конструкции, а слева на маленьком столике – прибор, похожий на микроскоп.
Справа от окна стоит похожее на трон большое кресло с высокой спинкой, на которой изображен символ эннеаграммы, а слева – небольшое кресло для помощника Мага.
Когда занавес поднимается, на сцене присутствует несколько учеников, среди них и мужчины, и женщины, а время от времени входят другие ученики. Это стройные, красивые молодые люди приятной наружности. Они одеты в белые туники, у женщин длинные, у мужчин – до колен. На ногах сандалии. У женщин гладко причесанные волосы, завязанные золотыми лентами; у мужчин ленты серебряные. У всех вокруг талии повязаны шарфы – у девушек желтые, оранжевые и красные; у мужчин – зеленые, темно-синие и голубые.
Все чем-то занимаются. Одни расставляют и чистят приборы, другие читают, третьи смешивают жидкости в склянках. К этому времени число учеников увеличивается.
Через дверь с улицы входит помощник Мага. Это невысокого роста старик с седой бородой, в очках. На нем желтая мантия поверх белого одеяния, на талии повязан фиолетовый шарф. На ногах – сандалии, на голове – скуфейка с фиолетовой лентой вокруг нее. В руке он держит длинные перламутровые четки, а на его груди на серебряной цепочке висит символ гептаграммы – семиконечной звезды в круге.
Ученики здороваются с помощником Мага, который благосклонно отвечает на приветствия, переходя от одного ученика к другому, осматривая и поправляя их работу. Ученики все прибывают. Заметно, что отношения между всеми ними добросердечные и дружелюбные.
Через внутреннюю дверь входит слуга и что-то говорит – судя по движениям присутствующих, понятно, что они кого-то ждут.
Входит Белый Маг. Это высокий, статный старец с длинной белой бородой и красивым лицом. Он одет в длинную белую мантию с широкими рукавами и оторочкой, из-под которой виднеется одеяние кремового цвета. На ногах сандалии. В руке – длинный посох с набалдашником из слоновой кости, а на груди – медальон с изображением эннеграммы из драгоценных камней, висящий на широкой золотой цепи.
На низкие поклоны учеников он отвечает доброй улыбкой, благословляя их. Затем медленно идет к трону и, еще раз благословив учеников, садится (в этот момент символ на троне загорается). Ученики по очереди подходят к нему, целуют ему руку, затем возвращаются на свои места и возобновляют прерванные занятия.
В этот момент входит Зейнаб. Она опоздала и запыхалась, торопясь. Она подходит к Магу и тоже целует ему руку. Судя по тому, как Маг приветствует ее, видно, что она – одна из любимых учениц. Потом она идет к другим ученикам и понятно, что она делится своими недавними впечатлениями о встрече с нищенкой и мальчиком.
Один из учеников идет к Магу, беседующему со своим помощником, и просит его что-то объяснить. Видно, что ответ заинтересовал всех, и постепенно все ученики собираются вокруг Мага и слушают. Продолжая объяснение, Маг встает (в этот момент символ на троне гаснет), идет к микроскопу и начинает что-то показывать. Ученики по очереди подходят к микроскопу и смотрят в него. Потом Маг подходит к окну и раздвигает занавеси. Видно чистое звездное небо. Он направляет телескоп к небу. Ученики по очереди смотрят в телескоп, одновременно слушая объяснения Мага.
Основная идея сцены следующая: то, что вверху, подобно тому, что внизу; а то, что внизу, подобно тому, что наверху. Каждое единство – это космос. Законы, которые управляют Мегалокосмосом, управляют также Макрокосмосом, Дейтерокосмосом, Мезокосмосом, Тритокосмосом и так далее, вплоть до Микрокосмоса. Изучив один космос, вы узнаете все другие. Ближайший из всех космосов для нашего изучения – Тритокосмос, а для каждого из нас ближайшим объектом изучения являемся мы сами. Изучив себя полностью, узнаешь все, даже Бога, поскольку люди созданы по его образу и подобию.
Сказав это, Маг медленно возвращается к своему трону.
Входит слуга и, приблизившись к Магу, сообщает, что некто просит позволения войти. Получив разрешение, слуга приводит нищенку с ребенком. Она падает ниц у ног Мага и просит о помощи, указывая на мальчика. Зейнаб также подходит к Магу и ходатайствует о мальчике.
Осмотрев рану, Маг обращается к двум ученикам, которые после этого уходят во внутреннюю комнату и возвращаются, один – с подушкой, на которой лежит палочка из слоновой кости с большим серебряным шаром на конце, а другой несет платок, чашу и кувшин с какой-то жидкостью. Маг наполняет чашу жидкостью из кувшина, намачивает в ней платок и прикладывает его к ране. Затем, с большой осторожностью, он берет палочку и, не касаясь раны, несколько раз проводит ею над рукой мальчика. Когда он убирает платок, раны уже нет.
Женщина, от удивления лишившись дара речи, падает на колени и целует край мантии Мага. Маг ласково гладит мальчика по голове и отпускает их.
Ученики расходятся по своим местам и возобновляют свои занятия. Маг проходит по комнате, подходя к некоторым из учеников, чтобы посмотреть их работу и дать необходимые указания. Спустя короткое время он что-то говорит всем ученикам и возвращается на свой трон.
Не медля, ученики оставляют свои занятия и выстраиваются в ряды, и, по знаку Мага, выполняют различные движения, похожие на танец. Помощник Мага проходит по рядам и поправляет позы и движения учеников.
Эти «священные танцы» считаются одним из главных объектов изучения во всех эзотерических школах Востока, как в древние времена, так и сейчас. Движения, из которых состоят эти танцы, имеют двойную цель – они содержат в себе и выражают определенное знание, в то же время служа методом достижения гармоничного состояния бытия. Комбинации этих движений выражают различные ощущения, порождают разные уровни концентрации мысли, создают необходимые усилия в различной деятельности и показывают возможные пределы личной силы.
Во время перерыва один из учеников показывает на песочные часы, после чего Маг приказывает им закончить прежние занятия и приготовиться к тому, что должно последовать дальше. А пока он подходит к окну и раздвигает занавеси.
За окном – раннее утро, над горизонтом встает солнце. Как только появляются первые лучи, Белый Маг со своим помощником и учениками позади него падают на колени. Они молятся.
Занавес медленно опускается.
Действие третье
Дом Джафара
Комната с альковом в правом углу, в которой, позади резных колонн, виден фонтан с мраморным основанием.
Слева дверь, ведущая во внутренние покои, сзади еще одна дверь, ведущая в сад.
Комната обставлена в персидско-индийском стиле. Справа, напротив возвышения для музыкантов, миндари – скамьи, покрытые коврами и подушками в несколько рядов. Слева – низенький диванчик, возле него несколько украшенных причудливой резьбой столиков. На одном из них стоит кальян и другие принадлежности для курения, на другом – набор для шербета, на третьем – небольшой гонг, а на четвертом – кувшин и тазик для умывания искусной и дорогой работы.
Джафар расхаживает по комнате. Он без мантии, на голове у него тюбетейка, украшенная драгоценными камнями. Каждое его движение и взгляд показывают, что находится в нетерпеливом ожидании. Время от времени он присаживается на диван и погружается в размышления. Он чувствует, что с ним происходит нечто новое. Он, всегда надменно спокойный и безразличный, теперь взволнован и обеспокоен безделицей, которая прежде даже не привлекла бы его внимания. Последнее время он стал раздражителен, подозрителен и нетерпелив.
Прямо сейчас он ждёт Россулу, который должен принести ему новости насчет Зейнаб – той женщины, которую месяц назад они встретили на базаре, и которую Россула, несмотря на его всю его опытность и умение в подобных делах, так и не смог завлечь в гарем Джафара. Вчера Джафар приказал Россуле устроить это любой ценой, и теперь его тревожит то, что он сгорает от нетерпения, ожидая результата решающих усилий Россулы. В то же время он чувствует, что это просто смешно. И прежде его не раз прельщала та или иная женщина, но пока Россула делал свое дело, Джафар либо забывал о ней, либо переставал интересоваться ею. Но теперь он не только не забыл ее – он с каждым днем он все больше и больше думает о Зейнаб.
Россула входит через заднюю дверь. Он выглядит очень растроенным – и это на него совершенно непохоже. Он приносит обескураживающие новости – он говорит Джафару, что попытки выполнить его приказания не удались, и он даже не знает, что еще предпринять.
Оба погружаются в размышления. Все способы завлечь Зейнаб уже испробованы, все, что можно было сделать в подобном деле, уже сделано. Они посылали ей самые разнообразные подарки: древние индийские ткани, расшитые золотом; лучших лошадей – арабских, китайских и персидских; сибирские меха; даже такую редкость, как бесценное изумрудное ожерелье – дар раджи Колхапура дедушке Джафара; знаменитую голубую жемчужину Джафара – «Слеза Цейлона»; и, наконец, они предложили Зейнаб в качестве отдельного гарема со своими слугами и служанками «Дуновение Рая» – знаменитый замок Джафаров, гордость их семьи. Но все тщетно. Зейнаб ничего не слушала и от всего отказалась.
Джафар в смятении. Он все больше убеждается, что не в силах примириться с невероятным упорством Зейнаб, и правда заключается в том, что именно она является причиной его нынешнего необычного душевного состояния. Ясно, что в этой женщине есть нечто исключительное. То, как он, Джафар, воспринимает поражение Россулы, поражает даже его самого. В любом другом случае он бы лишь возмутился, но сейчас, несмотря на то, что он едва может сдержать свой гнев, в глубине души он чуть ли не радуется тому, что на этот раз обычные приемы Россулы не годятся.
Странные вещи, которые он в себе замечает, направляют внимание Джафара на его отношения с женщинами вообще.
Благодаря богатству, высокому положению и обстоятельствам рождения, его жизнь сложилась так, что уже в семнадцать лет он был окружен женщинами, и, в соответствии с обычаем его страны, владел собственным гаремом. Сейчас ему тридцать два и он все еще не женат, несмотря на то, что уже давно хотел бы жениться, хотя бы только для того, чтобы доставить удовольствие своей старой матери, которая постоянно мечтает о его женитьбе. Однако до сих пор он не встретил ни одной женщины, которая, на его взгляд, могла бы быть его женой. Многие женщины привлекали его, и поначалу казались преданными и заслуживающими доверия, но, в конце концов, оказывалось, что вся их любовь и преданность лишь прикрывали мелочные эгоистичные чувства. У кого-то это была страсть к молодому и красивому мужчине, у других – жажда роскоши, которую он мог им обеспечить, у третьих – возможность стать фавориткой аристократа, и так далее.
Все, что он повидал, крайне разочаровало его. Он так и не повстречал женщину, к которой испытывал бы доверие и почтение, которые, на его взгляд, он должен был бы питать по отношению к своей жене. Для него стало привычным взирать на всякие красивые слова о любви и общности душ всего лишь как на фантазию поэтов, и мало-помалу для него женщины стали походить одна на другую, отличаясь лишь типом красоты и разными проявлениями страсти. Его гарем стал частью его коллекции драгоценностей. Он также не мог жить без своих женщин, как и без курения, музыки или роскоши, которая всегда окружала его. Но он давным-давно перестал искать в женщине нечто большее, нежели мимолетное наслаждение красивой вещью.
И вдруг сейчас в нем неожиданно появилось странное любопытство по отношению к этой непостижимой женщине. Возможно ли, что она в самом деле столь отлична от других? Внешность Зейнаб поразила его с первого взгляда, но что он знает о ней, кроме этого? По сведениями, добытым Россулой, Зейнаб – единственная дочь богатого хана из далекого города. Ей двадцать один год, она совершенно свободна и ни к кому не просватана, живет очень тихо с несколькими слугами и старой женщиной по имени Хейла. Она занималась науками, а сюда приехала, чтобы обучаться в школе знаменитого мага. Эту школу она посещает каждый день, а остальное время проводит дома, погруженная в занятия. Во всем этом многое странно, непохоже на то, к чему он привык. Мысль о Зейнаб не дает ему покоя, он не может не думать о ней и готов на любую жертву, лишь бы обладать ею.
В глубокой задумчивости Джафар встает и ходит по комнате. Затем, очевидно, охваченный какой-то новой мыслью, снова садится на диван.
Теперь ясно, что невозможно соблазнить Зейнаб чем-то, что привлекает других женщин и преодолевает их сопротивление. Раз так, то остается лишь одно – жениться на ней. Рано или поздно ему придется взять кого-нибудь в жены, а прекраснее Зейнаб он не найдет никогда. И если она окажется такой женой, о какой он мечтал, то это будет счастьем для него и радостью для его матери.
Джафар размышляет таким образом некоторое время, и наконец сообщает о своем решении Россуле. Затем вызывает слугу и отдает ему приказание. Слуга выходит через левую дверь.
Вскоре через эту же дверь входит пожилая женщина. Это одна из ближайших родственниц Джафара. Он объясняет свое решение и просит ее выступить в качестве свахи. Пожилая дама отвечает, что с удовольствием выполнит его поручение и не сомневается в успехе. Общеизвестно, что все самые знаменитые красавицы страны почли бы за счастье стать его женой, зная о его состоянии и положении. Она уходит во внутренние апартаменты и вскоре возвращается в сопровождении двух других женщин. Все трое, закрывшись чадрами, отправляются к дому Зейнаб.
Задумавшись, Джафар продолжает сидеть на диване. Россула ходит по комнате и время от времени поворачивается к Джафару, предлагая разного рода развлечения. Но мысли Джафара далеко, и его ничто не привлекает. Он с рассеянным видом слушает Россулу и, наконец, только чтобы отделаться от него, соглашается с одним из его предложений.
По зову Россулы немедленно входят музыканты, образуя смешанный оркестр из афганских, индийских и туркестанских музыкальных инструментов. Вот каковы эти инструменты: цитра (род балалайки с длинным грифом и семью струнами, звук извлекается смычком), дутар (род балалайки с двумя струнами, играют пальцами), рабаб (три струны из кишок, три медные, играют с помощью небольшого деревянного медиатора), тар (типа мандолины с длинным грифом и семью струнами, играют как на мандолине), саз (тоже типа мандолины), калуп (подобие цитры с множеством железных и медных струн, играют с помощью медиатора из кости, надетого на палец), зурна (род дудки), хиджаб (род скрипки), даф (тамбурин), давул (род барабана), кавал (вид флейты), галюк (подобие кларнета), а также и другие. Музыканты рассаживаются на миндари и начинают игру.
Как только зазвучала музыка, появляются танцовщицы из гарема, танцуя парами.
Всех их привезли из разных стран. За их красоту, равно как за их умение и ловкость, они считаются искуснейшими в стране. Люди приходят издалека, только чтобы увидеть их. Ни один иноземец, видевший их совместный танец, не мог не прийти в восторг, а когда каждая из них танцует танец своей собственной страны, самые искушенные знатоки приходят в экстаз.
Двенадцать танцовщиц, все одеты в костюмы своей нации. Сегодня, то ли из-за того, что они чувствуют настроение своего хозяина, то ли потому, что они долго не танцевали перед ним, они танцуют с полной отдачей и страстью.
Сначала тибетская танцовщица исполняет один из танцев своей загадочной родины. Следом за ней армянка из Муши под аккомпанемент медленной музыки представляет любовный танец своей страны, почти усыпляющий, но полный скрытого огня. После нее в танце, легком, словно воздух, выходит осетинка с Кавказа. Потом цыганка, дочь народа, забывшего свою родину, в зажигательном круговороте словно рассказывает о свободе степей и далеких огнях табора. После нее аравийка, сначала медленно, потом все убыстряя и убыстряя движения, доходит до сумасшедшего темпа, а потом вдруг расслабляется и постепенно впадает в экстаз. Затем выходят балкистанка, персиянка, профессиональная танцовщица из Индии – каждая из них своими движениями выражает душу, нрав, темперамент и характер своей страны.
Джафар, будучи безразличным ко всему остальному, всегда получал наслаждение от своих танцовщиц, но сегодня, глядя на них, он едва ли их видит – настолько глубоко он погружен в свои мысли и чувства.
Во время одного из групповых танцев возвращаются женщины-посланницы. С сокрушенным видом пожилая женщина говорит Джафару, что его предложение не принято. Джафара, обезумев от ярости, выгоняет всех из комнаты и остается наедине с Россулой. Оба молчат.
Джафар большими шагами меряет комнату. Он мог ожидать чего угодно, но только не этого. Это переходит всякие границы. Никогда в своей жизни не испытывал он такого унижения. Россула ошеломлен не меньше, чем Джафар. Он стоит в глубокой задумчивости и мучительно размышляет. Вскоре лицо его проясняется, он подходит к Джафару и что-то говорит ему.
Джафар мрачно слушает. То, что предлагает Россула, противоречит его глубочайшим убеждениям, но он оскорблен и возмущен, и во чтобы то ни стало хочет настоять на своем. Его страсть к Зейнаб чуть ли не превратилась в ненависть, и его одолевает желание отомстить за свое унижение. Россула продолжает уговаривать его. Наконец, после непродолжительной внутренней борьбы, Джафар соглашается.
Они зовут слугу и отсылают его с поручением.
Джафар с мрачным и гневным выражением лица снова усаживается на диван. Россула ходит по комнате, довольный своей находчивостью и изобретательностью.
Вскоре входит старая колдунья в сопровождении слуги.
Она низенькая и сгорбленная, у нее большой крючковатый нос, взъерошенные седые волосы и бегающие глаза. Лицо смуглое, большая волосатая бородавка на левой щеке; руки с длинными грязными ногтями – тонкие и жилистые. На ней короткая грязная накидка фиолетового цвета и черные шаровары; на ногах – старые турецкие туфли. Она закутана в грязную черную чадру с множеством разноцветных заплаток, в руке – простая деревянная палка.
Джафар спрашивает колдунью, может ли она навести любовные чары на женщину, чтобы та влюбилась в него. Колдунья с самоуверенным видом отвечает утвердительно, но, услышав имя женщины, она содрогается от страха и говорит, что в этом случае она бессильна. Они предлагают ей золото, но на этот раз золото не помогает.
Колдунья не может ничего сделать сама, но говорит им, что есть один человек, который, если захочет, сможет заколдовать Зейнаб. Его можно уговорить, но для этого надо будет дать ему много, много золота.
Джафар и Россула советуются; они задают колдунье вопросы и, очевидно, решают отправиться немеденно.
Колдунья соглашается проводить их.
Входит слуга и помогает им одеться. Тем временем по приказу Джафара из внутренних покоев слуги приносят мешки, наполненные дарами. Затем, в сопровождении слуг, несущих мешки, Джафар и Россула уходят через заднюю дверь.
Занавес.
Действие четвертое
Школа Черного Мага
Большая пещера. У задней стены в середине выступ, справа – подъем, ведущий ко входу, слева проход, ведущий внутрь пещеры.
С левой стороны в темной нише подобие печи или очага, в котором ярко горит огонь. На решетке стоит бурлящий котел, из которого время от времени вырываются клубы зеленоватого дыма. Перед очагом сидит лохматое полуголое существо, которое мешает угли трезубцем странной формы и подбрасывает дрова в огонь. Над очагом в нише висит человеческий скелет, а сбоку торчат вилы еще более странной формы. В центре пещеры, ближе к задней стене, стоит большой камень, формой напоминающий трон. Сверху на шесте свисает символ пентаграммы.
К потолку подвешены чучела разных животных: совы, жабы, летучих мышей, а также человеческие и звериные черепа.
Тут и там стоят низенькие столики, на которых разбросаны различные предметы; повсюду в беспорядке валяются колбы, склянки, книги и пергаментные свитки.
По пещере свободно разгуливают черные кошки и ползает огромный удав.
Это школа прославленного Черного Мага.
Когда поднимается занавес, одни ученики ходят по пещере, другие занимают свои места. Некоторые раскладывают карты, как бы гадая, другие разглядывают линии на ладонях друг у друга; кто-то, собравшись в углу, готовит снадобья.
Ученики – мужчины и женщины разного возраста, молодые и старые, все, как один, неприятной наружности. Один или двое уродливы и худы, с бегающими глазами, всклокоченными волосами и бородавками на лице. Студенты двигаются резко, угловато и нелепо. Друг к другу они относятся насмешливо и даже враждебно. Они неряшливо одеты в короткие фиолетовые рубахи и черные штаны. На ногах у них турецкие туфли. Единственное различие в одежде мужчин и женщин составляют черные вельветовые пояса и черные платки у женщин. У некоторых на лице и на руках татуировки.
Один из учеников рядом с троном начинает медленно делать странные, ритмичные движения, которые явно по вкусу остальным – один за другим они оставляют свои занятия и присоединяются к нему. По мере увеличения их числа движения убыстряются и становятся все более разнообразными, и постепенно они образуют круг и начинают водить бешеный хоровод вокруг трона. В момент наивысшего пика с левой стороны пещеры слышится какой-то шум и стук.
Круг мгновенно распадается. Начинается беспорядочная беготня и суматоха. В страхе натыкаясь друг на друга, ученики кидаются занять свои места и хватаются за свои предыдущие занятия, стараясь создать впечатление, что они их не прерывали.
Из внутренней пещеры входит Черный Маг. Это человек среднего роста, худой, у него черные глаза и длинные ресницы, густые нечесаные волосы и борода с проседью. Его движения порывисты, в присущей только ему манере, взгляд презрительно-проницательный. На нем короткое черное шелковое одеяние, из-под которого видно еще одно, ярко-красное. На ногах турецкие туфли; на голове – черная тюбетейка. В руке у него длинный кнут, на груди на черном шелковом шнурке висит золотой пентакль.
Когда Маг входит, все падают ниц. Идя к трону, ни на кого не глядя, он наступает на одного из учеников. Он опускается на трон (в этот момент символ над троном загорается). Он распахивает одежды и обнажает грудь и живот. Ученики по очереди поднимаются, подходят к нему и целуют живот. Одного из них Маг ударом сбивает с ног. Другие исподтишка злорадствуют и насмехаются над упавшим.
Когда церемония целования живота закончена, по приказу Мага ученики выстраиваются справа и слева от него и по его знаку начинают исполнять различные движения.
Во время одной из пауз с улицы входит старая колдунья со свечой в руке. Медленно, со страхом подходит она к Черному Магу, целует его живот и, подобострастно кланяясь, говорит ему что-то, показывая на вход.
После короткого раздумья, Маг кивает в знак согласия. Старуха выходит наружу и быстро возвращается с Джафаром, Россулой и двумя слугами, несущими мешки с дарами. Слуги заходят, дрожа от страха, с ужасом и удивлением озираясь вокруг. Дойдя до центра пещеры, они бросают мешки и стремглав убегают. Россула и даже Джафар напуганы ничуть не меньше слуг.
Джафар подходит к Магу и сообщает ему о своем желании. Маг слушает, но как только Джафар упоминает имя Зейнаб, он наотрез отказывается делать что бы то ни было, как и колдунья, зная, что Зейнаб – ученица Белого Мага.
Джафар настаивает. Показывая на мешки, он вытаскивает свой кошелек, снимает драгоценности и кольцо с пальца и бросает все это к ногам Мага.
При виде золота и драгоценностей Маг колеблется и наконец соглашается наслать чары, если Джафар раздобудет нечто, к чему недавно прикасалась Зейнаб. Джафар размышляет и вдруг, вспомнив о шелковом платке, который он купил у нищенки, достает его и отдает Магу. Маг указывает ему на угол пещеры и просит подождать там. Затем он властным голосом отдает какие-то приказы своим ученикам.
Одни из них выдвигают стол в центр пещеры и накрывают его черной скатертью, расшитой красными знаками Зодиака и каббалистическими символами. Другие уходят во внутреннюю часть пещеры и возвращаются с различными предметами, среди которых жезл из черного дерева с золотым набалдашником и ком мягкой глины. Все это они помещают на стол. Рядом с глиной они кладут раскрытую толстую книгу с необычными иероглифами и изображением гексаграммы, а также урну, из которой торчит человеческая берцовая кость.
Маг снимает с себя одежды и, взяв у одного из учеников мазь, намазывает ею тело, снова облачается и надевает поверх халат с очень широкими рукавами. Он весь расшит знаками Зодиака; на спине – вышитый символ пентаграммы, на груди – череп со скрещенными костями. На голову он надевает остроконечный головной убор с вышитыми на нем большими и маленькими звездами.
Затем он берет шелковый платок Зейнаб и, скомкав его, помещает в центр глиняного кома, из которого затем лепит некое подобие человеческой фигуры. Расположив фигурку на столе, он чертит вокруг него большой круг, в котором собираются все ученики. Маг, встав около стола, отдает приказание. Ученики тут же образуют цепочку, в которой чередуются мужчины и женщины. Мужчина справа от Мага и женщина слева от него свободными руками поддерживают Мага под локти. Некоторые ученики остаются за пределами цепочки.
Маг берет жезл в правую руку, а левой делает пассы и шепчет магические заклинания.
Видно, что стоящие в цепочке ученики судорожно извиваются; некоторые слабеют и даже падают. Их место немедленно занимают те, кто остался снаружи цепочки, стараясь сделать это как можно быстрее, чтобы цепь не прервалась.
Глиняная фигурка на столе постепенно начинает светиться – сначала слабо, а потом все сильнее и ярче.
Двое учеников работают около печи: один непрерывно подбрасывает в нее дрова, другой ворошит угли. Огонь в печи бушует все сильнее, наружу вырываются длинные языки пламени.
По мере того, как идет время, движения учеников в цепочке становятся все более неистовыми и ужасными, они явно держатся из последних сил. Да и сам Маг прилагает неимоверные усилия.
Глиняная фигурка светится еще сильнее, когда над ней проносится жезл, а временами она ярко вспыхивает. Над котлом слышен нарастающий шум, и в тот момент, когда шум становится очень громким, свет в пещере тускнеет и внезапно над печью появляется тень Зейнаб и медленно начинает светиться. По мере того, как тень становится все яснее, пар из котла идет все меньше и меньше. Огонь в печи бушует еще яростнее. Набалдашник жезла и глиняная фигурка ярко мерцают. Маг и все ученики в цепи бьются в конвульсиях. Шум в пещере усиливается и становится подобным раскатам грома, и во время одного из этих страшных взрывов пещера погружается в темноту.
Мало-помалу снова светлеет. Тени Зейнаб над котлом больше не видно. Огонь в печи погас. Утомленные до крайности ученики лежат на полу. Даже Маг полулежит на троне, ослабевший и выдохшийся. Один за другим ученики начинают вставать. Менее истощенные дают другим какое-то питье и помогают подняться.
Маг, частично восстановив силы, берет глиняную фигурку, заворачивает ее в ткань и вручает Джафару, давая указания.
Произошедшее настолько потрясло Джафара и Россулу, что сперва они не могут и пошевелиться. Однако через некоторое время, еле волоча ноги, они уходят вместе со старой колдуньей.
Маг, теперь уже полностью пришедший в себя, берет мешки с дарами и вываливает их содержимое на пол. Ученики с диким ликованием набрасываются на них и расхватывают, после чего танцуют вокруг Мага.
В разгар бешеной пляски занавес опускается.
Действие пятое
Сцена та же, что и во втором действии
Когда занавес поднимается, на сцене Белый Маг и все ученики, за исключением Зейнаб.
Маг и его помощник беседуют, наблюдая за учениками, которые, разделившись на группы, делают движения, напоминающие танцевальные.
Вдруг стремительно вбегает Хейла, падает на колени перед Магом и жестами торопливо рассказывает о том, что случилось с Зейнаб.
То, о чем она рассказывает, настолько неожиданно, что сперва Маг едва может понять, о чем вообще идет речь. Он изумлен. В глубоком раздумье он встает и начинает ходить по комнате. Ученики также поражены. Время от времени Маг поворачивается к Хейле, чтобы подробнее расспросить ее о случившемся.
Наконец он принимает решение и, повернувшись к ученикам, предлагает им план. Некоторые из них кивают в знак согласия. Выбрав одного из них, Маг усаживает его на стул, берет за обе руки и смотрит ему в глаза. Видно, что ученик постепенно погружается в сон. Когда его глаза закрываются, Маг делает несколько пассов над его телом, с головы до ног. Ученик погружен в гипнотический сон. Маг задает несколько вопросов спящему. По движению губ видно, что ученик отвечает. Комната погружается в полутьму.
Суть ответов ученика воспроизводится в ряде изображений, появляющихся на задней стене.
Комната Зейнаб. Она одна. Каждое ее движение и жест, выражение лица свидетельствует о том, что внутри нее происходит сильная борьба. Иногда она вскакивает и нервно ходит по комнате; в какой-то момент кажется, что она поборола то, что мучает ее, но тут же, охваченная чем-то, превосходящим ее рассудок, она бессильно падает на диван. Она страдает ужасно; это явствует из ее полных горя и отчаяния жестов. Временами кажется, что она защищается от чего-то; ее разум упорно сопротивляется непонятному то ли чувству, то ли желанию, которое вселилось в нее.
Войдя, Хейла не узнает свою госпожу – так изменилось ее отношение к ней. Зейнаб едва замечает Хейлу, и на все слова и уговоры старой женщины либо не обращает внимания, либо отвечает нетерпеливыми раздраженными жестами. Удрученная, Хейла уходит.
Мукам Зейнаб нет конца; борьба внутри нее все усиливается. Смешанное чувство страха, желания, любопытства и стыда все чаще сменяют друг друга. То становясь крайне возбужденной, то вдруг ослабевая, она мечется туда-сюда, не находя покоя.
В момент наибольшего беспокойства входит Россула, неся поднос с драгоценностями от Джафара. Зейнаб нисколько не удивлена этим необычным визитом; наоборот, похоже, она ожидала его.
Россула, преподнеся дары, заговаривает с Зейнаб; она взволнованно и возбужденно расспрашивает его. Она берет драгоценности и нервозно и машинально примеряет их перед зеркалом. Россула тем временем пытается в чем-то ее убедить, с чем она в конце концов соглашается.
Снова входит Хейла. Она изумлена и ничего не может понять, настолько все это для нее необычно. Наконец, поняв, что происходит, она бросается перед Зейнаб на колени, умоляя не соглашаться на уговоры Россулы. Но Зейнаб кажется совершенно изменившейся. Нетерпеливо топая ногой, она приказывает старой женщине замолчать. Затем, наспех накинув плащ, она уходит с Россулой.
Хейла остается, сбитая с толку, она не знает, что делать. Внезапно она принимает решение, набрасывает шаль и поспешно выходит.
Картина медленно тает и возвращается обычный свет.
Маг отходит от спящего ученика и ходит по комнате, явно сбитый с толку. Его помощник, сделав несколько пассов над телом загипнотизированного ученика, будит того, а другой ученик подносит ему воды. Маг понимает теперь, что произошло. Он негодует и в то же время он обеспокоен. В волнении он меряет шагами комнату, затем садится в кресло и погружается в глубокое размышление. Внезапно он встает и отдает приказания своему помощнику и ученикам. Они быстро выполняют его инструкции. Они передвигают стол в центр комнаты и освобождают место вокруг него. Из внутренней комнаты приносятся различные вещи: какие-то одеяния, необходимые приспособления и жезл на особой подушке. Стол накрывают белой скатертью, расшитой по краям астрономическими знаками и химическими формулами.
Маг облачается в одеяния. Он надевает перевязь, подпоясывается и обувается в подобие резиновых бахил. Он надевает головной убор в виде повязки из трех конусов остриями вверх, похожей на корону. Поверх он надевает облачение, напоминающее ризу. Тем временем ученики под руководством помощника Мага тоже готовятся, надевая такие же пояса и бахилы. Они моют руки, несколько раз стряхивая с них воду, и выпивают затем какое-то питье.
Теперь Маг готов. Он берет сосуд, похожий на большой кубок и ставит его перед собой; другой сосуд подобной же формы, но меньшего размера, он ставит на противоположную сторону стола. Сосуды соединены медной планкой. Ученики подают ему жидкость, которую он наливает в сосуд. Вокруг первого сосуда стоят девять свечей, шесть из них зажжены, три – не горят. Взяв жезл в левую руку, Маг делает правой рукой особые движения и произносит какие-то непонятные слова. В это же время четверо учеников, двое мужчин справа и две женщины слева, совершают пассы над меньшим сосудом. Заметно, как быстро они теряют при этом силы. Их сразу же сменяют другие пары. Постепенно большой сосуд начинает светиться изнутри. В момент, когда появляется свечение, загораются три незажженных свечи. Каждый раз, когда Маг подносит жезл к сосуду, возникает искра, причем с каждым разом она становится все ярче и ярче. Все более и более ярко горят свечи и символ на троне. Церемония продолжается. Движения Мага становятся еще энергичнее и напряженнее. Шум внутри сосуда усиливается и, когда он достигает пика, доносится ужасающий треск и раздается страшный взрыв.
Комната тут же погружается во тьму, затем постепенно становится немного светлей, и на задней стене появляется изображение части пещеры Черного Мага, который, сидя на троне, дергается в конвульсиях. Белый Маг продолжает свои манипуляции. Снова происходит страшный взрыв, раздается эхо, доносятся пронзительные свистящие звуки и чудовищный рев. Черный Маг в судорогах сваливается со своего трона. На сцене снова полная темнота и наступает гнетущая тишина, затем свет возвращается и изображение пещеры исчезает.
Белый Маг совершенно обессилен, ученики, которые ему помогали, измучены не меньше, но работа продолжается. Они быстро убирают со стола сосуды и свечи, а затем передвигают стол и на его место ставят кресло, в которое садится Маг. Вокруг него стоят ученики. Маг, держа в руке жезл, закрывает глаза и сосредоточенно шепчет какие-то слова. Постепенно свет снова затухает. Появляется другое изображение. На нем часть комнаты Джафара. Он полулежит на диване с выражением радости и довольства на лице, поглядывая в сторону внутренних покоев. Он явно кого-то ожидает.
Входит Зейнаб с женщиной, которая, низко склонившись перед Джафаром, жестом показывает на Зейнаб и, непрерывно кланяясь, уходит из комнаты.
Джафар встает, берет Зейнаб за руку и уже собирается усадить ее на диван, как вдруг они словно застывают на месте. Чуть погодя, они поворачиваются, подобно автоматам, и выходят из комнаты.
Улицы и переулки, по которым они проходят, как во сне, мелькают одна за другой. Изображение исчезает. Снова становится светло, и в этот момент входят Джафар и Зейнаб. Оба находятся в сомнамбулическом состоянии. При их появлении Маг со вздохом облегчения встает и начинает снимать облачение. Его помощник с несколькими учениками усаживают Джафара и Зейнаб на стулья и будят Зейнаб.
Придя в себя, Зейнаб обращается к собравшимся, чтобы узнать, что случилось. Ей объясняют, указывая на спящего Джафара. Внезапно она вспоминает обо всем и разражается рыданиями, а затем в порыве раскаяния бросается в ноги Магу.
Он, закончив разоблачаться, наклоняется к ней, гладит ее по голове и поднимает с пола. Затем идет к Джафару, который уже пришел в себя.
Джафар, сперва ошеломленный, узнав, что произошло, приходит в волнение и чуть ли не угрожает Магу. Маг со спокойной улыбкой отвечает ему. Джафар слушает и постепенно успокаивается. Маг продолжает говорить, жестикулируя и показывая на заднюю стену, где снова появляется изображение.
Видна улица, заполненная людьми; там старики, женщины и дети. Из боковой улочки входит Джафар; он стар, согбен и немощен. За ним следует некое светлое существо. Видно, что невзирая на возраст, Джафар очень счастлив и бодр. Все в толпе приветствуют его, мужчины и женщины кланяются ему, а дети подносят цветы. Всюду радость, счастье и благодать.
Маг продолжает свой рассказ. Изображение меняется.
Та же улица, заполненная людьми. Снова появляется Джафар, но на этот раз его сопровождает ужасное существо темно-красного оттенка. Джафар – старик со злым, недовольным лицом. Те, кто встречает его на пути, с отвращением сворачивают в сторону и плюют ему вслед; мальчишки бросаются в него камнями: ясно, что всем противен даже его вид.
Изображение исчезает. Маг продолжает говорить. Видно, что Джафар встревожен и поглощен внутренней борьбой.
Основная идея того, что сказал Маг, такова: что посеешь, то и пожнешь. Дела настоящие определяют будущее; все хорошее и все плохое – все это результат прошлого. Задача каждого человека – в каждый момент настоящего подготавливать будущее, улучшая прошлое. Таков закон судьбы. И «Да будет благословен источник всех законов».
В этот момент свет снова тускнеет; видно какое-то движение. Когда свет загорается вновь, помощник Мага стоит справа от него, а Зейнаб – слева; она целует руку Мага. У его ног в почтительной позе склонился Джафар. В комнате и вокруг трона застыли в разных позах ученики.
Маг поднимает правую руку. Он смотрит вверх и, как бы молясь, шепчет такие слова:
«Бог-Создатель и все Его помощники, дайте нам силы помнить себя во все времена, дабы мы могли избежать непреднамеренных действий, ибо только через них зло может проявить себя».
Все поют: «Да явятся силы Преображения».
Маг благословляет всех обоими руками и говорит: «Да пребудут с вами согласие, надежда, усердие и справедливость вовеки».
Все поют: «Аминь».
Занавес.
Перевод Михаила Стукалова под редакцией Андрея Степанова и эгидой Общества Друзей Абсолюта.
Продолжение следует
Свидетельство о публикации №225031500908